Пуговица Артемьева Галина
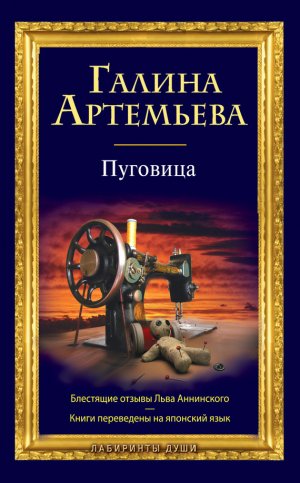
Я накинула халат. Он пахнул плесенью, но было приятно ощущать свое тело и понимать, что скоро смою с него грязь, въевшуюся в каждую клеточку кожи.
Через час-полтора старушка вновь заглянула ко мне.
— Ну вот, дело сделано. Теперь давай стричься по-людски.
В руках у нее была странная машинка. Я вздрогнула и замахала руками.
— Не бойся, это машинка специально для стрижки. Сын как-то привез, когда у нас овцы были… Давай, садись. Тут у тебя такое, что только машинкой и сострижешь!
Мне нужно было ее слушаться. Я покорно подставила голову. Металлические зубцы машинки защелкали, вгрызаясь в мои всклокоченные волосы. Мне было больно. А потом — холодно. Когда старушка закончила работу, я провела рукой по голове — она была лысой.
— Сиди уж тут до вечера, — сказала старушка, — я схожу к Яковлевне, предупрежу, чтобы баню не закрывала и воды оставила. С горячей водой у нас беда — на всех не хватает… Если будешь выходить — то только в сад. А больше никуда. Замерзнешь.
Она завернула в газету состриженные пряди и пошла закапывать их в огороде…
11
Я снова легла на свою кровать и ощутила, как хорошо лежать под одеялом без одежды. Время от времени дотрагивалась до головы, и это прикосновение было приятным. Я задремала. А потом произошло то, что больше никогда не повторилось, даже когда мой рассудок окончательно прояснился. Даже сейчас…
Вначале мне показалось, что кто-то сел на край кровати, — она даже немного прогнулась. Затем — рука… Она скользнула по моему лицу с такой нежностью, что я не осмелилась открыть глаза и затаила дыхание. Руки и дыхание были такими реальными, такими знакомыми… Потом кто-то обнял меня поверх одеяла, обхватил, как ребенка, и теплые губы прикоснулись к моему уху. Я услышала шепот: «Я буду любить тебя долго… Всегда… Я так тоскую по тебе…» Это был не сон, не бред, не плод больного воображения. Я чувствовала тяжесть тела, крепкое объятие, запах табака. Теперь я понимаю, что это был фантом, материализовавшийся по моему желанию. И даже когда какой-то звук, донесшийся из леса, заставил вздрогнуть и вернуться из того измерения, вмятина на кровати рядом со мной оказалась теплой…
…Когда солнце упало за горизонт, моя хозяйка повела меня в село, в баню. Перед этим она надела на меня фуфайку, а на голову повязала колючий шерстяной платок. По узкой тропинке мы спустились на центральную (и единственную) улицу села. Дома стояли погруженные в сумерки, их побеленные стены были будто подсвечены изнутри синим пламенем. Во дворах было пусто. День закончился. Я шла и смотрела себе под ноги, словно меня вели на эшафот.
Вчерашняя гостья уже поджидала нас у покосившегося забора, огораживающего строение без окон. Это была баня.
— Давай быстрее — вода стынет! — сказала Яковлевна, заводя меня в душевую комнату.
Чего от меня хотели? Что делать?
Видя мою беспомощность, бабушки быстренько стянули с меня фуфайку, туфли, халат, платок и поставили под кран. Яковлевна крутанула его, и на меня полилась тоненькая струйка теплой воды.
— На вот мыло, — сказала моя хозяйка, — мойся как следует!
И она показала, как это делается. Я повторила ее движения. Пока я кое-как размазывала по себе пену, старушки стояли неподалеку в одинаковых позах: подпирая рукой подбородок. Их глаза были полны мировой скорби.
— Господи помилуй, — наконец нарушила молчание Яковлевна. — Кожа да кости…
Мыльная вода бурлила у меня под ногами и с бульканьем вытекала в зарешеченный водосток. Я терла себя изо всех сил до тех пор, пока эти мыльные потоки не стали чистыми. Вода закончилась.
— Все! — сказала банщица. — Воды больше нет. Принимай клиента! — весело подмигнула моей хозяйке, и та проворно завернула меня в большую простыню, которую принесла с собой. Потом достала из пакета мою одежду.
— Вот. Все чистое. Можешь надевать.
Потом мы почти в кромешной темноте отправились к Яковлевне, которая жила неподалеку.
После душной бани приятно было дышать свежим воздухом, а еще приятнее — оказаться в избе, где нас уже ждал накрытый стол — варенье, яблоки, пирожки с картошкой и творогом в большой кастрюле, завернутой в полотенца. Изба была похожа на нашу — такие же яблоки, сливы, орехи, разложенные на подоконниках, низки сушеных грибов, старенький телевизор, накрытый потертой бархатной скатеркой, круглый стол посредине.
Яковлевна выложила пирожки в мисочку, они поблескивали румяными боками, будто муляжи. Усадив нас за стол, хозяйка достала из буфета бутылку — почти черную и такую запыленную, будто она простояла там лет двадцать. Ни бокалов, ни рюмок у нее не оказалось, поэтому она поставила перед нами большие пузатые чашки. Моя старушка подмигнула мне:
— Это знаменитое ежевичное вино. Яковлевна мастер в этом деле!
— Да какое там! Все в прошлом. Остатки одни, — пряча довольную улыбку, сказала Яковлевна. — Бывало, ко мне со всех районов съезжались за бутылкой, особенно летом и осенью, когда туристов много. Сначала я под сельпо стояла, а потом уж они сами меня искали… А теперь и рецепт забыла…
Она осторожно протерла бутылку тряпкой, со смачным звуком вытащила пробку и разлила вино в чашки. Оно было черным, густым, как мед. Или кровь…
Такой же черный и густой мрак окутал избу снаружи. Ночь прильнула к окну, наблюдая за нами своими желтыми глазами. Лампочка над столом тускло мерцала. И все это создавало впечатление тайной вечери. Я сняла платок, и моя лысая голова, наверное, светилась в этих сумерках, будто подсвеченный изнутри бумажный фонарик. Моя хозяйка, взглянув на меня, всплеснула руками:
— Ну ты глянь — чистый ангел!
— Ладная девка, — подтвердила Яковлевна. — Ее бы откормить… Ты выпей, может, аппетит появится! Видишь, сколько здесь пирожков!
Я осторожно взяла кружку и увидела в черном круге налитого в нее вина отражение своего глаза… Осторожно сделала глоток…
12
Что это было за вино! Первый глоток показался мне кипящей тягучей смолой. Сладкая густая лава растеклась по горлу, стекла вниз и горячим потоком омыла все внутренности. Я будто бы увидела себя изнутри, почувствовала каждую клеточку и… утратила ощущение, что у меня есть ноги. Внутри будто бы расправляла слипшиеся крылья бабочка-махаон.
У этой тягучей жидкости был привкус времени — с горечью пыли двадцатилетней давности, въевшейся в стекло бутылки, с терпкостью давно умерших лесных ягод и сладостью желтого (такого теперь нет!) сахара. А еще — с особенным ароматом какого-то колдовского зелья. Я жадно припала к кружке и оторвалась от нее только тогда, когда губы почернели, а дно кружки засветилось белизной.
Старушки с любопытством наблюдали за мной и ласково кивали головами. Я с не меньшим любопытством уставилась на них, будто увидела впервые. В конусе тусклого света они были похожи на два застывших на морозе дерева. Белые платочки подчеркивали их дремучую ветхость. Они жили здесь сто лет, а может, и еще дольше. Их водянистые глаза излучали нежность.
Горячая волна, докатившись до самых кончиков ног, нарастая, покатилась назад. Достигнув уровня груди, она словно вымывала занозы, застрявшие в сердце и легких. Я пыталась сдержаться, но еще секунда — и волна уже бушевала в горле, затем — зашумела в голове, ища выхода. Я не знала, что делать, и обхватила голову руками. Голова раскалывалась, пока наконец горячий поток слез не вырвался наружу. Я плакала и смеялась одновременно. С каждой минутой мне становилось легче, будто бы я извергала из себя змей, ящериц, черных мышей и скользких крыс. Вот какое это было ощущение…
Когда я пришла в себя, увидела, что моя хозяйка прижимает меня к своей впалой груди и белым кончиком платка вытирает мне лицо.
…С тех пор я никогда не плачу. И не потому, что стыжусь или слишком горда. Просто не могу…
Старушки кивнули друг другу, будто совершили что-то очень важное.
— Ну, так как же тебя звать? Может, теперь-то скажешь? — спросила моя хозяйка, поглаживая меня по голове (в ее ладонь страх впитывался, как в губку).
— Анжелика…
Я не узнала своего голоса. И этого имени, которое отныне должно было стать моим. Оно казалось чужим. Оно принадлежало кому-то другому. Оно было искусственным, как груди голливудской красотки…
13
Я жила у Анны Тарасовны (так звали старушку) до середины зимы. И если бы не Петрович — противного вида дядька со стеклянными глазами, — осталась бы еще. Петрович почему-то решил обойти свои владенья. Хорошо, что дом стоял на горе и мы увидели в окно, как он медленно, как огромный жук по стебельку, ползет по нашей тропке. Его волосатые ноздри раздувались, а испитое лицо с каждым шагом все больше приобретало свекольный оттенок. Петрович был здесь царь и бог: в селе остались одни старики, и он регулярно собирал с них дань в виде самогона и продуктов.
Я спряталась на веранде и просидела там, пока он не ушел. Анна Тарасовна напоила и накормила его.
— Больше не явится. По крайней мере, до весны, — сказала она, — я вылила на тропинку ведро воды — скоро подмерзнет, и добраться сюда будет не так просто!
Но я поняла: пора! И начала собираться в путь. Анна Тарасовна расстроилась, но отговаривать не стала. Достала из шкафа пакет с деньгами, карточкой и ключами. Половину денег я, несмотря на ее протест, оставила в ящике стола, остальные — их осталось немного — засунула в карман джинсов. Пришлось взять с собой старый кожушок и надеть толстые шерстяные носки, которые Анна Тарасовна связала за несколько вечеров.
— Да куда ж ты пойдешь? — вздыхала она.
Но я понимала, что мне НУЖНО идти, как будто у неба из рукава выпала руна под названием «Дорога»… Тогда, в ту зиму, в крохотном горном селе, не обозначенном не только на карте, но и, пожалуй, на фотографиях (ведь его никто никогда не снимал на фотопленку), я еще не могла знать, что рано или поздно мне бы все равно выпала эта руна.
…Я вышла из Дома на Горе ранним утром, через три дня после визита участкового. Анна Тарасовна встала рано, сварила токан (кукурузную кашу), поджарила блинчики, половину всего этого положила в мой рюкзак.
Мы вышли в сад. Он весь был укрыт инеем и светился, воздух можно было пить, как родниковую воду.
— Каждый в этой жизни несет свой крест, — сказала старушка. — И чем больше ошибок человек совершает — тем он тяжелее. А твой, детка, совсем маленький. Неси его, терпи и веруй…
Она обняла меня, трижды поцеловала и перекрестила.
Мне предстояло пройти через спящее село, спуститься в долину, пройти вдоль горы и немного — лесом. Там, по словам Анны Тарасовны, была трасса, по которой ходили автобусы в районный центр, к железнодорожной станции.
На улице было еще темно. Морозный туман клубился передо мной, как парное молоко. Пройдя пять-шесть метров, я оглянулась: позади ничего не было. Ни старушки, ни ее дома, ни сада — все растворилось в белой мгле… Впервые за несколько месяцев я почувствовала легкий укол в сердце. И поняла: у жизни нет вкуса, в чистом виде она — как дистиллированная вода. Мы сами добавляем в нее соль, перец или сахар. Когда жизнь приобретает вкус — сердце болит сильнее.
Вначале у меня была только одна причина, чтобы исчезнуть. Но потом я поняла, что таких причин может быть множество. Например, желание узнать, чем люди отличаются друг от друга. Внешностью? Принадлежностью к той или иной расе? Содержимым кошелька? Уровнем образованности и культуры? Все это было так.
Но мне не терпелось понять: чем я, именно я, отличаюсь от любого другого человека — от множества других людей! — в те моменты, когда хочу есть, спать, когда мне холодно, когда у меня болят зубы или голова, когда я одна… Пока что опыт показывал — ничем.
Домик растаял, как кусочек сахара в молоке. Я могла бы никогда не узнать, что он — существует. С запахом сушеных фруктов, вкусом токана, с этой старушкой — суровой и одинокой. Она никогда не видела другой жизни, в которой не нужно было вставать в четыре утра и тяжко изо дня в день трудиться. Но тот другой мир, собственно, не стоит ни единой морщинки на ее мудром лице…
Я постояла с минуту, всматриваясь, не вынырнет ли из тумана ее шерстяной платок, а потом повернулась и быстро пошла вниз. Дорога не пугала меня. Она началась с яркой точки боли, как и должно начинаться все настоящее.
Через несколько часов, уже подходя к трассе, я полезла в карман и вытащила оттуда ключи. Зажала их в ладони, подождала, пока металл нагреется… И забросила как можно дальше. Они звякнули в воздухе и беззвучно упали в снег…
Если я устану от жизни, если смогу выбирать, где закончить свои дни, вернусь сюда. Даже если буду жить на другом конце света…
Часть вторая
1
…Девочки валяются на диване и смотрят по видику «Амаркорд». Где они достали эдакую древность, не представляю. Однажды (в другой жизни) я и сама пыталась найти Феллини в видеосалонах, но безуспешно. А эти, смотри-ка, нашли. Видно, в этом промышленном городке еще есть такие законсервированные во времени места, где можно найти все.
Краем уха я ловлю звуки фильма и представляю его героев, но главное — погружаюсь в атмосферу провинциальной предвоенной Италии феллиниево-гуэровского детства, с тополиным пухом, туманом и мальчишечьей тоской по любви. Я слушаю и чищу кафель на кухне. Потом включаю пылесос. Девочки что-то недовольно бурчат и прикрывают дверь. Я не обижаюсь. Наоборот — я счастлива. Меня не волнует вопрос: что будет завтра? Я понимаю, что «завтра» — это ненаступившее сегодня. Оно всего в нескольких часах от «сейчас». Поэтому нечего бояться! Если сейчас я живу, дышу, двигаюсь — это уже хорошо. Думают ли о завтрашнем дне птицы, звери или деревья?..
Девочек зовут Люси и Вера. Я тру, чищу, мою. Они — хозяйки положения. Они включают магнитофон и отправляют меня в мою комнату. Их мать — замечательная женщина, которая подобрала меня на вокзале после моей продолжительной жизни на чердаках многоэтажек и на жестких лавках вокзала. Я стала собакой, и она, моя хозяйка, подобрала. Не побоялась подобрать.
Потому что, как выяснилось позже, до своей нынешней жизни подбирала бездомных собак и лечила их. Потом пристраивала в «хорошие руки». Так было, пока она не вышла удачно замуж. Эта удача стала для нее началом конца любви к собакам. Я была последней точкой в этой эпопее. А наша встреча — последним днем кризиса, после которого она решила жить успешно. Так же успешно, как и вышла замуж.
Она пришла на вокзал — пахнущая хорошими духами, в роскошной норковой шубе, похожей на золотое руно, — чужая, чужая — и села на обшарпанный стул рядом со мной. Она могла бы пойти в любой отель, но пришла сюда. По старой памяти. У меня такой памяти не было. Я всегда была благополучной девочкой и не знала, что это такое — ходить по вокзалам… Проехали!
Теперь я сидела на вокзале в драных джинсах и бабушкином кожушке, и мне было ясно, что настоящее в моей жизни — только дорога, смена лиц и впечатлений, калейдоскоп ощущений, ради которых я пришла в этот мир. Я будто нырнула в зеркало и выплыла с другой стороны — с серебряной амальгамой на коже. Меня не волновало, что меня трясет от голода.
— Ты, наверное, есть хочешь? — спросила женщина в золотом руне. Я действительно хотела — чего-нибудь горячего. Последнее, что я ела, — объедки какого-то бутерброда в вокзальной забегаловке. От него пахло чьими-то грязными пальцами. И рыбой. Я уже привыкла быть проще. Намного проще.
— Да, — ответила я.
Женщина повела меня в привокзальный ресторан. И заказала роскошный ужин — крабовый салат, отбивную с овощами, жюльен и вино.
Мне пришлось выслушать длинную историю о любви и ненависти. Но уже с самого начала я поняла: эта женщина не в состоянии осилить дорогу. Она хотела носить золотое руно и покупать фарфоровые сервизы. А бездомные собаки не вписывались в круг ее интересов. И все же, когда она сказала, что может взять меня к себе, я завиляла хвостом. Мне нужно было немного передохнуть.
— У тебя такая мощная энергетика, — сказала женщина.
В ресторане мы просидели до самого закрытия. Мне было необычайно тепло. Иногда такое тепло просто необходимо — немножечко тепла и капелька сытости. Это такие простые вещи…
Женщина привела меня в этот роскошный дом — с двумя детьми и дородным мужем.
И вот теперь я мою, чищу, убираю. И слушаю мелодию, доносящуюся из магнитофона…
Это лишь продолжение дороги. И я люблю ее.
2
Этот дом слишком велик даже для семьи из четырех человек. Как по мне, он просто необъятен. Я убираю три больших холла, четыре спальни и два огромных зала-студии. Это не считая ванных комнат и такой же необъятной кухни, на которой по утрам хозяйничает повар из местного ресторана. Есть еще и «антресоли», на которые нужно подниматься по крутым ступенькам. Это две узкие комнатки-купе, в одной из которых живу я. Другая, очевидно, дожидается еще какую-то прислугу. Может быть, няньку или, вернее, гувернантку.
Атмосфера тут наэлектризована. Девочки 16-ти и 17-ти лет ненавидят отца. Ненавидят, но боятся и перед его приходом стирают со своих лиц макияж. Отца ненавидят, а мать, похоже, презирают. Муж и жена давно надоели друг другу. Такое впечатление, что посреди роскошного зала разлагается труп любви. Поэтому тут так трудно дышится. Но никто этого не чувствует. Каждый занят собой…
Люди, которые не чувствуют любви, рано или поздно превращаются в зомби, в аморфное ничто, они недовольны жизнью, какой бы она ни была.
Утром, когда хозяин заходил в кухню, мне хотелось стать невидимкой. Он не здоровался и никогда не смотрел в мою сторону. Просто заказывал: «Кофе. Без сахара». И заслонялся газетой. Хозяйка выходила лишь после того, как за ним закрывалась дверь и слышался шелест шин за окном. Она тоже пила кофе, смотрела в окно долгим взглядом. А потом, стряхнув с себя дремоту, диктовала мне список дел на сегодня. Их было много. Мне было бы проще и легче выполнять указания, если бы дом этот был теплее…
Наверху, на «антресолях», куда я добираюсь под вечер, еле держась на ногах от усталости, все иначе: мягкий вечерний свет пробивается сквозь скромные ситцевые занавески и от этого комната похожа на баночку с прозрачным медом. В ней хорошо спать. А за окном над моей кроватью (крыша немного скошена, как в мансарде) высится старый дуб. Иногда, ветреными ночами, он бросает в стекло желудь, и я от этого просыпаюсь. И долго не могу заснуть, не понимая, где я…
Мне кажется, что я — на веранде в забытом Богом селе, и сердце мое сжимается от нежности. Я ныряю в ауру запахов, приглушенных ночных звуков, в состояние новорожденности — с легкой необременительной пустотой внутри, пустотой, постепенно заполняющейся новыми ощущениями.
Мысли мои скачут с одного на другое — никак не могу собрать их воедино. Я снова боюсь повторения болезни. Слишком плотным и непроницаемым коконом я себя обернула…
Жизнь всегда казалась мне случайностью. Я и сейчас думаю, что нужно благословлять только один день, который начинается за окном, не задумываться о вчерашнем и завтрашнем! Все, что я выстраивала в своем воображении, рухнуло в один миг — уютный дом, путешествия, море цветов на подоконнике, любовно собранная библиотека, кот и пес, картины на стенах, фильмы, которые хочется смотреть вдвоем, музыка, дождь, снег, новогодние праздники, камин, хрустящие простыни и, конечно же, приятная тяжесть младенца на скрещенных руках… Нелегко осознавать, что всего этого уже НЕ БУДЕТ. Я до сих пор не понимаю, откуда взялась сила принять это — «не будет». Ведь мне приходилось встречаться с людьми (такими, как моя хозяйка, например), которые не могли и не хотели смириться с этим и из года в год ждали перемен. Каких? Да они и сами не могли этого объяснить. В них изначально была заложена схема счастливой, безоблачной жизни, и смириться с тем, что в нее, как в прокрустово ложе, не может уместиться реальность, было выше их понимания. Я же мысленно цитировала слова Мандельштама, с которыми он обратился когда-то к своей жене: «А кто сказал, что ты ДОЛЖНА быть счастливой?!» И правда, кто? И неужели счастье в том, чтобы всю жизнь «прочирикать, как птичка».
В апреле хозяева уехали отдыхать в Грецию. Перед отъездом в доме царило затишье. Как перед грозой. И она надвинулась, как только за хозяевами закрылась дверь.
Девочки тут же повисли на телефонах, созывая друзей. А через час я получила кучу поручений, от которых голова пошла кругом. Откровенно говоря, я даже хотела позвонить их родителям, испугавшись размаха мероприятия. Но потом решила смириться.
В первый же день обретенной свободы девочки не пошли в лицей и на все мои увещевания отвечали дружным смехом, в котором чувствовалось что-то зловещее. И я не ошиблась. Вечером дом кишел народом. Я и раньше догадывалась, что за пределами этого гнездышка девочки вели достаточно бурную жизнь. К началу вечеринки мои юные подопечные превратились в настоящих женщин-вамп (хотя обе были нежными блондинками с довольно невыразительными личиками): глаза густо подведены, губы — кроваво-красные, волосы уложены в какие-то сложные прически.
Я должна была готовить бутерброды, а еще встречать в прихожей гостей. Какие-то незнакомцы, намного старше сестер, сбрасывали мне на руки куртки и плащи, доставали из пакетов бутылки и проходили в зал. Когда их туда набилось уже довольно много и сизый сигаретный дым повис под потолком, раздался еще один звонок в дверь. К этому времени гости уже танцевали, целовались по углам, сидели и лежали на ковре, музыка гремела на весь дом. А я сидела в прихожей под вешалкой, стараясь уследить главным образом за тем, чтобы гости не вынесли что-нибудь из квартиры. Я с ужасом думала, сколько работы мне предстоит после того, как вечеринка закончится. И закончится ли она вообще?
Итак, прозвенел звонок. Я открыла дверь.
Новый посетитель не был похож на остальных. В красивом белом плаще, безупречно выбрит, с равнодушно-ироничным выражением лица. Почему-то я сразу же поняла, что все было затеяно именно ради него. Он был без бутылки.
Он не спешил проходить, наблюдал за тем, как я вешаю его плащ. Я отвыкла от того, что на меня смотрят. Я и сама давно не видела себя в зеркале — была уверена, что там отразится пустота.
— Где-то я тебя уже видел… — сказал гость и бесцеремонно взял меня за подбородок. — Ты в парике?
Я пожала плечами, не понимая, чего он хочет. Отросшие волосы поднимались над головой пушистой копной и действительно напоминали парик. Я кивнула головой, вырвалась. Хорошо, что в прихожую выскочила Вера, за ней — Люси. Они подхватили гостя и повели в комнату. Там сразу же наступила тишина. Гость, очевидно, был человеком значительным. Подозреваю, что было заключено пари: придет или нет? И мои барышни выиграли.
Я решила не ложиться спать, по мере сил контролировать ситуацию, и уселась на кухне так, чтобы мне была видна входная дверь. Ко мне время от времени забегали гости, заказывали бутерброды, требовали пиво, лед, шампанское.
Около полуночи я склонила голову на стол и почти задремала, когда в кухню зашел тот гость. Вид у него уже был довольно растрепанный. Он оглядел кухню.
— Хорошенький домик…
Я не могла поддерживать разговор. Я вообще еще не привыкла разговаривать.
Гость сел напротив и снова вперился в мое лицо пристальным взглядом.
— Где-то я тебя видел.
Мне казалось, что я, как листик, лежу на стекле под окуляром микроскопа — даже почувствовала, как во мне в беспорядочном броуновском движении забегали какие-то молекулы. Он опять взял меня за кончик подбородка и повертел влево, вправо. Я дернулась, сбросила со стола корзину с хлебом. А когда подняла ее с пола, он уже удовлетворенно улыбался, закуривая сигарету:
— Вспомнил! Такие зеленые глаза можно увидеть раз в жизни…
Он курил, выдерживая многозначительную паузу, не сводя с меня холодных глаз.
— Я видел твою фотографию в метро, когда посещал столицу… Вряд ли я ошибся, у меня хорошая память на лица. Тебя разыскивают.
Я не могла, не могла говорить…
— А ты, — продолжал он, — не хочешь, чтобы тебя нашли. Это любопытно…
Я попыталась встать и уйти, но он удержал меня за руку и усадил на место.
— Итак, ты что-то натворила. Что же?..
Держа меня за руку, он подсел ближе. Я с трудом выдерживала его прикосновение. И не только потому, что оно было наглым и настойчивым, — я пребывала в том состоянии, когда любое человеческое прикосновение вызывало отвращение. Я могла гладить собак, держать на руках кошку, кормить рыбок, птичек, стерпела бы, если бы на грудь мне вползла крыса или уж, но от прикосновения чужих рук у меня мутилось в голове. Ночь начала заполнять мозг. Он слегка потряс меня за плечо:
— Ну-ну… Зачем так волноваться? Все решается мирным путем. Расслабься… Я тебя не съем…
Он делал большие паузы между фразами, и от этого становилось еще страшнее — каждое слово казалось значительным, будто незнакомец знал обо мне все.
— Мне правда не интересно, кто ты и откуда. Если ты боишься, значит, есть на то причины. Я их выяснять не буду. — Он снова помолчал несколько секунд. — Но если есть такие причины, их нетрудно установить. Логично? Тем более мне, — он сделал особый акцент на последнем слове, — это очень просто сделать.
И-и-и-е-е-ла-а-ну-у-ум…
— Итак, — продолжал он, не зная, с кем имеет дело, — мы удачно встретились: в нужное время да еще в нужном месте. И должны помочь друг другу. Предлагаю: услуга за услугу. Согласна, куколка?
Мне захотелось выть долго и протяжно. Плоская теплая ладонь поглаживала меня по колену, и отвращение от этого прикосновения было так велико, что я не могла понять, о чем идет речь.
— В общем, так, — рука остановилась и осталась лежать на моем колене, как раскаленное дно сковородки, — мне нужны кое-какие документики твоего хозяина. Собственно говоря, ради этого я сюда и пришел. Я тут уже все осмотрел — сверху ничего! Скорее всего, они — в сейфе. Вот их ты мне и достанешь. И я забуду о твоем существовании. О'кей? Или ты хочешь денег? Скажи — нет вопросов!
3
Тут стоит рассказать об одной особенности, которая была свойственна мне всегда и которую я считала естественной. И теперь это стало просто спасением: все, что я не могла или не хотела воспринимать, закрывалось картинами, возникающими в моем воображении. Они всегда были разными. Сейчас, чувствуя чужую руку на своих дрожащих коленях, я видела вокруг себя нечто совсем другое. Старинную комнату в викторианском стиле, с камином. В центре комнаты в массивном кресле, спиной ко мне, сидела рыжеволосая девушка в зеленой накидке и алой атласной юбке. Ярко-желтые тени пульсировали в ее волосах. Мне захотелось пройти дальше, чтобы увидеть лицо сидящей. Но потом я поняла, что не стоит этого делать: нужно рисовать именно с этой точки, с порога… И использовать только чистые цвета. Я думала: кто она, эта девушка у камина, почему она одна? Почему в уголке не сидит за вышиванием компаньонка, нет клетки с попугаем или белого пуделя?
Картина растаяла лишь тогда, когда я почувствовала его губы на своей шее. В этот момент в кухню влетела Вера. Вид у нее был воинственный.
— Все понятно! — закричала она и сбросила со стола стаканы и фужеры. Они разлетелись на мелкие кусочки. На шум прибежала Люси. Обе принялись что-то кричать…
Мне было все равно. Я не могла больше нырять в пучину человеческих страстей. Поднялась и пошла к себе. Как во сне, поднялась по ступенькам на «антресоли» и легла на кровать. Очень болела голова.
Любовь — это больно. Когда она уходит — остается память тела. И эта память делает невыносимыми другие, новые отношения. Вот почему я думаю, что человек должен жить один. Навязывать другому свою волю, привычки, комплексы, неудовольствие, вкусы, образ жизни — противоестественно. Желать от другого повиновения, подчинения и максимального откровения — подло. Если бы я поняла это раньше…
Когда-то давно я читала скучный роман Фаулза — «Женщина французского лейтенанта». Сначала он показался мне затянутым, надуманным и приторным. Главная героиня была притянута в него за уши из другого времени: молодая женщина, жаждущая свободы и идущая к ней через обман и страдания. Откуда было взяться такой в Викторианскую эпоху! Потом я поняла, что мастерское описание времени, природы, истории — лишь окантовка, которой гениальный романист очертил одну идею. Она укладывается в короткий лозунг: «Люди, вы свободны!» Но страх и иллюзии, навеянные воспитанием, привычками, всем тем, что присуще роду человеческому, гонят нас друг к другу, как волны океана. И ничего с этим не поделаешь…
Я отвлекаюсь, прости. Но, тогда, следуя за клубком, который разматывался у меня под ногами, я о многом передумала и многое поняла. Мысли и картины, возникающие в моем мозгу, не давали впасть в отчаяние.
Тем более что через несколько часов после инцидента на кухне я шла по предрассветному городу — совершенно свободная, все в тех же джинсах и кожушке. Избитая и… счастливая. Начинался новый день. И мой обостренный нюх больше не улавливал едкого запаха умершей любви.
Город между тремя и четырьмя часами утра — потрясающее зрелище! Он лежит, как темный зверь с рыжеватыми подпалинами на боках, и чуть слышно вздыхает во сне. Его шкуру не терзают тысячи каблуков. Он принадлежит только себе и своим снам. Мне даже захотелось смеяться. Странное и сладкое чувство. Я забрела в сквер, забилась в дальний угол и опустилась на скамейку. Деревья с уже проклюнувшимися листочками обступали меня со всех сторон, из-под бурой корки земли с шелестом пробивалась трава. Я задремала, а когда открыла глаза, было уже утро и взрыхленная земля вокруг скамейки действительно зеленела тоненькими ниточками травы…
Умылась я, по давней привычке, в привокзальном туалете. Полезла за носовым платком в карман старых джинсов и вытащила оттуда все, что там было. Оказывается, у меня было еще немного денег и какая-то пластиковая карточка с именем «Джошуа Маклейн»…
Город еще не до конца освободился от серых цветов. Мне вдруг ужасно захотелось других красок, другого воздуха. Я отдала свой кожушок какому-то привокзальному старику и купила билет в общий вагон крымского поезда…
4
В общих вагонах всегда пахнет вареными яйцами. Тут начинают есть, как только тронется поезд. Расстилают газеты, выкладывают на них горку яиц — на всю семью — и стучат, стучат ими о стол. Неприятный запах заполняет все пространство, под ногами хрустит скорлупа.
Несмотря на то что сезон только начинался, в вагоне было полно людей. Я сразу же залезла на третью полку и укрылась с головой плотным одеялом — спряталась от этих запахов, разговоров, взглядов.
…Южный город встретил ароматом кофе и меда, криком чаек, многоцветием и гулом восточного базара. Но главное, конечно же, море! Оно было где-то совсем рядом, за каменным парапетом набережной, — огромное, сине-зеленое, все завитое молочно-белыми «барашками». На море меня вывозили — как правило, это были респектабельные курорты с ультрамариновыми бассейнами, белыми шезлонгами, сидя в которых я запоем читала книги.
Это новое море пахло чем-то особенным — так, наверное, высоко в небе пахнут грозовые облака, а еще — молочный коктейль. Мне захотелось сразу же нырнуть в воду. Но я решила сначала поселиться где-нибудь, пока еще оставались какие-то деньги. Наугад свернула в узкую улочку, увитую коричневыми жилами старого винограда, и вошла в первый попавшийся двор. Он весь был перетянут бельевыми веревками и завешан простынями, купальниками и полотенцами. Легкий ветерок взметнул простыню, и за ней открылась панорама с садом и несколькими флигелями. Возле летней кухни сидела пожилая грузная женщина. Это была хозяйка. Звали ее Мария Григорьевна. Очевидно, я не произвела на нее впечатления человека, которого можно пустить в дом, она сказала, что все места заняты и есть только кровать в маленьком сарайчике. Мне было все равно. Сарайчик был замечательный: из мелких прорех в крыше свисали золотые нити солнечного света, а по углам висели душистые охапки высушенный трав. К тому же на кровати лежала стопка свежего, застиранного до синевы постельного белья.
Мария Григорьевна потребовала паспорт и деньги вперед. Деньги я дала — заплатила за пять дней. А вот с паспортом… Пришлось соврать, что он у родителей, которые вот-вот должны приехать. В общем, все обошлось.
Когда дверь за хозяйкой закрылась, я сбросила с себя одежду. Было очень жарко, мне не терпелось поскорее пойти к морю. Мои джинсы имели жалкий вид. Поэтому, заметив на столе ножницы, я обрезала их чуть выше колен. Получились шорты. К ним, потертым, хорошо подходила вылинявшая футболка. Больше у меня ничего не было. Какие-то тряпки, которые мне подарила в городе хозяйка, остались на «антресолях», я их не взяла. Денег у меня осталось слишком мало. Я взяла пятерку, а остальное засунула под матрас. Выскочила во двор. Мария Григорьевна окинула меня скептическим взглядом…
…Море опьянило. После первого же омовения я захмелела, казалось, что я окунулась в огромный бассейн с шампанским. В голове шумело, щеки пылали. Я растянулась на круглой теплой гальке. Море шипело и пенилось, как масло на горячей сковороде. Мне хотелось есть. Впервые за много дней.
— Пахлава медовая! Орешки! Горячие домашние манты! — донеслось откуда-то издалека.
Я открыла глаза. Вдоль берега шла смуглая женщина с плетеной корзиной. Раньше я никогда ничего не покупала на улице, это считалось дурным тоном. Я махнула рукой и устыдилась этого жеста: мне показалось вульгарным подзывать к себе пожилую женщину таким образом. Но она быстро и охотно пошла в мою сторону, поставила корзину перед самым носом и откинула белоснежное полотенце. У меня захватило дух. Аккуратными стопками здесь было сложено настоящее богатство: подрумяненные, усыпанные сахарной пудрой сладости, имеющие форму ромба. Как это было вкусно и как дешево! Потом я снова купалась, и море благодарно слизывало сладкую патоку с моих ладоней.
Я лежала на пляже долго. Так долго, что не заметила, как на набережной зажглись фонари. Сиреневые сумерки надвинулись из-за гор, солнце быстро нырнуло за горизонт и на город обрушились потоки головокружительных ароматов, которые днем были совершенно неощутимы. Аромат ночных фиалок смешивался с другим — сочным запахом, исходившим от мангалов и огромных котлов с пловом. Шашлыки и плов продавали прямо на улице. Я купила порцию плова, ела его, сидя на парапете и наблюдая за людьми. Художники, расставляли на набережной свои мольберты и этюдники. Я решила, что завтра обязательно куплю себе бумагу и краски…
Начиналась веселая южная ночь, движение на набережной становилось все более оживленным. Все громче гремела музыка в ресторанах, толпы отдыхающих сновали у меня перед глазами сплошной разноцветной массой. Пора было уходить. Я заметила, что некоторые художники, закончив работу, собираются на пляже под скалой. Жарят на костре мидий, откупоривают бутылки с вином и пивом и, кажется, собираются здесь ночевать…
Свое новое жилище я нашла с трудом, а когда наконец открыла знакомую калитку, то увидела, что жизнь во дворе бьет ключом. Семейство из четырех человек оккупировало стол и за обе щеки уплетало жирных вяленых бычков, парочка молодоженов устроилась в гамаке под развесистой акацией, мужчины во главе с хозяином устроились на табуретах под фонарем и азартно играли в карты. Мария Григорьевна, как царица, восседала у порога в большом плетеном кресле. И двор, и дом, и сад, и сама дородная хозяйка — все было так не похоже на другой двор и другую хозяйку, там, в горах…
Я поздоровалась, но мне никто не ответил. Я быстро юркнула в свой сарайчик и растянулась на кровати, машинально пошарила под покрывалом, нащупывая деньги. Их не было. Я перетрусила все белье. Тщетно.
То, что денег не было, не очень меня огорчило. Это означало лишь то, что завтра наступит новый день, который принесет новые заботы. Но я к этому привыкла.
…Я совершенно не помню своих эмоций в те дни. Может быть, их и не было вовсе? Я уже говорила, что могла спокойно взять в руки мышь и не вскрикнула бы от прикосновения гадюки……………………
Эпилог
Джошуа Маклейн
Август, 2005 год, Сан-Франциско
1
Глубокоуважаемый мистер Северин!
Полагаю, что в ближайшее время Энжи не будет иметь возможности дописать это письмо. Поэтому я решил сделать это сам. Как это говорят у вас, расставить точки над «i». Откровенно говоря, я принуждаю себя писать это. Проще всего было бы «убить» текст. Но тогда бы я испытывал чувство вины перед Энжи. Да и прочтя все, что она написала (прочтя не намеренно, а по стечению обстоятельств), я не смог уничтожить ее слова. Ведь она полагала, что вы их прочтете… Кроме того, считаю необходимым кое-что прояснить. И надеюсь, что впредь вы не потревожите нас.
Мне хотелось бы сразу перейти к главному. Но я не знаю, с чего начать. Я хорошо понимаю те чувства, которые вы должны испытывать, читая то, что написала моя жена. Но поспешу пояснить: это лишь то, что сохранилось в ее воображении. На самом деле, как мне кажется, все было намного хуже.
Должен признаться, что, перечитывая все, что ей удалось написать вам, я с трудом сдерживал эмоции. Поэтому прошу простить меня за несколько неровный стиль.
Что же было на самом деле? Начну с конца. Я нашел Энжи на коктебельской набережной. Говорю «нашел» — хотя я не искал ее. Эта встреча была случайной, как и первая — в горах. Могу себе представить, о чем вы сейчас подумали…
Узнать ее было практически невозможно. Все, о чем она писала выше, лишь малая толика того, что было в действительности. Ее лицо и тело были покрыты синяками и шрамами. Вы должны об этом знать. Ведь, повторяю, она писала все это, когда уже родилась заново. Я и сам теперь с новой силой понимаю сущность этой девочки — не замечать зла, которым наполнен мир, и в который раз удивляюсь вашей черствости и благодарю Бога за то, что он свел Энжи со мной.
Первая наша встреча выглядела так: передо мной почти на самом краю скалы, с которой открывалось живописное море осеннего леса, стояло странноватое существо, испачканное красками, с копной длинных, скрученных трубочками волос. Я видел его со спины и не сразу понял, парень это или девушка. Мое внимание привлек рисунок. А когда она повернулась, я обжегся о глаза. Такие глаза обычно рисуют на иконах — большие, грустные и… пустые. Именно такими глазами смотрят на толпу — на каждого и в то же время ни на кого. Я не знаю, как это лучше объяснить. Если художник, скажем Рафаэль или Врубель, выбирал в качестве модели земную женщину, на их полотнах было живое выражение лица. А на канонических полотнах — образ обобщенный. Лица святых — неэмоциональные. И поэтому они менее понятны простым смертным. Вот такое лицо было тогда у девушки-художницы. Мне стало страшно. Потом я часто вспоминал это лицо, жалел, что не посмел познакомиться с ней…
А два года спустя, у моря, снова увидел ее. Хотя узнать ее было довольно трудно. Как я уже сказал, лицо, руки, ноги были покрыты синяками и царапинами. Некоторые были совсем свежими, другие уже заживали. Лицо, если смотреть на него в профиль, почти плоское, будто нарисованное на бумаге, запястья — тоненькие, как у ребенка. Взгляд, конечно же, изменился. В нем больше не было пустоты — только удивление. Видеть его было просто невыносимо.
Энжи сидела на набережной среди других уличных художников и рисовала портреты. Я заказал свой. Пока она рисовала, меня изнутри пожирал огонь. Вообще, в вашей стране — такой прекрасной и такой дикарской — этот огонь я чувствовал не впервые. Возможно, потому, что здесь родились мои прадеды… Но в этой девочке будто сконцентрировалась вся боль оттого, что я успел увидеть и испытать. Я не осмеливался заговорить с ней. Минут через сорок (я всячески оттягивал момент окончания работы — отходил покурить, вертелся на стуле) она закончила. Портрет получился хороший. Я заплатил за него вдвое больше, чем она попросила. Но Энжи вернула мне сдачу. Я отошел в сторонку и начал наблюдать за ней. Увидел, как к ней подошел какой-то тип в спортивных штанах, и Энжи отдала ему деньги. Тип отсчитал какие-то копейки и протянул ей. Она благодарно улыбнулась и снова замерла, глядя на поток отдыхающих. Она работала с удовольствием. Я наблюдал за ней до поздней ночи. В свете фонарей она была похожа на прозрачную ночную бабочку.
Потом она собрала вещи и пошла в сторону торговых палаток. Там купила чипсы, кофе в пластиковом стаканчике и пошла в глубь кипарисовой аллеи.
Огонь жег меня все сильнее. Она не должна быть тут! — я ощущал это каждой клеточкой тела. Вы же понимаете, о чем я говорю?
Я стоял в тени старого развесистого дерева и готов был простоять так до утра, если бы она (а это было вполне вероятно) легла спать прямо на скамейке. Но, съев чипсы, она направилась в сторону пляжа, где уже разожгли костры бродяги. Я едва успел перехватить ее у самых ступеней каменной ограды.
Не помню, что говорил…
Намного позже я понял, что слова для Энжи значили так же мало, как и деньги. Она доверяла чувствам. Она улыбнулась мне. В это мгновение мне показалось, что я попал под солнечный душ. Я предложил ей поужинать вместе. Со стороны это выглядело, наверное, грубовато… Но Энжи была далека от реальности. К ней протянули руку с куском хлеба — и она не могла ее оттолкнуть. Все просто…
Еще тогда я с ужасом подумал, что, воспринимая все так буквально, она пережила много неприятных, возможно, даже опасных моментов.
…Нас не пустили ни в один более-менее пристойный ресторан. Оборванные шорты и вылинявшая футболка — это все, что у нее было. Все, что ей принадлежало. Да еще полотняная сумка с бумагой и пастельными мелками.
Тогда я повел ее в круглосуточный супермаркет, набрал всего, что можно было съесть без особых приготовлений. Слава Богу, времена изменились, и я смог провести ее в свой номер в гостинице без особых проблем. Дал ей халат, показал, где ванная комната.
Когда она оттуда вышла, удивляться пришлось мне. Она была настоящей красавицей. Это я заметил еще там. В горах. А сейчас она вышла ко мне такая сияющая, с длинными рыжеватыми волосами, тонким нежным лицом, грациозная в каждом движении. Я растерялся, как теряются в присутствии коронованных особ.
Вот так это было, так начиналось…
Всю ночь я просидел в кресле, глядя, как она спит. Думаю, она впервые за время, которое прошло после нашей первой встречи, спала в нормальной постели. Больше я ее не отпускал.
Не знаю, романтик ли вы и способны ли понять меня, но я почувствовал, что мне в руки упала звезда…
Когда — утром — я спросил, как ее зовут, она произнесла странное слово, такое удивительное созвучие: «И-е-ла-нум»…
Тогда я еще мало знал о ней, но понял, что ее необходимо вывезти отсюда. Вывезти, как вывозят старинные иконы или антиквариат. Нет, не подумайте, что я считал ее ценной вещью или просто красивой женщиной. Поверьте, в своей жизни я видел и то и другое…
Прошло почти полгода, прежде чем я смог купить документы и вывезти ее отсюда.
Мы переезжали из города в город. Я занимался научной работой, которая позволяла мне свободно перемещаться по стране. К изучению искусства начала пятнадцатого века я добавил тему фольклора в старинной украинской вышивке, и это дало возможность путешествовать по самым отдаленным уголкам. На самом деле работу я уже закончил и совсем перестал ею заниматься. Все свое время я посвятил Энжи. Она наконец заговорила, начала нормально есть…
Тут я должен сделать признание. Однажды случайно (это было в парикмахерской какого-то маленького районного центра) я увидел вас по телевизору. Это было одно из многочисленных ток-шоу. Телевизор стоял посреди зала, и я мельком, как и другие клиенты, поглядывал на экран. Ничего не воспринимал, пока не увидел фотографию Энжи. Я едва удержался на месте!
Той ночью я не спал… К этому времени я уже знал, что Энжи ушла из дому, что у нее были вы. Но не больше. Я боялся расспрашивать ее. Мои расспросы вызывали у нее такие приступы отчаяния, что приходилось прибегать к лекарствам. Я мечтал как можно быстрее вывезти ее, показать лучшим психиатрам, которых знал лично.
В ту ночь после передачи меня мучил один вопрос: могу ли я отдать ее вам? Вопрос был риторическим. Мой ответ был однозначным. Но я видел ваши глаза! И если раньше считал вас деспотом и злодеем, то теперь это впечатление развеялось. Я понял: что-то не сложилось. Что-то на «высшем» уровне, о чем мне не стоит знать…
Вы, наверное, удивитесь, но я вас разыскал. Я хотел увидеть вас. Решение было нелогичным и почти женским. Ведь только женщины стремятся встретиться с соперницей. Чтобы убедиться, что она… моложе и красивее. Но у меня была другая цель: я хотел убедиться, правильно ли поступаю.
Перед отъездом у нас оставалось несколько дней, которые мы провели в столице. Энжи не выходила из номера гостиницы, я улаживал дела. Наверное, вы хотели бы узнать, пытался ли я разыскать ее родителей? Могу ответить: да. И тут все было мне на руку. Мать находилась в психиатрической лечебнице, у отца уже была другая жена, и, судя по телепередачам, он был погружен в политические игры. Итак, оставались вы. И я подстерег вас у подъезда. Да, я видел вас… Вы вышли, подошли к своей машине, постояли, закурив сигарету. Я впитывал каждое ваше движение. Только представьте, я подошел бы… и через час Энжи могла бы быть с вами. Я колебался всего одно мгновение. И в это мгновение я понял: не стоит. Не подумайте, что я говорю так, чтобы оправдать свой поступок. Нет. Если бы Энжи могла бы быть счастлива с вами, я бы отступился. Но в вашей стране я сделал много удивительных наблюдений: мужчины тут всегда требуют жертв. Этого я никогда не мог понять! У вас потрясающе красивые женщины, более того, они хотят вас, преклоняются перед вами, они стараются стоять в тени и подавать вам полотенце, несмотря на то что устают и страдают не меньше вашего. Из материнских рук вы переходите в руки своих невест, продолжая оставаться вечными детьми… Я не мог оставить Энжи в таком мире! Я не хотел, чтобы ей пришлось оправдываться перед вами… Ни сейчас, ни позже.
…Я отправлю вам это письмо, удалю ваш адрес и сразу же сменю свой. Когда Энжи вернется из больницы, она не будет помнить, что писала вам. Надеюсь, что это было последнее психотерапевтическое обследование…
Я заберу ее через несколько недель. Я знаю, что она сядет в кресло на нашем балконе, я заверну ей ноги пледом, и она будет смотреть на океан… А я буду смотреть на ее трогательную тоненькую шейку и чувствовать, что душа моя спокойна: я нашел то, чего мне не хватало в этом безумном мире.
И последнее. То, что труднее всего написать. Но я должен это произнести, а вы должны это знать: она не любит меня…
Прощайте!






