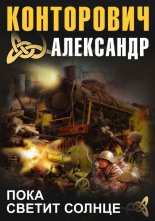Эмир Кустурица. Где мое место в этой истории? Автобиография Кустурица Эмир
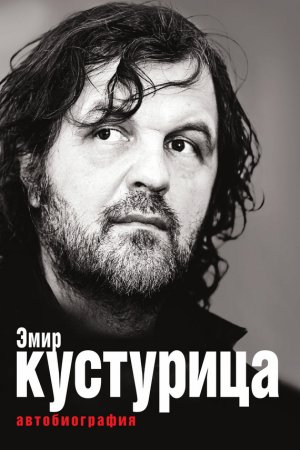
Во время церемонии я попытался придать событию некую долю оригинальности.
Чиновник ЗАГСа с припухшим лицом, который, судя по всему, перед этим дремал в соседней комнате, спросил меня голосом хориста:
— Эмир Кустурица, согласны ли вы взять в жены Майю Мандич?
Я ничего не ответил. Воцарилась мертвая тишина. Послышались вздохи, шепот. Я с вопросительным видом обернулся к свидетелям, Зорану Билану и Бранке Пазин. «Что мне делать, дружищи?» — читалось в моем взгляде. Зоран засмеялся и утвердительно кивнул, тогда как я делал вид, что не уверен в ответе. Напряжение в «Скендерии» достигло высшей точки. И только тогда я решился и произнес роковое «да». Тут же раздались вздохи облегчения и смех. Майя с упреком взглянула на меня, но, поскольку она была взволнованна, ей не пришло в голову ссориться со мной. Она разглядывала белоснежное платье сидевшей возле нас беременной невесты, которая держала за руку жениха, по такому случаю временно отпущенного на свободу. Я тоже бросал на него взгляды, полные симпатии. После свадьбы жених отправился еще на несколько месяцев в тюрьму, а я — заканчивать учебу в Праге.
В день свадьбы Сенка отказалась от своей борьбы с быстрым и неумолимым разрушением дорогих ее сердцу вещей и ради особого случая сняла целлофановую пленку, прикрывающую китайский ковер. В квартире из двух с половиной комнат ухитрилась разместиться добрая сотня людей. Почетное место занял Эдо Хафизадич, сын бея, который в далеком сорок первом году приехал из Травника и не смог присоединиться к партизанам, потому что в тот день у него разболелся желудок. Мурат представил его гостям, после чего сразу увел на кухню.
— Смотрю я на Сараево, Мурат, и понимаю, что это вы, коммунисты, все развалили. Крестьянина переселили в город, сказали ему, что Бога нет, — и вот вам результат!
Мурат соглашался с тем, что говорил его друг. Он получил строгий наказ не повторять историю, произошедшую на его свадьбе с Сенкой — когда его пришлось выносить из квартиры в разгар свадебного пира, — и пообещал «не брать в рот ни капли». Тем не менее разговор с Хафизадичем был прекрасным поводом для нарушения данного обещания, ведь с незапамятных времен кухня представляла собой более привлекательную социальную арену, чем гостиная. Именно здесь было легче всего раскрыть свою душу, прийти к консенсусу или дать торжественное обещание. Часто именно на кухне происходили важнейшие жизненные события. Самые радостные, но также и самые печальные кардинальные решения часто принимались в окружении тряпок и грязной посуды. Каждые две минуты обеспокоенная Сенка показывала мне взглядом в сторону кухни. Когда я туда вошел, отец быстрым движением передвинул свой бокал к Хафизадичу. Я знал, что он пил.
— Хочешь повторить то, что было на твоей свадьбе? — шепнул я ему на ухо.
— Ни в коем случае! Только один маленький бокал!
— Прошу тебя, следи за собой!
Мурат понял, что я не шучу. Он съежился и прошептал:
— Хорошо, я просто выпил этот бокал с Эдо. И больше ни капли, клянусь жизнью своего сына!
Квартира была до отказа набита мужчинами в белых рубашках, галстуки которых свешивались в зависимости от количества принятого алкоголя. Их жены, обнявшись, раскачивались из стороны в сторону и распевали песни Здравко Колича: «Поезд в Подлугов» и «Апрель в Белграде». Когда поставили кассеты с народной музыкой, всеобщее веселье достигло апогея. Маленькие боснийки кричали и прыгали от радости. Вся квартира в доме номер 9 А на улице Каты Говорусич ходила ходуном. Стипо Билан, отец моего друга Зорана, в ту пору председатель Ассамблеи Боснии и Герцеговины, сумел извлечь пользу из царящей вокруг суматохи и расслабленного состояния Нады Липы, красивой женщины с пышными формами. Он несколько раз ущипнул ее за ягодицы, и сделал это с еще большим удовольствием, когда узнал, что она родом из Биелины. Боснийцы особенно любили женщин из Биелины, поскольку те считались более доступными, чем суровые герцеговинки. Это объясняли тем, что город Биелина располагался на плодородной равнине, тогда как Герцеговина растянулась на пустынных карстовых землях Адриатического побережья, где женственность представляла собой единственную ценность.
Нада Липа, танцуя под музыку, дошла до кухни и сообщила своему мужу, доктору Липе, что председатель Ассамблеи Боснии и Герцеговины щиплет ее за задницу:
— Оставь, дорогая, ему приятно, а от тебя не убудет, — ответил муж своей жене.
Доктор Липа лечил сердце Мурата, но мой отец, несмотря на свое обещание, пытался добиться от него разрешения выпить еще:
— Черт! Доктор, мне нужно выпить еще один бокал. Ведь не каждый день сын женится!
Но врач был своего рода Макаренко в медицине.
— Господу угодно, чтобы ты остановился на одном, Мурат, хотя мужчина и склонен к бигамии, — сказал он. — Но тебе лучше оставить эту сливовицу!
— Тогда дай мне выпить за то, чтобы он не развелся с Майей. Только посмотри, какая красивая у меня невестка! Настоящая куколка!
В 1980 году Тито умер. А через год я получил «Золотого льва» в Венеции за свой фильм «Помнишь ли ты Долли Белл?». Услышав название награды, Стрибор, которому было тогда три года, испугался за нашего пса.
— А как же Пикси? Лев ведь может его съесть! — обеспокоенно спросил он меня.
Мои друзья детства смогли убедиться, что являются неотъемлемой частью этого фильма. Харис, Бели и Труман были счастливы, увидев некоторые сцены нашей жизни на большом экране.
Что касается Ньего, зарабатывавшего на жизнь электриком на трансатлантических суднах, победа «Долли Белл» застала его посреди Индийского океана. Неожиданно в новостях он услышал мое имя, повторявшееся несколько раз. Но связь была плохой, и сигнал постоянно терялся. Он потряс транзистор, перевернул его несколько раз, отыскивая лучшее положение. Он никак не мог взять в толк, почему упоминали мое имя. «Этот кретин банк, что ли, ограбил? — недоумевал он. — Или, не дай бог, убил кого-нибудь?»
Лишь прибыв в порт и прочитав газеты, он вздохнул с облегчением, поняв, что его старый приятель получил главную награду в Венеции.
Съемки фильма «Помнишь ли ты Долли Белл?» состоялись благодаря тому, что я посмотрел «Амаркорд» и встретил Абдулу Сидрана, а также потому, что именно в тот период это оказалось возможным.
Тито заболел — мы видели его по телевизору чаще, чем обычно. Хамза Баскич, директор сараевского телевидения, спал в своем кабинете на раскладушке, чтобы показать, насколько его тронула болезнь маршала. Будучи верным членом партии Тито, Баскич не одобрял проект «Долли Белл». Тем не менее, поскольку телевидение Сараева было сопродюсером фильма, он не мог препятствовать съемкам. Когда фильм был закончен, он попытался помешать его выходу. Он направил Весне Дугонич, главному редактору сараевского ТВ, телеграмму, в которой, как достойный ученик Тито, не запрещал показ фильма в кинотеатре «Тесла», а лишь подчеркивал нежелательность этого. От козней этого типа фильм спасли лишь его поэтичность и авторитет Рато Дугонича, «тайного советника» коммунистов в Боснии, отца Весны Дугонич. Фильм «Помнишь ли ты Долли Белл?» стал ее настоящей личной удачей, а влияние ее отца послужило щитом против анафемы.
Было уже слишком поздно для Баскича и всех тех, кто защищал Тито от неотвратимо наступающих новых времен. Шутливый тон «Долли Белл» обезоружил самых яростных сторонников партии Тито и всех вышестоящих чиновников. Даже Мухамед Кресо, правая рука Хасана Грапцановича, секретаря Центрального комитета Боснии и Герцеговины, «боснийский Геббельс», как называл отец этого цензора всех артистических начинаний в Боснии, в итоге одобрил этот фильм.
«Помнишь ли ты Долли Белл?» достоверно отражает жизнь сараевских улиц. В фильме как на ладони раскрывается драма окраинных районов города, которая никогда раньше не затрагивалась и всеми игнорировалась. Кроме того, впервые жители Сараева могли идентифицировать себя с тем, что они видели на экране, с удовольствием разглядывая утрированное изображение своей повседневной жизни. Особенно сараевцев радовало осознание того, что их личные драмы, образы их отцов, матерей и сестер, условия их жизни станут отныне известны и понятны всему миру. Посредством этого фильма время — подобно морю, выбрасывающему после шторма на берег разные предметы, — вновь, как по мановению волшебной палочки, предъявляло их взору события их собственной жизни в пронзительном и абсолютно новом свете.
Абдула Сидран вошел в мою жизнь в облике мученика. В своем рассказе «Отец — это дом на слом» он описал семейную трагедию, главным героем которой стал его собственный отец, жертва лагеря «Голи-Оток». Как раз из-за отца сараевские политические власти недолюбливали Сидрана.
Мы познакомились в столовой здания сараевского радио и телевидения, где я в ту пору работал. Сидран, как это часто бывало, уже несколько дней подряд не вылезал из пьянок и ночных развлечений. Своим талантом он выделялся на фоне других сотрудников телевидения, раздутых от самомнения, сидевших в этой столовой, пропахшей запахом жареного лука. Его поэтический дар, подкрепляемый искусством риторики, придавал ему вид мелкого литературного аристократа. Он говорил так, словно диктовал машинистке готовые диалоги для своего будущего романа. Ни одной лишней запятой, ни единого ненужного слова. Позже я понял, что он на самом деле писал, тогда как мы считали, что он говорит.
Однажды в свойственной ему манере он сказал мне:
— В письме я обошел их всех, включая Гордана Михича[40]! Не сомневайся ни на секунду. У меня есть для тебя сценарий!
Месяц спустя он написал короткую версию сценария, в живой манере повествующего о сараевском подростке Дино в период, когда в нем начинают пробуждаться первые проблески сознания. Сидран умело сплетает семейную драму, достигающую кульминации в момент смерти отца, и личную драму Дино, влюбленного в юную крестьянку, которую привозят из деревни, чтобы «подготовить» к проституции в Милане. Сцена, в которой отец Дино, Махо, коммунист и мечтатель, умирает и отправляется в мир иной, в то время как его сын обнаруживает в журнале «Политикин забавник» статью о научных гипотезах существования вечной жизни, грандиозна. Невероятную силу этой сцене придали твердая автобиографическая убежденность и мелодичное звучание диалогов Сидрана.
Я быстро решил, кто будет исполнять роль отца, вспомнив о Слободане Алигрудиче, поразительном черногорце. Мне не пришлось долго уговаривать Слободана сыграть в моем первом фильме. Он часто ругался с киностудией и Ольгой Варагич по поводу своих гонораров, а позднее — из-за разных мелочей. До самого конца съемок он отказывался подписывать контракт. Он любил насмехаться над неприятными людьми, особенно над властителями кинематографического мира. Никогда, ни до этого, ни после, я не встречал настолько притягательного человека с ярко выраженной предрасположенностью к саморазрушению. Он выкуривал по пять пачек «Marlboro» в день, щипал актрис за ягодицы во время фотосъемок и мечтал заниматься более серьезным делом, чем актерство, таким, например, как выращивание арбузов. А во время съемок он колол оператора Вилко Филача шприцем, который позже использовался в сцене смерти! У Алигрудича был готов ответ на всё, его не обескураживали даже важные вопросы бытия.
Однажды, когда я ждал возвращения из Триполи Майи и Стрибора, отправившихся проведать Лелу, у которой был там собственный медицинский кабинет, я сказал ему:
— Когда я думаю о них, у меня в животе поднимается теплая волна. Что это может быть?
— Любовь, глупец! — ответил он, постучав пальцем по моей голове.
Между моими попойками — которые были всего лишь дружескими вечеринками, а не привычкой или способом прятать свое малодушие — появились большие паузы.
Однако после окончания съемок мои встречи со Слободаном Алигрудичем превратились в настоящие пьяные загулы на всю ночь. Во мне проснулось все, что, как мне казалось, я оставил в юности в период своей учебы. Эксцентричность, поэтическая чувствительность, интеллектуальная агрессивность снова вылезли на поверхность. И все это посыпалось из чемодана, в который я запер грехи юности во время своего становления в Праге. В безумствах, следовавших за нашими попойками, мы с Алигрудичем соревновались, кто сильнее ударит головой о водостоки старых домов Баскарсии и сломает их. У него оказалась крепкая голова, чего нельзя было предположить с первого взгляда.
Для нас обоих отец Сидрана стал источником нашего литературного вдохновения. При этом мой отец вдохнул в «Долли Белл» реальную жизнь, которую литература дать не могла. Мурат, этакий живой прообраз героя, обогатил деталями персонаж отца, который забывает о протекающей крыше и не собирается ее ремонтировать, зато охотно разглагольствует о царящей в мире несправедливости, полный уверенности, что с 2000 года планетой будет править коммунизм. Объединение судеб сценариста и режиссера решительным образом повлияло на популярность этого фильма. В итоге главным героем стал именно отец, а не Дино, даже если Славко Симач сыграл роль сараевского тинейджера с поразительной точностью.
Подобно всем провинциалам, распускающим себя после большого успеха, я начал злоупотреблять алкоголем. Я находил в нем все больше и больше удовольствия, и эта игра очень быстро стала опасной. Не столько из-за самой выпивки, сколько из-за моей потребности провоцировать скандалы в общественных местах. Больше всего мне нравилось оскорблять Тито и государство в барах. Первого я ругал вполголоса, зато брань в адрес государства могли слышать все, кто находился в этот момент в помещении.
Однажды после долгой бессонной ночи Майя позвонила моему отцу и с тревогой сообщила, что я не появлялся дома весь день и всю ночь. Она умоляла его забрать у меня ключи от машины под любым предлогом — например, чтобы отвезти Сенку во Врело Босне. Отец сделал все, о чем она его просила, и даже больше. Он решил пожертвовать собой и напиться вместо меня.
Он нашел меня в кафе «Сеталист», когда я «поправлялся» пивом после хмельной ночи. Утолив жажду, я перешел к рому и в качестве тоста, встав с места, принялся ругать государство, размахивая бокалом. После чего осушил его до дна. Своим неодобрительным взглядом официантка Борка дала мне понять, что «не следует говорить такие вещи». Затем, по-прежнему взглядом, она показала мне на посетителей, которые слушали мои непристойности. Когда я снова принялся оскорблять государство, она закрыла уши обеими руками, чтобы не слышать меня и не передавать информацию куда следует. Каждый новый бокал рома сопровождался очередным ругательством:
— Плевать я хотел на государство! — воскликнул я, и в этот момент мой отец поднялся и закончил:
— Лихтенштейн!
После чего он залпом осушил свой бокал.
Когда он понял, что я собираюсь как следует напиться, то добровольно пошел на дополнительную жертву. Прикидываясь идиотом, он утаскивал мои бокалы с подноса официантки. В итоге он набрался до такой степени, что вопреки намеченному плану мне самому пришлось везти его на машине до квартиры в Косеве, чтобы он там протрезвел. Я отвез его к Майе, а не домой, потому что он дал обещание Сенке больше не прикасаться к спиртному. Войдя в квартиру, он не обратил внимания, что стены были свежевыкрашены. Он поздоровался с Майей и помчался в ванную комнату. Рядом с дверью в туалет к коридорной стене была прислонена другая покрашенная дверь. Отец дернул за ручку, и дверь свалилась ему на голову. Оглушенный ударом, он опрокинулся на спину, полностью скрывшись под дверью. Когда ему удалось выбраться, он поискал Майю взглядом и произнес, держась за голову:
— Мне только что пришла в голову одна мысль, дорогуша. Какая судьба ожидает чешскую сталь, если Советский Союз развалится?! Кто первый приберет ее к рукам? Ты знаешь, какое качество у их стали?
В 1983 году умер дядя Акиф, представитель фирмы «Philips» в Боснии и Герцеговине и личный друг королевы Голландии. Таинственный господин, король элегантности Баскарсии, единственный житель Сараева, который даже детей приветствовал легким кивком головы, приподнимая свою шляпу.
Как-то в субботу после обеда, как раз за неделю до смерти своего отца, Дуня Витлачил-Нуманкадич прогуливалась по улице Васе Мискина. Она взяла с собой свою свекровь Смилю, чтобы пройтись по Старому городу. Ей давно хотелось сблизиться со своим отцом, но судьба распорядилась по-иному. Толкая коляску со своим маленьким сыном Деяном, она невольно вздрогнула, увидев Акифа возле кондитерской «Египет». Пока ее отец переходил на другую сторону улицы, направляясь к своему офису рядом с мечетью Алибея, Дуня остановилась, на этот раз полная решимости познакомить деда с его внуком, как это водится у нормальных людей. Заметив дочь, дядя Акиф по своему обыкновению кивнул головой в знак приветствия, с широкой улыбкой взглянул на своего внука, снова надел шляпу и исчез из виду. Взволнованной Дуне оставалось лишь горестно размышлять о том, что же такого могло произойти в жизни ее родителей, чтобы ее отец проходил мимо собственных детей, а теперь и мимо своих внуков как вежливый незнакомец. Она знала, что ее отец с матерью, разъехавшись после двадцати лет жизни в одном доме, встретились лицом к лицу на улице лишь однажды. На несколько секунд они замедлили ход, глядя друг другу в глаза взглядом, полным невысказанных упреков во взаимной неверности. Никто из них не произнес ни слова. Больше они никогда не виделись.
Все, что Акиф отказывался делать для собственной семьи, он компенсировал своей общественной жизнью в Баскарсии. Там даже местные сумасшедшие, включая самого известного из них, Хору Кукурику, признавали в нем настоящего джентльмена и преклонялись перед ним. Дядя Акиф кормил их, заботился о них, давал им денег. Когда загадочная смерть унесла этого человека, прожившего не менее загадочную жизнь, его кончина в глазах семьи и сограждан стала яркой вспышкой, озарившей необычный образ моего дяди.
После своей смерти дядя Акиф пополнил длинный список чеховских героев, обогативших мою жизнь. Во время обычного медицинского осмотра он узнал, что у него проблемы с почками. Дядя не стал паниковать, но когда доктор сообщил ему, что операция неизбежна, он услышал, как в его дверь стучится смерть. Уверенный, что не выйдет живым из больницы, он написал последнюю впечатляющую страницу своей жизни. Его сердце не выдержало сложной операции. Новость о его смерти распространилась по Баскарсии со скоростью света. Все его друзья и родственники помчались выражать свои соболезнования на улицу Вразова, в квартиру дяди Акифа. Его сестре Изе, которая к тому времени рассталась с фальшивым пилотом Адо Бегановичем и теперь жила у своего брата, не пришлось прилагать много усилий для организации поминок в квартире покойного. Ее брат купил все необходимые для этого дня продукты и сложил их на полки и в шкафы на кухне.
— Покойный был большим противником алкоголя, — заявила моя тетя, когда собрались гости. — Прошу вас уважать его волю и не пить спиртное в квартире.
С этими словами тетя Иза засунула руку за сифон кухонной раковины и вытащила оттуда бутылку домашней водки, как бы подтверждая, что алкоголь здесь абсолютно запрещен. Она наполнила бокалы для себя и только что прибывших гостей.
— И все же мы не может проводить покойного без последнего «прощай». И, как утверждают наши братья-христиане, необходимо выпить за упокой его души.
Она выплеснула половину своего бокала[41], выпила вторую половину и поставила бутылку на место, под раковину. Иза уже давно жила у своего брата и иногда выпивала по стаканчику, когда болел желудок или когда на душе скребли кошки. Об этом, разумеется, ее брат не знал, поскольку был «большим противником алкоголя».
Перед тем как лечь в больницу, дядя Акиф решил, что его проводы в последний путь должны пройти достойно. Он отправился в магазин, и его покупки в тот день не имели ничего общего с обычным месячным рационом. Он хотел быть уверенным, что после его смерти, в день поминок, все пройдет так, как должно для человека его ранга. Помимо закупки всех необходимых для этого дня продуктов, дядя оставил своей сестре подробные письменные инструкции о том, как следует распорядиться съестными припасами: «Двух с половиной килограммов кофе хватит, чтобы все, кто скорбит обо мне, могли пить его вдоволь в течение двух дней. Их будет около двухсот пятидесяти. Если разделить два с половиной килограмма на двести пятьдесят, в зависимости от того, готовишь ты крепкий или слабый кофе, приблизительно его должно хватить на всех. Килограмма сахара, конечно, многовато, но было бы глупо покупать меньше. В любом случае, в запасе есть еще два килограмма. Килограмм фиников и сушеного инжира, а также два килограмма лукума: два первых предназначены детям, а лукум, разумеется, подается взрослым вместе с кофе».
В нижней части серванта в столовой дядя Акиф составил сиропы и фруктовые соки. Чтобы был порядок, он отделил лимонад от вишневого сока и на белом листе своим красивым почерком добавил дополнительные указания: «Не стоит злоупотреблять лимонной эссенцией, поскольку она не натуральная, но очень хорошо утоляет жажду. Не клади больше половины столовой ложки на два децилитра воды. Вишневый сок несколько густоват, его следует развести. Не в целях экономии, а потому что не очень хорошо, когда напиток слишком сладкий. Следует помнить, что диабет — частое явление среди людей моего поколения, а поскольку в этот скорбный день по случаю моей смерти будут преобладать люди моего возраста, необходимо со всей серьезностью отнестись к тому, о чем я только что упомянул…»
Не бывает фильма без мрака
В 1985 году фильм «Папа в командировке» победил на Каннском кинофестивале. Это был первый югославский фильм, получивший «Золотую пальмовую ветвь». Я вернулся в Сараево за три дня до окончания фестиваля, и премию за меня получил Мирза Пасич, директор «Форум-фильм Сараево». Его фотография с «Золотой пальмовой ветвью» и поднятыми вверх руками обошла весь мир. Он получил награду из рук Стюарта Грейнджера и просто сказал:
— Большое спасибо.
Когда меня спросили в Сараеве, почему я сам не получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, я не придумал ничего лучше, чем ответить, что мне нужно было класть паркет в квартире моего друга Младена Материча.
Моей победы на Венецианском кинофестивале оказалось недостаточно, чтобы городские власти удосужились выделить мне государственную квартиру. Мы с Майей и Стрибором жили в квартире родителей Майи. В этой парадоксальной ситуации, в результате которой я, несмотря на награду, не мог воспользоваться своим правом на жилье, сыграли роль два фактора: я никогда не был членом коммунистической партии, и Мурат не пользовался особой любовью в сараевских политических кругах. Как иначе объяснить тот факт, что счастливый обладатель венецианского «Золотого льва» до сих пор жил в чужой квартире? Несмотря на то что венецианский «Золотой лев» и победа баскетбольной команды «Босна» представляли собой единственные достижения, благодаря которым Сараево фигурировал на европейской арене! Мне это напомнило отца и его юмор, когда, лежа на диване, он защищался от нападок моей матери, вопрошающей, почему помощник министра живет в полуторакомнатной квартире. Право на жилье, разумеется, было — оставалось лишь его применить! Но мои проблемы не ограничивались жильем и отсутствием каких-либо привилегий, которые предполагает кинематографическая слава.
После Венеции мой следующий проект «Папа в командировке» неожиданно погряз в политическом болоте. Сценарий, написанный за неделю, в интервалах между попойками Сидрана, но также в порыве вдохновения после успеха «Долли Белл», стал излюбленным блюдом в меню преемников Тито. Мы с Сидраном и Стрибором поселились в отеле «Империал» в Дубровнике, словно в укрепленном лагере, с единственной мыслью в голове: как можно скорее завершить сценарий об этом критическом периоде 1948 года. Это была по-прежнему история семьи Золь, но происходила она чуть раньше по времени, в соответствии с событиями той эпохи. Речь шла о том, как отец Меша Золь, став жертвой любовной махинации, был уничтожен политически и как судьба этого политзаключенного повлияла на становление его сына Малика.
Раз уж я не получил квартиры и прочих привилегий в связи со своей недавней венецианской победой, я надеялся хотя бы на отсутствие проблем со съемками нового фильма. Очень скоро стало ясно, что надеялся я зря. Я не учел того факта, что маленькие солдаты Тито по-прежнему стояли у власти и изо всех сил старались ничего не менять, словно Тито и не умирал, и особенно — не касаться любой щекотливой темы, в частности болезненного 1948 года.
Мой фильм затрагивал ту страницу нашей истории, которая не пользовалась популярностью среди наследников Тито. Особенно если учесть, что они добились политической славы, пропагандируя миф о разрыве отношений между Тито и русскими. С одной стороны, мой фильм — в поэтическом стиле, глазами маленького мальчика, — рассказывал о ключевых исторических переменах, но при этом касался также истории невинной жертвы лагеря «Голи-Оток». В то время я еще не вполне осознавал свою компетентность в вопросах темы «Голи-Оток». А ведь я видел немало друзей своего отца, пьяных и несчастных, приходивших в нашу квартиру в Горице, а также в следующую, в доме номер 9 А на улице Каты Говорусич. Все они сыграли важную роль в моем становлении. Особенно Хайрудин Сиба Крвавац, который был членом худсовета «Сутьеска-фильм», но из-за своего прошлого в «Голи-Оток» он не сумел помочь мне распутать клубок, тормозивший съемки моего второго полнометражного фильма.
Как удержать мяч на середине поля? Как охладить пыл художника, одержимого своей идеей, и постепенно разубедить его снимать фильм «Папа в командировке»? Такой вопрос задавали себе члены худсовета «Сутьеска-фильм». Разрешение на съемку в обязательном порядке утверждалось этим советом. Все это походило на ловкость футболиста Мехмеда Баздаревича, пытающегося удержать мяч у себя как можно дольше.
Отчеты наших интеллектуальных «футболистов» наилучшим образом демонстрируют эту потребность «удерживать мяч в середине поля».
Вот отчет о рабочем совещании худсовета «Сутьеска-фильм», состоявшемся 1 февраля 1983 года в его штаб-квартире в Ягомире.
Чедо Кисич:
Мы знаем, о какой эпохе рассказывает сценарий, но, по моему мнению, автор уделил ей недостаточно внимания. В этом сценарии не ощущается духа нашей борьбы с Коминформом. Гораздо больше внимания уделяется описанию личных судеб людей, но не сообщается ничего о событиях, происходящих вокруг них, и о состоянии общества. Когда сталкиваешься с такой драмой, необходимо четко описывать эпоху, поскольку возникает вопрос: почему все, что происходит в фильме, происходит?
У меня также есть ряд замечаний касательно некоторых моментов сценария: например, разговор между матерью и главой мэрии. Он звучит слишком резко — я считаю, это нужно изменить. Когда следишь за судьбой человека, размышления о смысле тех или иных событий в его драматургическом значении требуют, чтобы люди спросили себя: какого ждать результата? каков будет финал фильма?
Местами сценарий подпорчен провинциальностью и примитивизмом, которые следует убрать. Мне также кажется, что психологический портрет ребенка чересчур надуман. Не знаю, отражает ли этот фильм в полной мере определенную идеологическую позицию.
Никола Никич:
Постановочный сценарий скоро будет завершен. Поскольку некоторые существенные изменения уже были внесены режиссером в этот сценарий, я предлагаю не обсуждать актуальную версию сценария, а рассмотреть новый вариант на следующем заседании худсовета.
Отчет о втором рабочем совещании худсовета «Сутьеска-фильм», состоявшемся в его штаб-квартире 28 февраля 1983 года.
Недьо Парезанин:
Читая первый сценарий, я искал в нем 1948 год и события, происходившие в нашей стране, какими они выглядели в глазах всего мира и в наших собственных. Что значит этот год для мира, для международного рабочего движения? Многое! Он ознаменовывает начало новой эры в международном рабочем движении. Нет ни одной прогрессивной силы в мире, которая не опиралась бы на «НЕТ» Тито. Хотя этот фильм и не претендует на раскрытие полной картины тех месяцев, он все же обязывает уделить больше внимания этому периоду. Вот почему фильм, по моему убеждению, должен дать нам прочувствовать дух и события того времени. Кроме того, у меня есть ряд конкретных замечаний:
за кадром Малик рассказывает, что его отец заявил о нем за месяц до его рождения, чтобы получить дополнительное продовольствие для ребенка, — это не соответствует действительности, поскольку в то время дополнительных продуктов не выдавали, а существовали рационы питания;
секретарь KPJ[42] в целом годится, но его выражения настолько надуманны, что он невольно превращается в карикатуру. Это партийное собрание должно быть серьезным, а секретарь — соответствовать реальности, без утрирования и изображения персонажа в черном цвете;
сомневаюсь, что будет возможно снять сцену погребения, поскольку не найдется ни одного православного попа, который согласится хоронить пустой гроб. Ложь противоречит их догме;
Морнар и Наташа — самые светлые персонажи фильма. Они делают его оптимистичным и живым;
семья Павловичей одевается в траур, потому что отец был приговорен к заключению, как член Коминформа. В то время это было бы воспринято как выражение протеста, и им бы не поздоровилось. Подобное проявление оппозиции было недопустимо в ту эпоху;
поэма Макаренко пользовалась популярностью, и я ничего не имею против того, чтобы ее читали в фильме, но только без сарказма;
когда членов Коминформа отправляли в лагерь, их семьи в обязательном порядке выселялись из квартиры, даже если все они были приличными людьми. Поэтому глава мэрии, спасающий семью от выселения, кажется мне выдумкой. Считаю, что семья должна быть выселена, тем более что все ее члены переехали в Зворник, а в квартире остался лишь дедушка. Правда должна оставаться правдой;
Малик не должен писать дважды своему отцу; женщины с татуировкой Франьо показываются на протяжении фильма три-четыре раза в шутовской манере. Я считаю, это уже перебор;
больше всего вопросов вызывает персонаж Анкицы. Он недостаточно обоснован, и даже любовь не оправдывает этой черной злобы. Независимо от своих моральных устоев — а они скорее отсутствуют, — Анкица в итоге вступает в борьбу с Коминформом. Безнравственность оказывается на нашей стороне;
полагаю, фильм немного потеряет, если названия городов Зворник и Баня-Ковиляча будут изменены, поскольку туда ездят лечиться бесплодные женщины и у них могут возникнуть неприятные ассоциации;
персонажи доктора Ляхова и Маши меня смущают, потому что они русские. Символика более чем понятна: рыдания, слезы, разрыв с Россией. Доктор — русский белогвардеец, а мы в 1948 году выслали многих из них в Россию. Любовь между Машей и Маликом не конкретизируется. Рыдания здесь совершенно неуместны. Поэтому мы можем их интерпретировать как слезы из-за разрыва отношений с Россией, а мы, как известно, не плачем по этому поводу. Детская любовь, альбом с воспоминаниями и все, что с этим связано, прекрасно может быть реализовано, если заменить русских на наших соотечественников;
брат женщины, агент UDBA, как в первом, так и во втором сценарии, действует по собственной инициативе. Нигде за ним никто не стоит. Он сам решает все: кого увезти, кого посадить. Не следует делать из сотрудников UDBA идиотов. Что бы ни происходило в то время, UDBA и «Голи-Оток» сыграли важную роль в борьбе против сталинизма. Мне кажется, что в будущем к этому периоду не будут относиться столь негативно, несмотря на некоторые совершенные в ту пору ошибки;
Петрович и его смерть не вписываются в историю Малика, поскольку юный возраст последнего не позволяет ему понять случай Петровича;
в конце фильма я бы поженил Наташу и Морнара. Я не против того, что Фарук предстает в образе алкоголика, но водка его сломала. Это слишком темный тип, самый мрачный персонаж фильма, и он появляется на фронте борьбы против Коминформа, так что складывается ощущение, что с Коминформом сражались отбросы общества, такие как Фарук и Анкица. Поэтому я считаю, что следует пересмотреть оба этих персонажа и объяснить, почему они настолько мрачные. Возможно, следует подумать, что они не созрели для того, чтобы стать агентами, поскольку их нельзя так оставить, — это слишком отрицательные персонажи;
наши современники хотят увидеть, как Югославия одержала верх над Сталиным, и если мы этого не покажем, значит, мы войдем в противоречие с современной историей. Следует показать миру, насколько было сложно претворить в жизнь великое «НЕТ» Тито.
Чедо Кисич:
Я придерживаюсь мнения, которое уже высказывал о втором варианте сценария этого фильма. Хотя некоторые изменения и были внесены в постановочный сценарий, все они носят поверхностный характер. Основным недостатком обоих сценариев является характер эпохи. Необходимо как следует отразить ее драму. А в этой части фильма эпохи не видно, она совершенно не чувствуется. Что значило все то, что происходило в тот период спорных высказываний? Здесь мы не видим ничего из этого, а песня «Вся страна…» звучит даже несколько иронично.
Сцена передачи жезла, в которой Цекич говорит Меше: «Давай убежим из этой толпы», вряд ли должна оставаться такой. Человек, защищающий систему, не ведет себя подобным образом. Складывается ощущение, что это скорее фильм о сталинизме, а не об антисталинизме. Это ощущение присутствует на протяжении всего фильма, тогда как наша страна нуждается в очень сильном антисталинистском фильме. Кроме того, в постановочном сценарии слишком много ругательств. Они абсолютно ничего не дают фильму, я считаю, что их нужно убрать.
В заключение хочу сказать, что работу над фильмом в соответствии с постановочным сценарием начинать нельзя. Он требует доработки.
Эмир Кустурица:
Эта история не имеет никакого отношения к 1948 году, она связана с 1950-ми годами и затрагивает некую форму политических разногласий. Она могла бы произойти и в наше время, и в любое другое. Цель этого фильма — рассказать о вероятном экстремальном событии, и мне хотелось бы, чтобы дискуссия касалась самого текста, а не возможного резонанса, который он может вызвать.
Я считаю, что проблема заключается в том, что тема затрагивает эпоху, с которой я лично не знаком. Любые настойчивые попытки привязать эту историю к Коминформу делают съемки фильма невозможными. Это вероятная история, с которой мы можем соглашаться или нет, но она никак не связана с Коминформом. У меня есть несколько решений обозначенных вами дилемм. Характер эпохи, о котором вы говорите, может быть выражен через двух персонажей: один из них будет настоящим агентом Коминформа, а другой окажется в «Голи-Оток» по ошибке. Это вполне соответствует реальности, и уточнение может быть внесено в текст.
Некоторые проблематичные места, о которых вы упоминали, на самом деле были выбраны для того, чтобы история не привязывалась ни к какой определенной эпохе; они отражают психологическое состояние персонажей. Постановочный сценарий не ставил перед собой целью анализировать и пояснять какой-либо исторический период.
Чедо Кисич:
Я боюсь, что подобная позиция будет плохо воспринята, поскольку люди, узнав некоторые ситуации, зададут тысячу вопросов. Мне кажется, что было бы неплохо уделить больше внимания вступительным сценам фильма, поскольку характер эпохи в нем выражен слабо. Следует сделать акцент на его драматическом аспекте. В постановочном сценарии также слабоваты диалоги. Они довольно симпатичны, но многие из них бессвязны.
Эмир Кустурица:
Диалог является следствием структуры языка. Не следует отождествлять персонажей и их поведение с их словами, люди раскрываются в своих поступках. Степень вульгарности и диалоги взрослых достоверны. Что касается антисталинизма, то я глубоко чувствую его в этом фильме, поскольку весь фильм — это протест против сталинизма как всеобщей человеческой несправедливости.
Недьо Сиповац:
Основная тема фильма — как невинный человек становится жертвой и что из этого следует; это всеобъемлющая тема, рассказанная как вымысел. Но в постановочном сценарии не удалось обойти Коминформ. Негативная атмосфера сценария создает настойчивое впечатление, что Коминформ был палачом для невиновных. Однако я уже говорил во время своего анализа сценария, что необходимо передать истинный характер эпохи.
Времена Коминформа были жестокими. Если бы удалось прикрыть эту жестокость сказочным налетом через призму детского взгляда, это было бы хорошо. Но в актуальном виде он сохраняет свое негативное значение, озаряя уродливым светом все произведение. В основе трагической судьбы людей лежат реальные исторические события. Но об этом в тексте нет ни слова.
Никола Никич:
Учитывая все вышесказанное, считаю, что следует предложить Эмиру еще немного поработать над сценарием, чтобы лучше передать в своем фильме дух эпохи того времени.
Хайрудин Крвавац:
Я согласен с высказанными замечаниями и думаю, что они могут послужить основой для разработки хорошего сценария для фильма. Режиссер должен их рассмотреть через свою собственную призму и включить в свой сценарий. Несмотря на то что сам текст носит характер рассказа, вполне возможно добавить туда массу вещей, которые позволили бы прочувствовать дух эпохи, в которую происходит эта история.
Сценарий довольно разрозненный, и основной конфликт (уместившийся на тринадцати страницах) раскрыт недостаточно, следует сделать его более понятным, добавив несколько сцен:
то, что говорит Анкица, она должна также повторить в другом контексте, не только Фаруку, но также и в присутствии еще одного агента UDBA;
предлагаю убрать сцену 42 (партийное собрание, критика и самокритика), поскольку она происходит много времени спустя после описываемых событий и лишь усложняет повествование. Я предлагаю заменить ее сценой 55, тем более что в двух последующих сценах речь пойдет о расставании с мужем;
я бы убрал также ношение траура и похороны Владо Петровича, если только режиссер не решил сделать из этого персонажа «парного героя» Меши, а брат жены Петровича не должен погибнуть на пограничной заставе; в тексте не хватает конфликтной ситуации; сцена посещения матерью мэра должна быть сдвинута и размещена сразу после появления преступников;
персонаж доктора Ляхова — самое большое замечание, которое можно сделать этой части фильма. Я считаю, что его следует обязательно заменить югославом, сохранив те же черты характера;
я убрал бы также сцену 54, где мать адресует упреки своему брату.
В заключение хочу сказать, что все подробные замечания, высказанные на этой комиссии, должны быть учтены в следующем постановочном сценарии, поскольку они представляют собой предварительные условия для создания полноценного фильма.
Вывод:
Если сценарий ставит целью показать атмосферу эпохи, необходимо воздержаться от многочисленных двусмысленных размышлений, которые придают ему негативный характер, поскольку сам текст пропитан той эпохой. Комиссия худсовета единогласна в своем решении дать еще немного времени Эмиру на обдумывание всех этих замечаний и советов. Учитывая все высказанные предложения, режиссер должен приступить к работе над новым постановочным сценарием, который будет передан комиссии. После чего совет соберется вновь, чтобы его рассмотреть.
Было также решено передать сценарий для чтения другим лицам, не входящим в худсовет, которых предполагалось выбрать «среди выдающихся представителей культуры нашей республики».
В тяжелые моменты моей битвы за фильм «Папа в командировке» в Сараеве меня утешала лишь мысль о существовании Белграда — эпицентра Балкан, с которым я, тем не менее, впоследствии не раз был в разладе. Если меня зачастую смущали его провинциальность и надменный снобизм его элиты, Белград все же представлял собой мать-кормилицу, последнее прибежище и надежду на то, что все когда-нибудь наладится. Для всех тех, кто решал судьбу фильма «Папа в командировке», Белград был настоящим политическим Содомом и Гоморрой, тогда как для меня он символизировал необходимый переходный этап, ведущий к свободе. Политические круги Сараева считали Белград генератором анархо-либерализма — следуя выражению Тито, который видел в нем чрезмерное ориентирование на Запад, — и антикоммунизма, то есть национализма и идеологии четников, однако на деле это были просто громкие слова, помогавшие бичевать попытку сближения Сербии и России и все прочие проявления свободы, таящиеся в этом городе.
Когда мои силы были уже на исходе, мне пришла в голову мысль, что мое место было там, в этом городе, где выходил еженедельник «Нин»[43], где жили Александар Петрович, Живоин Павлович и прочие кинорежиссеры Черной волны[44], там, где все интересовались философией, где дружили Матия Бецкович[45] и Милован Джилас[46], где жил Драгослав Михайлович, автор романа «Когда цвели тыквы», и где издавался журнал «Студент». Город, где жители просыпались под звуки голоса великого Дуско Радовича, звучащего на радиоволнах.
Дожидаться разрешения съемок «Папы в командировке», словно «Конца игры» Самюэля Беккета, совершенно не входило в мои планы. Нужно было уезжать. Либо в Белград, либо на Запад. Но как появиться на Западе с незавершенным фильмом? Измученный этими раздумьями, я встретился с Мирой Ступицей в аэропорту Сараева. Мы еще ни разу не пересекались, но знали друг о друге понаслышке. В сентябре 1981 года она повлияла на решение своего мужа, Цвиетина Миятовича, президента Югославии и Верховного главнокомандующего армией СФРЮ, который разрешил мне отправиться в Венецию за «Золотым львом», несмотря на мою службу в армии. Встречу с Мирой устроил мне Вук Бабич, мой друг-режиссер, который снял вместе с ней телесериал «Кика Бибич». Мира возвращалась из приморской Трпани, где у Цвиетина была летняя дача.
Очень быстро мы принялись жаловаться друг другу на трудности жизни артиста. Я объяснил ей, что мне осточертел Сараево и я не уверен, что выдержу глупую политическую блокаду, которой подвергался «Папа в командировке». Со своей стороны, Мира поделилась со мной своим желанием быть хорошей мачехой для дочерей Цвиетина и спросила меня, не могу ли я поспособствовать поступлению юной Майи Миятович в сараевскую Академию драматических искусств. Я ответил, что сделаю все возможное, и она пригласила меня навестить их осенью в Трпани, чтобы лично поведать Цвиетину о своих несчастьях.
В середине сентября 1983 года мое такси остановилось у виллы Цвиетина Миятовича. Я был удивлен, обнаружив президента Югославии[47] нежащимся на солнце в купальном костюме и теплых носках. Стареющий президент лежал перед домом — ничто не указывало на то, что это скромное строение предприятия «Кривае» из Завидовичей принадлежало президенту. Он загорал на солнце, но при этом надел толстые вязаные носки из чистой шерсти. Цвиетин заметил, что я смотрю на его ноги.
— Плохая циркуляция крови, мой дорогой Эмир! — объяснил он мне. — Когда-то эти ноги были кошмаром вратарей футбольных команд старой и новой Югославии. А сейчас это даже не ноги, а настоящее бедствие: они моментально превращаются в ледышки, стоит только маленькому облачку скрыть наше адриатическое солнце.
Мы втроем отправились на машине в Дубровник, чтобы поужинать. Там Мира Ступица сыграла решающую роль. Всякий раз, когда она чувствовала, что я захожу слишком далеко, ругая чиновников партии Тито в Боснии, она совершала отвлекающий маневр, с нежностью заговаривая о дочках Цвиетина и подчеркивая мое влияние, которое могло бы стать решающим при поступлении Майи Миятович в Академию драматических искусств в Сараеве. Я уже выпил несколько бокалов вина и, несмотря на несходство наших с Миятовичем политических симпатий, чувствовал, что по мере продвижения вечера начинаю пользоваться у него все большим уважением и он даже готов простить мне мою дерзость. Поэтому я без колебаний взобрался на своего любимого конька:
— Единственная сила, вызывающая трагические события на Балканах, — это политика. И проблемы, которые она ставит героям наших фильмов, театральных пьес или книг, являются единственным достоверным драматическим материалом. Точнее говоря, у нас нет ни одной трагедии, которая не была бы политикой!
— Это твое видение вещей, но не говори, что не бывает трагических мотивов в повседневной жизни!
— Конечно бывает! У французов и бельгийцев!
— А у испанцев? — спросил Цвиетин, обращая разговор в шутку.
— Вы мне не поверите, но они тоже убивают друг друга вовсе не из-за трагедий в повседневной жизни. Не зря самые великие творения испанской жизни пропитаны сильным политическим подтекстом. Взять, к примеру, Гойю! Испанцы долгое время разговаривали друг с другом через оптический прицел ружей. Именно так Андрич объясняет причину, по которой жанр драматической литературы не смог развиться в Сербии.
Чтобы добиться расположения Цвиетина, я без конца упоминал о возможности своего переезда в Белград. Я расписывал свободные традиции этого города, а также свое глубокое убеждение, что разыграть карту можно только в свободном Белграде.
— Ты хоть представляешь, сколько неприятностей нам доставляет сербский национализм в Белграде? Этот Михиз[48] и ему подобные подрывают наше югославское государство!
— Не знаю, подрывают они его или нет, но образованные националисты — приятные собеседники. С ними можно вести дискуссии по-мужски. Мне надоели все эти отбросы общества, Цвиетин, с которыми ты вынужден опошлять собственную речь, чтобы не выглядеть педантом, если, по несчастью, произносишь иностранное слово. Или же, встретив образованных людей, чувствовать безысходность, поскольку они не могут добиться успеха в затхлой атмосфере, царящей в Сараеве. Белград — большой город, широкое пространство для круговорота финансов и идей, в отличие от Сараева, у которого не было ни своего капитана Коцы[49], первого богача, ни нескольких дюжин ученых, мыслителей и деятелей эпохи Просвещения.
Полагаю, что, слушая меня, Миятович начал обдумывать стратегию, которая помешала бы мне последовать примеру Меши Селимовича[50], одного из бесчисленных перебежчиков, которые променяли Сараево на Белград. Судя по всему, он понял, что обязан сделать все, чтобы «Папа в командировке» снимался в Сараеве, и доказать таким людям, как Михиз, что Сараево способен выпустить фильм на запрещенную тему. Миятович воспринял бы как личную неудачу мой переезд в Белград с неоконченным фильмом.
На обратном пути в Трпань он впервые продемонстрировал некоторую симпатию к моей искренности и дерзости, с которыми я выкладывал свой взгляд на действительность самому президенту Югославии.
— Ты утрируешь, — сказал он мне, — но это неважно: ты молод, у тебя своя голова на плечах. К тому же демократия в том и состоит, чтобы позволять людям иметь разное мнение, не устраивая при этом резню. Но скажи-ка мне, о чем твой новый фильм?
— Это продолжение «Долли Белл», но с возвратом в прошлое: история мальчика, который растет со своей матерью и ее братом, после того как отца арестовывают и отправляют в «Голи-Оток» за историю с флиртом, в которой он не так уж и невиноват. Фильм не повествует непосредственно о «Голи-Оток», как роман Антония Исаковича «Трен-2». Я не интересуюсь лагерем «Голи-Оток» как историческим фактом — с помощью этого фильма я просто хочу показать, как это событие отражается на юном Малике. Это мелодрама, которая выводит на сцену тех, кто обычно живет на заднем плане. Цвиетин, это будет особенный фильм!
Фильм «Папа в командировке» был снят через два года после моей встречи с Цвиетином Миятовичем, а затем награжден «Золотой пальмовой ветвью» в Каннах. До этого события дочь Цвиетина, Майя, была принята в нашу Академию, а я обзавелся новым другом.
Милош Форман, президент жюри Каннского фестиваля, был для меня одним из примеров для подражания в кино, человеком, приближение к которому вызывало волнение, стимулирующее мои новые кинематографические поиски. Когда он предложил мне должность преподавателя в Колумбийском университете Нью-Йорка, я согласился без колебаний.
«Папа в командировке» с успехом прошел по всему миру. Кладка паркета в квартире моего друга Младена, в качестве объяснения моего отсутствия на вручении «Золотой пальмовой ветви», была предлогом, позволившим мне избежать комментариев по поводу моих плохих отношений с боснийскими властями. За три дня до окончания фестиваля, когда даже портье роскошного отеля в Канне знали, что победит «Папа…», я вернулся домой, и никто не попытался меня удержать.
Во время премьеры в Сараеве произошло нечто не менее важное, чем эта победа. В тот вечер, когда «Папа в командировке» впервые демонстрировался в Сараеве одновременно в трех кинозалах, я получил настоящую психологическую разрядку благодаря своему семилетнему сыну. Откланявшись перед публикой в кинотеатре «Дубровник», я предстал перед зрителями кинотеатра «Романия», где энтузиазм и эмоции, вызванные фильмом, достигли апогея. Но реакция моего сына Стрибора превзошла эту экзальтацию. Пока я раскланивался перед публикой, которая встретила меня бурными овациями, Стрибор издал душераздирающий крик, выражая таким образом свою боль от разлуки с отцом. Он протянул ко мне руки и разрыдался. Чем громче раздавались аплодисменты, тем больше он вопил и заходился в рыданиях. Когда его привели ко мне на сцену, расположенную перед экраном, я взял его на руки, и Стрибор вцепился в меня так, словно не хотел больше никогда покидать мои объятия.
Сладкие грезы
В 1986 году нам предоставили государственную квартиру на улице Сеноина, одной из самых коротких улиц Сараева, соединяющей улицу Тито с улицей Обала. После каннского триумфа «Папы в командировке» глава сараевской Академии драматических искусств Разия Лагумджия сумела выбить нам жилье через мэрию. Незадолго до этого она заявила в газете «Ослободженье»: «Друзья мои, мы же не позволим „Золотой пальмовой ветви“ продолжать жить у своей тещи, это просто нонсенс!»
Перед нашим переездом из этой обшарпанной австро-венгерской квартиры с высокими потолками, но без ванной была изгнана какая-то студентка. Соседка Февза клялась, что она была проституткой. Мы покрасили потолок, сломали стены и поменяли пол, и в это время на горизонте замаячила новая битва: «Пальмовой ветви» полагался телефон! Этот аппарат, уже немало поживший на свете, был передан Сараеву лишь в целях экономии. Потребовался еще год «окопной войны», чтобы мне выделили телефонный номер. В конечном счете, после того как я пожаловался в прессе, что со мной не могут связаться из-за границы, произошли разительные перемены: перед домом номер 14 по улице Сеноина как по волшебству возникли рабочие PTT. Пока они карабкались на столб и протягивали кучу проводов, соседка Февза проявила бдительность:
— Что это вы делаете? Кто вам позволил загромождать двор?
— Мы устанавливаем телефон «Пальмовой ветви», — ответил ей один из них.
Те, кто до сих пор противился этому, в конце концов осознали, что так они получат прекрасную возможность прослушивать мои разговоры. Воплотились в реальность мечты низкорослого крепыша из окошка Управления внутренних дел, который при выдаче моего первого паспорта предложил мне стать информатором UDBA.
Когда я пришел на телефонный узел, чтобы подписать договор на предоставление мне телефонного номера, служащий-черногорец, с симпатией относившийся к моей манере свободно выражаться, открыл пухлую книгу, напоминающую школьный журнал, и сказал:
— Я в восторге от твоего интервью в «Нин»: как ты их приложил, этого Микулича и его дочь! Снимаю шляпу! Моя дочка изучает восточные языки, и она сказала мне, что Кустурица переводится с арабского как «очень острое маленькое лезвие, которое вставляют в рубанок, чтобы обрабатывать стволы деревьев». А я ей ответил: «Это вовсе не маленький Кустурица, дочка, а очень даже большой!» Держи, брат, выбирай себе любой номер, какой понравится!
Я немного оторопел, но эта неожиданная ситуация мне понравилась. Нужно было выбрать шесть цифр для моего номера. Я некоторое время смотрел на бесконечные колонки с цифрами и в итоге закрыл глаза:
— 212–262! — быстро произнес я.
Черногорец подвел итог:
— Продано! Отныне это твой номер телефона, теперь поставь маленький автограф в договоре.
Этот черногорец расхваливал мое смелое публичное заявление, вобравшее в себя все то, что мой отец высказывал, находясь подшофе, бессонными ночами в течение последних двадцати лет.
После моего триумфа в Венеции Мурат больше не брал с собой в ночные загулы парня того же роста, что и я. Он значительно сократил количество спиртного из-за страха перед инфарктом. Обычно днем он обходил все сараевские кафе, упоминая своего сына по любому поводу, но чаще всего по политическому. Отец гордо спрашивал у своих собеседников:
— Читал в сегодняшнем «Нине», как мой сын их всех вздул?
На самом деле я воплотил в жизнь все его мечты о свободе.
Он был счастлив видеть, что я никому не делаю поблажек. С каждым днем Мурат все больше выглядел как человек, довольный жизнью, осознающий, что он полностью выполнил свой долг. Иногда, с аппетитом поглощая ягненка и запивая его белым вином, разбавленным сельтерской водой, когда во время важной беседы о нашем будущем дискуссия заходила в тупик и никто больше не находил решений, которые могли бы приблизить нас к лучшей жизни, отец небрежно бросал:
— Друзья мои, почитайте интервью Эмира в «Нине»! Там все сказано.
Таким образом он подтверждал мои слова, подразумевая, что за ними стоит он сам. Еще важнее было то, что своим поведением Мурат признавал, что все наши конфликты отцов и детей давно остались в прошлом, а он получил право открыто плевать на всех, включая главу Центрального комитета Боснии и Герцеговины.
Это означало, что он достиг олимпа своей социальной жизни.
Уже в ту пору почти вся ответственность главы семьи легла на мои плечи. Мурат прятался от моих друзей, когда напивался в городе, и если в одном из кафе Сараева он встречал Сидрана, то возвращался домой в компании писателя перед самым рассветом. Сидран и мои родители жили в соседних подъездах, и, перед тем как отправиться по своим квартирам, отец говорил ему:
— Не поддавайся искушению! Не говори Эмиру, что мы сегодня пили!
Основной проблемой Мурата была его склонность к полноте. Он садился на диету, которая приводила к скромным результатам. Иногда он принимался ограничивать себя в еде, но стоило мне отправиться в поездки, связанные с показами «Папы в командировке», как он снова расслаблялся и моментально набирал четыре-пять килограммов. Вспомнив о моем скором возвращении, он звонил Майе, к примеру, в пятницу:
— Майя, напомни мне — когда приезжает мучитель?
— В следующий четверг.
— Ого! Значит, с понедельника мне снова придется сесть на диету.
От удовольствий уик-энда он не отказался бы ни за что на свете. Его не останавливал даже страх перед тем, что его снова будет отчитывать мучитель, в данном случае я, за избыточный вес и беспечное отношение к своему больному сердцу, которое в любой момент могло не выдержать.
— Все, сажусь на диету с понедельника по четверг. Ты даже не представляешь, — говорил он Майе, — какое это наслаждение — лакомиться ягненком с белым вином, разбавленным сельтерской водой прямо из сифона!
Во время знойных летних месяцев мой отец оставался в Сараеве и наслаждался одиночеством, пока Сенка загорала и купалась на Макарской Ривьере. В течение всей второй половины июля и до начала августа совершенно пустой Сараево превращался в красивый город.
Мой отец приобрел новую привычку: приходить к нам после обеда на сиесту. Ему нравились дома австро-венгерской эпохи, поскольку за счет высоких потолков в них не нужны были кондиционеры. Однако он быстро понял недостатки подобных визитов: если он спал как ангел, то просыпался голодным как волк.
«Значит, сначала надо поесть, а уже потом — на боковую», — решил он, сидя за своим рабочим столом и глядя, как за окном мимо здания Исполнительного совета пробегают по сверкающим рельсам трамваи чешского производства. Он радовался предстоящему дню. Итак, завтра после работы, в предвкушении вкусного обеда, он пройдет по прохладной тени здания Исполнительного совета и через Марьин двор дойдет до Кварнера. Дальше ему придется идти по залитому солнцем парку. Разумеется, там не будет тени от зданий, но можно потерпеть, когда знаешь, что в конце прогулки тебя ждет вознаграждение, — при таком раскладе можно выдержать все, даже палящее сараевское солнце.
Мурат твердо решил встать завтра утром пораньше, чтобы приготовить себе обед и отнести его в квартиру в доме номер 14 на улице Сеноина. И лишь после этого он отправится на работу. Он заранее потирал руки, предвкушая этот день, когда он сможет совместить два своих любимых занятия: сладкий послеобеденный сон и предшествующее ему небольшое пиршество. Это будет панированный эскалоп, поскольку ему следовало соблюдать диету.
Мисо Мандич, отец Майи, работал в Судебном департаменте, расположенном в сотне метров от улицы Сеноина. Специализируясь на рассмотрении гражданских дел, он поставил себе целью принимать решение по тридцати делам в месяц. Обычно он рассматривал все дела в течение первой недели, так что у него оставалось много свободного времени. Чаще всего он приходил проведать свою дочь, но также любил побеседовать со мной. Следуя сараевскому выражению, он «оттачивал мой взгляд на историю». С наступлением лета он продолжал приходить в нашу квартиру, несмотря на то что с первых дней июня мы уезжали в Високо, в наш загородный дом. У Мисо была странная привычка: поздоровавшись с соседями, он первым делом направлялся к холодильнику. В большинстве случаев из чистого любопытства. Часто он наполнял наш холодильник лакомствами, которые закупал в боснийских провинциях, куда отправлялся с инспекционными проверками. Вероятно, это был рефлекс бывшего заключенного «Голи-Оток», испытывавшего страх перед голодом.
Поднявшись рано утром, Мурат Кустурица принялся скрупулезно выполнять предварительно намеченный план. Он обвалял в сухарях эскалоп, нарезал в миску салат, накрыл обе емкости прозрачной пленкой и отправился в путь на улицу Сеноина. Солнце только начало подниматься, когда он вошел в нашу квартиру и выложил эскалоп с салатом в холодильник. Придя в офис, он констатировал, что ожидается один из тех июльских дней, когда в секретариате Министерства информации Республики Босния и Герцеговина заняться особенно нечем. Большинство его коллег уже отправились в отпуска. Несколько раз Мурат Кустурица с удовольствием думал об ожидавшем его эскалопе и о последующей чудесной сиесте, которая продлится не меньше двух часов в прохладной квартире с высокими австро-венгерскими потолками.
Мисо Мандич еще не уехал в отпуск. Он тоже остался один в пустом городе. Каждый день он приходил в нашу квартиру, где его дочь перед отъездом на каникулы навела идеальный порядок, естественно, опустошив холодильник. Голодный мужчина никогда не теряет надежды отыскать что-нибудь съестное. Поскольку холодильник упорно был пустым, Мисо не оставалось ничего другого, как после очередной грустной констатации закрыть его и лечь спать, чтобы отдохнуть душой и телом от тягостных гражданских дел.
Около 14 часов 30 минут Мурат вышел из здания Исполнительного совета и направился к дому номер 14 по улице Сеноина.
«Пора пойти перекусить!» — сказал себе помощник министра информации Республики Босния и Герцеговина, счастливо улыбаясь. Он даже принялся насвистывать свою любимую мелодию: «Я бродяга… мне трудно усидеть на месте». Словно кот, он замедлил шаг, приближаясь к своей добыче. «Эй, мой маленький эскалоп! Недолго тебе осталось ждать, скоро настанет твой последний час. Я слопаю тебя!» — повторял он про себя.
Мурат остановился в Градине, купил хлеба и специй для салата. Проделывая это, он учтиво поздоровался с Ризо, известным гомосексуалистом Сараева.
— Как дела, Ризо, есть здесь для тебя молодежь? — спросил его отец, в то время как тот дымил сигаретой; говорят, что сигарету он не выпускал изо рта, даже когда спал: погаснув, она так и оставалась висеть у него в уголке губ.
— Шутишь, Мурат? Если бы кто-нибудь тебя услышал, то, не дай бог, решил бы, что я… — с улыбкой ответил Ризо.
— Да кому в голову придет такое? Все знают, что ты — нормальный.
Мурат взял хлеб и направился к улице Сеноина. Он бодро открыл дверь нашей квартиры, вошел на кухню и подумал: «Как же хорошо, что здесь высокие потолки! Такая прохлада! Молодцы австрийцы, не зря они правили миром и распространили повсюду свою цивилизацию и архитектуру!» Он взял с полки тарелку, поставил ее на стол, разложил приборы и, напевая, направился к холодильнику. Открыл его и… не поверил своим глазам! Не может быть! Как пережить такой шок? Кто-то съел его эскалоп!
— Господи, как несправедлив мир, — сделал вывод Мурат, жуя кусок хлеба.
Он набрал номер в Високо и пожаловался Майе:
— Если бы ты знала, невестушка, как я предвкушал этот момент… И вот я остался с носом. Это ведь он украл мой эскалоп?
Отец подумал о своем сыне, не предполагая, что эскалоп окончил свой путь в желудке Мисо Мандича, который был ему несказанно рад! Судья Мандич был вознагражден за упорство, с которым каждый день открывал холодильник на улице Сеноина. В конце концов он нашел там панированный эскалоп Мурата.
Старая, несколько обветшалая квартира в доме номер 14 по улице Сеноина как магнитом притягивала разношерстную сараевскую публику. Она располагалась в удачном месте, поскольку выходила на главную магистраль города — улицу Тито.
— Давай зайдем к Кусту, это недалеко, — говорили мои друзья, жившие в Виснике или в Косеве.
Стоило им оказаться в центре города, они неминуемо проходили по улице Тито. Таким образом, у них складывалось впечатление, что Куста живет рядом.
Кто только не приходил в эту квартиру! Наши родители регулярно посещали ее раз в день, и редко когда кто-нибудь из наших знакомых не оставался у нас на ночь. Этот бесконечный круговорот гостей напоминал мне комнату в доме номер 2 на улице Войводы Степы, где я родился. Тогда тоже к родителям нежданно являлись гости.
— Это не квартира, а проходной двор! — возмущалась Сенка.
История повторялась, но на этот раз речь шла о более спокойной компании, чем эти отчаявшиеся бедолаги пятидесятых годов. До нас добрались мировой прогресс, «Levi Strauss», кока-кола и рок-н-ролл.
Жизнь между двумя фильмами: «Помнишь ли ты Долли Белл?» и «Папа в командировке» — протекала в ритме «великих надежд». В период, последовавший за смертью Тито, и даже в предыдущие годы рокеры исполняли песни на политические темы. Наиболее яркий след среди них оставили Бора Корба и Азра де Дьёни Стулич. Но больше всего публике нравились выступления под открытым небом рокера Горана Бреговича. Ему удалось перевести тексты песен «Led Zeppelin» на простонародный язык. После концерта у фонтана Гайдука, где собралось более ста тысяч фанатов, тетя Весны Байцетич так прокомментировала манеру исполнения Бреговича:
— Если бы его мать была жива, он бы такое не вытворял!