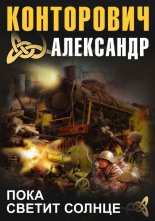Эмир Кустурица. Где мое место в этой истории? Автобиография Кустурица Эмир
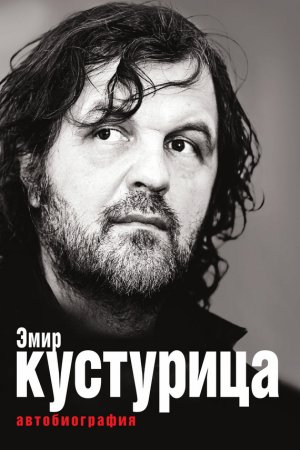
Когда Младен Материч поставил пластинку Лу Рида на граммофон «Dual», Джонни смог прочесть в моих глазах восхищение и радость, которые он вряд ли связал с Лу Ридом. Для него слушать «Take a walk on the wilde side» было вполне обычным делом.
— Did you see it? [80] — без конца повторял я.
— What do you mean?[81] — не понимал Джонни.
— My friends, they like Lou Reed[82].
«Что в этом удивительного?» — должно быть, подумал Депп, после чего просто сказал:
— Да, они молодцы.
Он не мог понять, что такие мгновения, проведенные в доме Младена, были связаны для меня с самым красивым образом Сараева. Это столь горячо желаемое слияние Запада и Востока, это пленительное смешение, объединяющее две части света, стирающее границы между духом Возрождения и меланхолической духовностью Востока. Дух баллады, присутствующий в песнях Заима Имамовича, озарил театральные пьесы Младена и мои фильмы, а также наши мысли. Когда-то чрезмерное увлечение турецким кофе представляло для Младена реальную опасность: он рисковал встретить свое семидесятилетие в характерной восточной позе, сидя на софе в курильне «У Авдо». С косяком, который скручивал Младен, Сараево превращался в настоящее чудо. Даже улица Скерлич становилась сносной. Крутая, темная, втиснутая в узкое пространство между невысокими жилыми домами, она прославилась своей повышенной опасностью в зимнее время из-за льда, сковывающего асфальт, как только выпадал первый снег, и связанными с этим постоянными авариями. Как говорил Андрич, здесь улицами служат бывшие овраги.
Этой ночью мы как следует налегли на травку, как это делали когда-то партизаны, перед тем как пойти в наступление на гитлеровские войска. Было очевидно, что Джонни имел богатый опыт курильщика. Перед моим взором представали автомобили, скользящие по заледеневшей улице. Я словно монтировал фильм, перематывая пленку назад несчетное количество раз и просматривая аварии с самого начала. Чем больше нас окутывала дымка марихуаны, тем быстрее рассеивалась тяжелая атмосфера нашего города. Помойки, выстроившиеся под окнами квартиры Младена, испускали аромат гниющих отбросов. Несмотря на неприятный запах, это зрелище необъяснимым образом успокаивало меня. В нашем тумане вырисовывались киты, дельфины и прочие странные видения, порождаемые марихуаной. И тогда Младен начал рассказывать историю о целующихся китах, а я принялся доказывать, что слово «брусника» — производное от Брюса Ли. И захохотал во все горло. Веса, жена Младена, и Джонни тоже не удержались от смеха. Мне казалось забавным, что я никак не могу передать Джонни атмосферу, царящую в моем родном городе. Слова здесь совершенно не помогали. Все мои попытки произнести хотя бы одну фразу о том, что ожидало нас завтра, прерывались взрывами безумного хохота. Вначале ненавязчивый, смех быстро превратился в настоящую истерическую реакцию на реальность, которая в Сараеве была скорее предчувствием, чем очевидным фактом жизни. Любая попытка побороть этот смех и дать возможность включиться рассудку оборачивалась неудачей. По окончании долгих и неиссякаемых приступов смеха в моей голове билась лишь одна мысль: сожаление от того, что я так и не смог объяснить Джонни, куда он пришел в гости и насколько особенным был этот сараевский дом, где слушали Лу Рида и где святым покровителем был Боб Уилсон.
Пока мы спускались по улице Скерлич, дурман от марихуаны постепенно улетучивался. Теперь невидимое вещество, циркулирующее в крови, вместо того чтобы стимулировать в мозгу рецепторы смеха, впрыскивало в него слабые дозы паранойи. Я показал Джонни на одно из окон и произнес:
— Летняя жара в Сараеве бывает изнурительной, и улицы становятся совершенно пустынными. Теперь представь этот крутой спуск в разгар лета, когда здесь нет ни одной живой души. Как-то прошлым летом, когда в июльском зное ощущалось приближение грозового ливня, один из жителей высунул в окно граммофон и динамики. И внезапно раздалась музыка, которую никто не ожидал здесь услышать: «Волшебная флейта» Моцарта. Музыка разливалась по всем уголкам призрачно пустынной улицы.
— Местные жители редко слушают Моцарта, — продолжил я, — возможно, лишь на атеистических похоронах. И если кто-то включает Моцарта на пустынной улице, это означает, что он хочет снять накопившееся напряжение. А вовсе не для того, чтобы насладиться невероятной гармонией и космическим равновесием, подаренными нам Моцартом.
Судя по всему, моего гостя выбили из колеи мои абстрактные рассуждения о грядущей войне. На следующий день у Джонни поднялась температура, и он не смог встать с кровати. А может быть, причиной был ледяной холод Министерства культуры Республики Босния и Герцеговина. Или на Джонни так подействовала музыка Моцарта, величественная красота которой однажды разлилась по пустынной улице Сараева, предвещая войну? Или же холод пробрался под одежду моего гостя и подорвал его иммунитет, когда он присоединился к моим друзьям, защищавшим кафе от притязаний капиталистов?
Как бы то ни было, Сенка сумела быстро сбить температуру благодаря проверенной годами алхимии. Компрессы из виноградной водки и чай из шиповника сотворили чудо.
— Your mother Senka saved my life, great woman![83] — повторял мне позже Джонни.
В тот день Джонни остался лежать в кровати, а я через некого Миру Пуриватру, жена которого была родственницей Изетбеговича, получил приглашение встретиться с президентом Боснии и Герцеговины в квартире его сына.
Изетбегович с виду показался мне вполне миролюбивым. Это впечатление усиливалось присутствием его беременной невестки и сына Бакира, которого я знал еще со школьной скамьи. Когда его отца бросили в тюрьму из-за написанной им книги «Исламская декларация», я, по наущению Добрицы Косича[84], подавал петиции о его освобождении. Они оказали положительное воздействие на моральный дух Изетбеговича, находившегося тогда в заключении.
— Тебе известно, Эмир, что мы, все Изетбеговичи, в прошлом объявляли себя сербами. Белград нам ближе, чем Загреб, — начал Алия.
— Я этого не знал, очень любопытно, — ответил я, прежде чем продолжить: — Мы умирали со смеху, глядя на комика Цкалию по сербскому телевидению, нам так нравился его юмор. Что касается Нелы Эрзисник, чтобы не обидеть ее, моя мать говорила: «А она ничего».
— Только дело вот в чем, — перебил меня Алия, — когда видишь, как сербы ведут себя по отношению к албанцам, у меня не остается никаких иллюзий по поводу того, какое место они отвели бы нам, мусульманам, в объединенном государстве!
Изетбегович намекал на соглашение, заключенное между мусульманами и сербами, которое Милошевич уже подписал и которое собирался ратифицировать Зульфикарпашич, лидер более умеренной мусульманской партии, обращенной к Европе[85].
— Допустим, — ответил я, — но попробуй поставить себя на место серба: ты дорожишь своей территорией, своими монастырями, духовным наследием Лазаря, это ведь что-то значит.
Сейчас я говорил больше как защитник Югославии, а не как заступник сербов.
— Это к делу не относится, Эмир, — вмешался Бакир, — обычная сербская пропаганда. Для албанцев это вопрос демографического взрыва, мы вовсе не хотим прогонять сербов. Клянусь матерью, никто не собирается никого никуда выгонять.
Сын Изетбеговича изо всех сил пытался убедить меня и поколебать мои сложившиеся убеждения. Я вспомнил, каким был Бакир во времена учебы. В перерыве между уроками он вынимал сосиску из своего сэндвича. Затем с брезгливой гримасой пересекал всю столовую и демонстративным жестом, с неизменным «Фу, гадость!», бросал ее в мусорное ведро.
Когда его обзывали Али Желтым, из-за его рыжих волос, Бакир старался принимать это с юмором.
— Я — не желтый, я — зеленый! — отвечал он, лишний раз напоминая о своей исламской принадлежности.
— Хорошо, а как мы научим албанцев из Косова платить за электричество? Будет ли кто-нибудь брать налог за крупные земельные сделки? Насколько мне известно, страховые компании и основные государственные учреждения не функционировали уже при Тито. Все началось задолго до Милошевича!
Изетбегович не стал в это вникать, а решил сразу перейти к делу:
— Не обижайся, но я считаю, что ты слишком много философствуешь. Сейчас важно не это, мы должны сосредоточиться на ключевых проблемах.
Президент выдержал паузу, как истинный актер, — ровно столько, сколько требовалось, чтобы следующая фраза прозвучала во всей своей значимости:
— Знаешь, Эмир, у сербов скоро останется совсем немного генералов в Боснии. Им следует свыкнуться с этой мыслью.
Сообщая мне это, Изетбегович полагал, что наш разговор будет передан Добрице Косичу. Он считал, что Косич имеет решающее влияние на Милошевича. Но довольно быстро выяснилось, что это не так.
— Да, если Босния — страна мирных граждан, — ответил я шутливым тоном, — логично, что солдаты в ней занимаются своим делом.
Но он не проявил того же чувства юмора, с каким отнесся к милым мальчикам из «VOX»:
— Конечно, логично. А при мусульманах станет еще логичнее!
Если бы я продолжил выражать свое мнение, это неминуемо привело бы к конфликту. «Не очень-то любезно со стороны гостя пакостить в доме хозяина», — промелькнуло в моей голове. Но я все же настаивал на угрозе войны.
— Мы все как следует обдумаем, — продолжил президент, — и испробуем все мирные пути. Но если придется драться, мы будем драться. Знаешь, я не меньше других хочу достичь согласия с сербами. По моему мнению, следует переселить мусульман из районов, где их меньшинство, а сербов большинство, в наши края. То же самое нужно проделать с сербами. Чтобы наши жили среди своих, сербы — друг с другом, и в Боснии воцарится мир!
Как он себе представлял переселение этих автономных народов, у которых даже школьный автобус не мог отправиться на экскурсию без скандальных организационных накладок?! Для президента Изетбеговича главным источником вдохновения явно была Турция. По всей видимости, кто-то из историков навел его на эту мысль, основанную на известном эпизоде турецкой истории — масштабном переселении народов в 1922 году. Турки из Восточной Греции и с островов были переселены в Измир, а греки выселены из него. Этот глобальный обмен населением произошел за два дня. Именно таким образом до нас дошла греческая музыка-андерграунд «ребетико» — прямое следствие всех этих потрясений. Мне не известно, знал ли Изетбегович, что тогда, в 1922 году, всего за два дня триста тысяч греков были загнаны в нищенские условия существования. Я спросил его, боится ли он войны.
— Я боюсь только Аллаха, — ответил он, — и мне хочется верить, что существует мирное решение и для нас, и для остальных народов.
Возможно, именно его вера лежала в основе этой непоколебимой уверенности? Или же он эксплуатировал свой авторитет, позволивший ему взять штурвал Боснии из рук одряхлевших коммунистов товарища Тито?
Вот уже многие годы дети коммунизма больше походили на переведенных в низшую категорию дворецких, но никак не на людей, способных вести за собой народ. Единственным из них, кто имел шанс стать политическим лидером в это смутное время, был Фикрет Абдич. Он создал экономическое чудо в Боснийской Краине. Позже, наказанный боснийскими коммунистами соразмерно своим головокружительным успехам, он превратился в жертву. В политических вихрях, сотрясающих страну, Абдич перешел в SDA[86], то есть стал членом партии Изетбеговича, не подозревая о том, что его там ждет. Вероятно, в самом начале он просто хотел вновь запустить свою фирму «Агрокомерц» и для этих целей принял участие в президентских выборах в Боснии, уверенный, что при любом раскладе сумеет возродить экономическую жизнь в своей Краине.
На первых демократических президентских выборах от партии SDA было два кандидата: Изетбегович и Абдич. И неожиданно с большим отрывом победил Абдич, получив на несколько десятков голосов больше, чем Изетбегович. Этим голосованием боснийские мусульмане отдали приоритет тому, кто был наслед ником присущих Югославии Тито комфорта и модернизма. Они не поддержали Изетбеговича, представителя мусульманской клерикальной Боснии. Таким образом, Фикрет Абдич мог бы стать президентом Боснии и Герцеговины, но этого не случилось.
После победы на выборах состоялось собрание SDA в Тесани. Во имя поддержания дисциплины в партии Абдича вынудили смириться с тем, что президентом Боснии и Герцеговины вместо него станет Алия Изетбегович. Новость ему сообщил легендарный Сенга, секретарь SDA. В зале, где проходило собрание, рядом с руководителями партии сидели вооруженные до зубов люди в черной униформе и темных очках, специально прибывшие из Сандьяка[87]. Боснийцам дали понять, что Абдич не стремится к исполнению президентских функций. Вся лживость этой ситуации прояснилась во время войны, когда Абдич создал собственную армию и столкнулся в военном конфликте с Изетбеговичем, ставшим его заклятым врагом.
Он был не единственным, кто любой ценой стремился избежать войны с сербами. Адил Зульфикарпашич, представлявший наиболее умеренное мусульманское течение, подписал с Милошевичем соглашение о ненападении между мусульманами и сербами. Соглашение, которое Изетбегович выбросил в мусорную корзину.
Мой разговор с президентом прерывался долгими, тягостными паузами, полными недосказанности. И тогда хозяева попытались разрядить обстановку. Ведь они пригласили меня для того, чтобы переманить на свою сторону, а вовсе не с целью запугать. Именно этим я объясняю перемены в их поведении. Пока Алия, его сын Бакир и беременная невестка рассказывали анекдоты о Хасане Ценгиче, секретаре их политической партии, на которого Нелле, Доктор Карайлич, делал забавные пародии, я ненадолго унесся в своих мыслях далеко от этой квартиры.
А размышлял я вот над чем: стратегия президента на самом деле отличалась от обычной балканской политической тактики почти двухвековой давности. «Маленький брат» с Балкан получил от «Большого брата» мира — в данном случае Запада — гарантию, что тот придет ему на помощь, «если кто-нибудь обидит малыша». В основе этой стратегии лежит сценарий ресторанной потасовки. В балканских кафе драки обычно начинаются так: к столу, за которым сидит компания крепких ребят, подходит паренек. Взяв со стола стакан с водой, он выплескивает содержимое в лицо одному из воинственно настроенных здоровяков. Тот, не раздумывая ни секунды, дает парню оплеуху и направляется прямиком к столику, откуда подошел обидчик, который тем временем выбегает на улицу. Облитый и его дружки набрасываются на сидящих за столиком провокаторов. И в тот самый момент, когда зрители уверены, что конфликт исчерпан, в кафе вновь появляется тот самый паренек, а за ним — двухметровые амбалы, которые в свою очередь мутузят тех, кто уже считал себя победителем в этой маленькой ресторанной войне.
Мирсад Пуриватра был сыном знаменитого дизайнера мусульманской нации в Боснии. Он обожал «Sex Pistols» и получил должность в Академии драматических искусств за то, что принес двадцать метров коаксиального кабеля для спектакля по пьесе Младена Материча «Танец года».
Театр «Обала» родился в связи с потребностью сараевцев тоже иметь в своем городе место, где могло бы самовыражаться альтернативное искусство, и живой театр, контрастирующий с апатией публичного театра. Среди этих сараевцев был и Пуриватра. Его любовь к панк-музыке, европейская внешность и упорное стремление одеваться в черное стали определяющими факторами в решении Младена принять Мирсада-панка в наши ряды. Для Мирсада это был неплохой маневр, даже если он и не был хорошим стратегом. По мере того как приближалась война, он все меньше демонстрировал свою принадлежность к движению панков и все больше утрачивал черты бунтовщика. Младен Материч научил его любить Джерома Боша в живописи и Боба Уилсона в театре, тогда как во время многочисленных гастролей спектакля «Татуированный театр» Весна Байцетич приобщала его к своим утонченным замечаниям об искусстве и жизни.
Незадолго до войны Мирсад осознал, что мусульмане Сандьяка довольно далеки от Боша и Уилсона. Поэтому он постепенно начал забывать известные имена альтернативной сцены. С живописью было то же самое. В начале враждебных действий Мирсад организовывал выставки и вернисажи, но, сообразив, что кино намного выгоднее, переквалифицировался в директора кинофестиваля. Именно в этот период он признал творчество своего отца.
Во время гастролей театральной труппы «Обала» Младен Материч и Мирсад Пуриватра вели долгие беседы о войне. Младен напомнил, что сербский народ всегда сражался за свою автономию — у него не было другого выбора, кроме как сражаться.
— Это единственный маленький народ, который заплатил за свое выживание миллионами погибших. С тех пор как он освободился от турецкого гнета, он воюет не на жизнь, а на смерть, защищая свои национальные интересы. Сербы никогда не примут никакого хозяина.
После крупного слета в Фоче, организованного SDA Изетбеговича, — на котором, по данным средств массовой информации, собралось более ста тысяч человек, — толпа принялась угрожающе размахивать саблями. Одетые в форму зловещего дивизиона «Ханджар»[88], манифестанты оживили в памяти воспоминания о тех временах, когда боснийские мусульмане содействовали дивизии СС в ее неудавшемся наступлении на Москву. Теперь они подняли свои сабли против сербов, угрожая отомстить за мусульман, которых четники убили во время Второй мировой войны. Они кричали, что теперь готовы убивать сами.
— Не следует так провоцировать сербов, вы рискуете заплатить высокую цену, — заметил Младен Мирсаду.
— Если сербы нас побьют, мы найдем другое средство.
И он рассказал ему историю о ресторанной драке!
В распределении ролей, по словам Пуриватры, сербам должно было здорово достаться от американцев. И я наконец понял, почему президент Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович, казалось, совсем не опасался того, что весь военный арсенал находится в руках JNA. Все вокруг бряцали оружием, а президент как будто и не боялся войны. Омерович продолжал наращивать запасы «калашниковых» в своем подвале. Повсюду на Балканах спрос на оружие резко повысился. Что касается JNA, всем было известно, что хранилось на ее складах. И тогда страх стал обычным состоянием всех жителей Боснии.
В конце нашей беседы я сказал Изетбеговичу, что этот страх и эту ненависть лучше всего описал Андрич в своей новелле «Письма из 1920 года». Было видно, что Изетбеговичу это не понравилось, и от одного упоминания имени писателя по его лицу пробежала едва заметная тень. Он промолчал и напомнил мне тем самым мою боязливую соседку из Високо Даринку, говорившую о моем отце Мурате намеками: «Майя, когда приедет ваш друг?.. Не решаюсь произнести его имя…»
Реакция президента Изетбеговича была такой же, за исключением того, что он предпочел промолчать. Я нисколько не сомневался, что за его добродушной маской скрывается мстительная натура. Лишь в коридоре, когда мы обувались, собираясь выходить из квартиры его сына, он не смог больше сдерживать свои чувства:
— Скажи-ка, это правда, что ты собираешься снять фильм «Мост на Дрине»?
— Собирался, но это очень дорогостоящий проект. Здесь нужна крупная киностудия.
— Зачем тебе это, друг мой? — продолжил он. — Литература Андрича пропитана ненавистью, ведь он был всего лишь лакеем на побегушках.
Едва покинув квартиру его сына, я уже знал, что Изетбегович не может быть моим президентом. И даже не потому, что за ненависть Нобелевских премий не дают, просто я отказывался принимать тот факт, что мой президент может говорить такие вещи о моих кумирах.
Из Парижа мне позвонила Майя и попросила съездить в Високо. Нужно было проведать нашу летнюю резиденцию. Я обрадовался, что смогу показать Джонни нашу семейную гордость. Увидеть Джонни Деппа в Високо — какой неожиданный поворот! Настоящий хеппенинг[89] концептуального искусства!
По сравнению с большинством местных строений наш дом был прямым воплощением дистанции, на которую мы отдалились от нашей страны. Это все равно что смотреть в перевернутую подзорную трубу на расположенные рядом предметы: только тогда начинаешь понимать, насколько они далеки. Именно в эту перевернутую подзорную трубу следует разглядывать индивидуальный почерк, уже в то время характеризующий мои фильмы, и особую красоту нашего дома. Ни то, ни другое не выросло подобно плоду, зреющему на дереве, которое берет соки из нашей земли. Внешний вид дома словно призывал покинуть окружение, которому так и не удалось насадить свои эстетические правила, чтобы основать собственный стиль. То же самое с моими фильмами. Их успех никак не повлиял на творческих людей из нашей среды. Не возникло никакого течения, потому что для его развития не хватило времени. Как только наиболее талантливые боснийцы достигали каких-либо результатов, они сразу же покидали родную страну, чаще всего по политическим причинам. В итоге Босния осталась страной без стиля, похожая на футбольный клуб третьей категории, где выдающиеся игроки долго не задерживаются. Не только по причине незавидных финансовых условий, но прежде всего из-за узких и ограниченных взглядов на жизнь и провинциальности, в которой погрязла самая худшая из народных политик.
Стремление к красоте здесь было вытеснено не подлежащими обжалованию судебными постановлениями. Причиной всему — нищета: социальное явление, глубоко укоренившееся в моей стране. Эта бедность нашла свое отражение в поэзии, в частности в народных песнях. В то же время средний класс, включающий в себя заказчиков, потребителей и создателей эстетических канонов, не был признан социальным фактом. Все это прекрасно подходило тутумраци, которые представляли собой многовековое, но пагубное явление в Боснии.
Во имя принципов, процветающих в самых бедных социальных слоях, были уничтожены розы и виноградные кусты Домицелей, бабушки и дедушки Майи, которых австрийцы доставили из Словении по первому железнодорожному пути. Их отправили в Високо, так как местное население не внушало доверия властям Вены, констатировавшим, что турки оставили после себя примитивное восприятие мира, а древний славянский обычай измерения времени и вовсе никуда не годился. Отныне больше ничего не могло планироваться приблизительно. Только что проложили железную дорогу, и восточные привычки создавали проблемы новым веяниям, доносящимся до Боснии с Запада. Способы отсчета времени требовали радикальных перемен. По мнению австрийских оккупантов, следовало покончить с пагубным обычаем, когда сделки заключались словами «обсудим это на неделе». Железная дорога стала самым ощутимым признаком этих перемен: поезд приходил не «на неделе», а в конкретный день, ровно в 8 часов, чтобы снова отправиться в путь… в 8.15. Учитывая неотложность этой адаптации и новые требования времени, торговля в Боснии стала в основном сферой деятельности иностранцев.
Наш сосед, рачительный хозяин Митар, был не единственным, кто назначал встречи и совершал сделки по крестьянскому принципу «обсудим это на неделе». Подавляющее большинство населения так и не отказалось от древних славянских часов и продолжало определять время, поднимая глаза к небу.
Митар купил один из трех домов Домицелей спустя некоторое время после смерти самых старших членов семейства.
Он переехал в ближайший к нам дом и выкорчевал розы, виноградные кусты и цветники, возделываемые десятилетиями.
— Моей бабушке Даринке не видно дороги. Вся эта растительность загораживает пейзаж, — объяснил он. И добавил: — Господи, сколько же можно было посадить картошки на месте этих роз!
Когда во время уик-энда Мисо обрезал цветы перед домом, Митар, смакуя свой кофе после тяжелого трудового дня, наблюдал за ним с того самого места, где отныне он мог наслаждаться видами окрестностей.
— Если бы ты сажал что-нибудь поумнее, чем эти розы, что-нибудь для пропитания, то мог бы называться достойным судьей! — бросал он через ограду в адрес Мисо.
Еще не совсем оправившись от своего гриппа и утомившись от вихря событий, который я вечно поднимал вокруг себя, Джонни отправился спать, как только мы прибыли в Високо. Я же взобрался по склону над нашим домом и сорвал яблоко. Немного найдется на земле мест, где земля и небо приносят такие сочные плоды! Впившись зубами в яблоко, я посмотрел на маленький дом внизу и заплакал. Не знаю, что было тому причиной: моя прошлая жизнь или мысли о будущем. Как бы то ни было, я плакал, и слезы стекали по моему лицу. Соленая вода смешивалась с кисло-сладким вкусом самого прекрасного яблока на свете, воскрешая в памяти воспоминания моего детства. В то время слезы чаще смешивались со вкусом земли. Переживания, излившиеся сейчас в виде слез, были лишь ничтожной частью той бури, что бушевала в моей душе. Позже я понял, что все эти так долго сдерживаемые рыдания были предвестниками гораздо более серьезных и трагических событий.
В тот день я выплакал все свои слезы по нашему дому. Джонни, мой почетный гость, стал последним, кто спал в нем. Этот дом уже горел раньше: в первый раз — во сне бабушки Даринки, жены нашего соседа Митара, выкорчевавшего розы и виноград. Он также приснился горящим Давору Дуймовичу, актеру, сыгравшему главную роль в фильме «Время цыган». Моему сыну Стрибору тоже часто снился наш дом в языках пламени.
Если этот маленький дом уже столько раз горел в разных снах, что хорошего могло его ждать в неотвратимо надвигающиеся смутные времена?
Слово «Сандьяк» настолько врезалось в память Джонни, что, когда несколько дней спустя такси доставило нас из парижского аэропорта к башне Сен-Жак, он спросил меня:
— Is it connected to people from Sandjak?[90]
Мы расстались как старые друзья. Джонни отправился на съемки фильма «Гилберт Грейп», а я два месяца спустя сел в самолет до Нью-Йорка, где мне предстояло читать лекции по режиссуре еще один семестр. В очередной раз я взялся за три дела сразу. Подобно Софоклу, переплетавшему по несколько интриг в своих драмах. Я снимал «Аризонскую мечту» в Париже, читал лекции студентам в Нью-Йорке и начал писать «Андерграунд». Не успел я ступить на посадочную полосу аэропорта Кеннеди, как увидел на телевизионных экранах первые выстрелы в Сараеве.
После референдума о независимости Боснии и Герцеговины, в котором сербское население не принимало участия и который стал последней каплей для тех, кто верил в эту независимость, сербы начали воздвигать в городе баррикады. Для меня это было достаточным основанием для того, чтобы перевезти Сенку в Герцег-Нови, в Черногорию. По прибытии в Нью-Йорк я позвонил своим родителям и вздохнул с облегчением, узнав, что они вместе. У Сенки могли возникнуть крупные проблемы в Сараеве из-за моих политических убеждений. Но внезапно одно за другим произошли более серьезные события.
Из Нью-Йорка я регулярно звонил в квартиру в Герцег-Нови.
— Сиба Крвавац умер, — однажды сообщила мне мать.
— Как так? От чего? — Я произнес слова, лишенные смысла, какие обычно говорят в такой ситуации.
— Сердце.
— Как к этому отнесся Мурат?
— Это ужасно, он рыдает без перерыва! Погоди-ка, я дам ему трубку.
Отец всхлипывал как ребенок, не в силах сдержать слез. Он смог лишь вымолвить:
— Знаешь… у меня никогда не было брата… Но в моей жизни он значил гораздо больше…
Я попытался его успокоить, насколько это было возможно по телефону.
После лекций в Колумбийском университете я взял за привычку прогуливаться по Бродвею. Мои ноги сами несли меня к центру города, поскольку обратное направление вело в Гарлем, где присутствие белых, и не без основания, было нежелательным. К югу, до площади Коламбус-серкл, тянулись небоскребы, но мне уже не хотелось поднимать голову к драматическому нью-йоркскому небу. Мне хватило одной неудачной попытки сосчитать этажи на небоскребе, чтобы больше никогда не испытывать желания смотреть вверх. Охота любоваться тем, что ограничивает твой взгляд, быстро пропадает.
Сиба Крвавац нашел для меня спасительное средство в мой подростковый период: он заразил меня страстью к кинематографу. И теперь его смерть наполнила собой нью-йоркский пейзаж. Пока я шел, меня охватывало глубокое отчаяние, когда мой взгляд натыкался на огромные здания. Американские мегаполисы больше походили на выставку новых стройматериалов под открытым небом, чем на то, что мы, европейцы, привыкли называть городом.
На какое-то мгновение мне показалось, что наши несчастья скоро закончатся. Когда стало известно, что португальский дипломат Кутильеро подготовил мирный план, я был вне себя от радости, не понимая, куда бежать и что делать. Мне хотелось выскочить на улицу и броситься на шею прохожим. Мне казалось, что войны можно избежать. Но счастье оказалось недолгим. Вначале Изетбегович подписал европейский мирный план, получивший название «Лисабонские соглашения». Но после встречи с американским послом в Белграде, господином Зиммерманом, президент Боснии и Герцеговины отозвал свою подпись. План был отклонен, и в тот же день, 7 апреля 1992 года, Соединенные Штаты Америки признали независимость Боснии и Герцеговины. Это и стало настоящим началом войны.
Мои мысли и чувства вновь вернулись к кошмару, связанному с уничтожением миров. Еще ребенком я видел подобные сны, после того как мой кузен Эдо рассказал мне историю конца света. Будучи впечатлительным по натуре, я выработал целую стратегию, чтобы подготовить себя к этой катастрофе. Я сделал вывод, что главное спасение для меня — в моей семье. Даже оторвавшись от своих корней, барахтаясь в потоке прибывающей воды, необходимо во что бы то ни стало уцепиться за этот ствол. Сегодня мой сон стал реальностью, и самым важным для нас было оставаться вместе. И будь что будет! Земля проваливается под нашими ногами, небо трещит по швам, но до самой последней секунды остается надежда. Можно спастись, если действовать согласно правилам богатого арсенала моих снов. И конечно же не терять надежды. Война — это еще не конец света. Это самое прибыльное предприятие, изобретенное человеком за его долгую историю существования. И всегда найдется способ справиться с этим бедствием, не прибегая к прямым конфликтам. Если бы не приходилось защищать дорогих тебе людей от постоянной угрозы, война могла бы стать вдохновением для авантюристов, желающих обогатиться за ее счет, а также для творческих людей. На мои мечты о жизни сообща действительность ответила самой большой утратой из тех, что мне доводилось переживать до сих пор.
Двадцать девятого сентября 1992 года в Герцег-Нови скончался мой отец. Я узнал об этом довольно странным образом. Мирослав Циро Мандич, режиссер, живший некоторое время у нас в Париже, разговаривал с Майей в тот момент, когда она звонила мне в Нью-Йорк, чтобы сообщить печальную весть. Прежде чем произнести привычное «алло» и не зная, что связь уже установлена, она советовалась с Циро, следует ли ей сообщить мне о смерти Мурата сейчас или лучше дождаться моего возвращения в Париж. Я принял этот удар молча. До рассвета я выкурил свою последнюю пачку сигарет, а после полуночи компанию мне составил Момчило Мрдакович. Этот техник, настоящий невропат, мечтавший, несмотря на свой преклонный возраст, когда-нибудь снять собственный фильм, оказался идеальным компаньоном, способным поддержать меня в моем горе. Он принес бутылку сливовицы, наполнил стаканы. Согласно обычаю мы пролили половину содержимого для души Мурата и выпили остальное за моего покойного отца. На следующий день в Колумбийском университете мои лекции были отменены. На доске объявлений значилось: «No class today, Emir’s father passed away»[91].
Когда мы со Стрибором приехали в дом номер 8 по улице Норвецка, где теперь моя мать жила одна, мы увидели на большой застекленной входной двери объявление о похоронах Мурата Кустурицы, с его именем, фамилией и фотографией с красной звездой наверху. Этот визуальный шок был лишь преамбулой к окончательному осознанию смерти моего отца.
Когда умирает кто-то из близких, время меняет свой привычный ход. В ту секунду, когда ты узнаешь эту новость, в некоторой степени умираешь и сам. Ты начинаешь хуже слышать, тише говорить и становишься похожим на уличный фонарь, который непонятно каким образом продолжает светить. А затем ты отправляешься к месту захоронения, и именно там отчаянное желание не умирать вновь возрождает тебя к жизни.
Стрибор разглядывал фотографию своего дедушки.
— Это когда-нибудь закончится? — спросил он.
Он имел в виду все те несчастья, которые обрушивались на нас одно за другим.
— Даже если кажется, что этому нет конца, будь уверен, вечно так продолжаться не может, — ответил ему я.
Как, наверное, это было тяжело для моего Стрибора! Больше всего на свете мне хотелось его утешить и хоть немного приободрить, подобно тому, как мой отец успокаивал меня, когда это было необходимо. Так произошло, когда я впервые увидел мертвого человека. Тогда отец прогнал страх смерти из моего взгляда так же быстро, как ветер разгоняет облака на небе. На протяжении всей жизни воспоминание об этой сцене было поддержкой для моей впечатлительной натуры. Когда кто-то заявляет с подобной уверенностью, что «смерть — это непроверенный слух», он парализует страх перед концом жизни с помощью самой сильной анестезии. Я всегда помнил о том, как отец свел смерть к банальному факту из газетной рубрики происшествий, в то время как его остроумие и проницательность герцеговинца придавали мне смелости. Главное не в том, что у тебя тяжело на сердце, а в том, что ты несешь этот груз не один. В этом и состоит роль отца — научить ребенка преодолевать бремя невзгод, обрушивающихся на него на протяжении жизни.
Из какого теплого, нежного источника отец черпал свои силы? На чем держалось его заразительное обаяние, делавшее его любимчиком среди сараевских друзей? Как он стал опорой, на которой выстроилась вся моя жизнь? Я едва помню его родителей. Но их история — это кратчайший путь, ведущий к источнику, который я хочу познать.
В городе Травник отец Мурата, Хусейн Кустурица, был ответственным работником суда, человеком, который каждое утро, ровно в семь часов, отправлялся на свою работу с кусочком мела в кармане и в нарукавниках из черного люстрина. Ровно в 9 часов 30 минут, когда начинался перерыв, он возвращался домой, чтобы приготовить завтрак своей efendinica[92]. Для обычаев Травника — и, признаться, даже для Вены — это было проявлением мужского либерализма в высшей степени. Они жили на единственную зарплату и ни в чем не нуждались благодаря доблестному чиновнику Хусейну. Он покинул стены суда Травника, когда пробил час его выхода на пенсию. Хусейн старательно возделывал небольшой огородик возле своего дома в травницком квартале Потур, что позволяло им экономить на некоторых продуктах.
Кустурицы были одной из тех редких семей Травника, самые молодые члены которой в свое время присоединились к партизанам. Еще до войны тетя Биба состояла в рядах Коммунистической молодежи Югославии, SKOJ. Вместе со своей сестрой мой отец убежал в лес в самом начале Второй мировой войны и примкнул к Народному освободительному движению. Если бы он этого не сделал, то мог бы погибнуть от рук тех самых чернорубашечников, которые вынудили мою тетю бежать. Провожая свою сестру на поезд, он вскоре решил отыскать ее в лесу. В сущности, к партизанам он пришел один. Мурат стал солдатом первой бригады Народного освобождетния Боснийской Краины. В этой боснийской провинции мой отец и его сестра были подвергнуты суровой критике. Мало кто становился на сторону «этих чокнутых сербов, которые снова собрались драться с немцами». Вторая сестра моего отца, Лала, скептически смотрела на их политическую активность, но делала все возможное, чтобы никто не узнал об их довоенной революционной деятельности. Большинство немусульманского населения Боснии не имели ни наследия, ни склонности к революционным идеям, и еще меньше — к идеям социалистическим. Встав на сторону угнетенных людей, которым грозила опасность, Мурат и Биба подтвердили свою приверженность левым взглядам и вернулись к своим сербским корням. В конце Второй мировой войны они вместе отпраздновали победу над фашизмом в качестве бойцов победившей армии, в отличие от тех, кто примкнул к победителям в последний момент, в самом конце войны. Они давным-давно выбрали этот лагерь. Мурат обучался в христианском лицее Травника. Приобретенные там обширные знания не только дали ему развернутый взгляд на мир, но и отдалили от религиозной идеологии, которая рассматривала оккупацию усташей как неизбежную судьбу. Частенько Мурат, когда варил яйца в мешочек, читал на латыни молитву «Отче наш», протяженность которой позволяла ему определить нужный момент для снятия кастрюли с огня.
Когда война закончилась, тетя Биба обосновалась в «Билграде», как ее родители называли столицу Югославии. Она вышла замуж за Славко Комарицу, которого некоторое время спустя назначили генеральным консулом Югославии в Швейцарии. Моя тетя была на седьмом небе от счастья, получив возможность организовывать незабываемые приемы. Молодая женщина из Травника была счастлива принимать у себя важных персон и быть частью этого блестящего общества, жить рядом со Славко Комарицей. Когда она уезжала в Берн в качестве жены консула, ее радости не было предела. Она получила от государства шикарное меховое манто и сумочку, набитую деньгами. Все это было прекрасно, но она говорила об этом слишком много: «Наше государство очень умное — оно поступает так, чтобы мы производили в мире хорошее впечатление и чтобы никому не пришло в голову нас подкупить».
Выйдя замуж во второй раз, Биба обустроила жизнь со своим мужем Любомиром Райнвайном и принялась с нетерпением ждать в гости своих родителей в новой белградской квартире в доме номер 6 на площади Теразие. Этот визит, подготавливаемый несколько раз, никак не мог состояться. Что-то постоянно ему препятствовало. А ведь выдающаяся белградка, служившая в Институте международного рабочего движения, заранее отправляла билеты на поезд своим родителям. Она даже воспользовалась своим статусом ветерана войны, чтобы достать более дешевые билеты. Но Биба не знала, что на пути из Травника в Белград для ее родителей возникло непреодолимое препятствие… Супруга эфенди не могла разгуливать по улицам Белграда в старом пальто!
Подобные проблемы, как и многие другие в жизни своей жены, решал чиновник Хусейн. В данном конкретном случае он проникся сочувствием к положению своей супруги. Он купил ткань для нового пальто, взяв необходимые деньги из своих сбережений, которые откладывал втайне от супруги, чтобы однажды приобрести место на кладбище. Суммы оказалось недостаточно для портного, но Хусейн снова отнесся к возникшей проблеме со всей ответственностью. Мой отец догадался об этой истории по письму, прибывшему на его сараевский адрес в посылке, которую его родители отправляли ему из Травника раз в месяц. В письме Хусейн извинялся, что смог прислать всего одну бутылку масла, два килограмма знаменитого травницкого сыра и два килограмма чернослива. Никто так и не узнал разгадки этой тайны, но пальто было сшито, и Кустурицы отправились в Белград. Рассказывают, что моя бабушка побывала в гостях у всех жильцов дома номер 6 на площади Теразие, что она переходила из одной квартиры в другую и пила кофе с женщинами, сумев за рекордно короткое время завоевать их сердца.
«Моя мать была настоящей принцессой!» — однажды сказал мне отец.
В конце войны Антифашистский фронт женщин инициировал акцию «Отмена чадры у женщин». Ища поддержку в семьях Травника, они связались с Бибой и попросили помочь им найти человека, наиболее подходящего для этой агитационной акции. Выбор пал на мать партизан Мурата и Бибы Кустурицы.
Собравшимся женщинам efendinica убедительно представила все причины, по которым следовало покончить с мракобесием прошлого. Для нее это не составило труда, поскольку она была уроженкой семьи Авдич. Авдичи, как и Кустурицы, были герцеговинцами, и в их душах также постоянно шла внутренняя борьба между герцеговинцем и человеком. После своей замечательной речи о необходимости освободиться от чадры супруга эфенди с удовольствием выслушала похвалы от прогрессистов, но особенно от своих детей.
— Мадам Кустурица, вас следует избрать мэром, нам бы это не повредило! — говорили ей некоторые.
Однако на следующий день события приняли иной оборот. Моя бабушка пришла на торговую площадь с чадрой на голове! Когда ее дочь, опешив от изумления, узнала об этой неожиданной выходке, она направила телеграмму своему брату.
— Мать, зачем ты это сделала? — спросил мой отец, примчавшись в Травник.
— Не знаю, мне кажется, так намного красивее, когда у женщины видны одни глаза.
— Ты не можешь так с нами поступить, мама. Партия дала тебе ответственное поручение, — настаивал отец.
— Послушай, сынок, такие вещи сразу не делаются! Иногда ты ее надеваешь, иногда — нет. Вот как надо!
На самом деле она вела совсем другую борьбу. Ее ближайшими соседями было семейство бея Вехбии Сахинпасича, жена которого наотрез отказывалась снимать чадру. Вот они и сражались друг с другом за то, кто будет пользоваться наибольшим авторитетом в квартале. Моя бабушка боялась, что из-за всей этой истории может утратить свое влияние на местных женщин и утратить свои позиции, когда они в очередной раз соберутся по-соседски выпить по чашечке кофе. Отсюда и ее компромисс: «Иногда ты ее надеваешь, иногда — нет».
Когда она была при последнем издыхании в больнице Косева, то накануне своей смерти попросила отца привезти ей мою подушку, чтобы умереть, прислонившись к ней.
Мой отец умер одновременно с моей любимой страной. Он ушел вовремя, чтобы не видеть, как рушится сооружение, в которое он собственноручно вложил несколько камней и которому отдал большую часть своей жизни. Основание этого здания уже давно расшатывалось иностранными спецслужбами, нерешенными историческими конфликтами между сербами и хорватами, а также усилиями тутумраци. Последние превратились из представителей народной элиты в специалистов по разрушению широкого профиля, не переставая мусолить вечный вопрос «Где мое место в этой истории?»
За полгода до смерти моего отца Абдула Сидран был проездом в Париже. Когда он поведал о невыносимой обстановке в Боснии и высказал свое мнение о том, что мир на боснийской территории возможно поддержать лишь при помощи ООН, партизан первой бригады из Боснийской Краины ответил ему резким тоном:
— Во время Второй мировой войны я сражался в лесах, чтобы изгнать иностранцев из своей страны, а ты хочешь привести войска ООН в мою Боснию?
Сидран попытался развить свою теорию, которая совершенно не убедила его собеседника.
— Война уже практически началась: первого марта, на референдуме о независимости Боснии и Герцеговины, — отрезал Мурат. — Когда третья часть населения игнорирует референдум и отказывается выходить из состава Югославии, война в Боснии неизбежна.
— На референдуме все-таки высказали свои пожелания большинство граждан Боснии, — заметил ему Сидран.
Мурат ударил кулаком по столу, ставя точку в разговоре:
— Югославия была создана на крови, на крови же она и исчезнет! Заруби себе это на носу!
Теперь мне требовалось отыскать хоть что-нибудь в своей памяти и воспоминаниях, чтобы поддержать Стрибора и облегчить его боль от потери дедушки. Но, как это часто случается в жизни, все произошло с точностью до наоборот. Четырнадцатилетний парень изо всех сил пытался утешить меня. Когда мы поднимались по лестнице дома номер 8 по улице Норвецка, он обнял меня.
— Это как с яблоком, — сказал он. — Сначала появляется цветок, затем плод, он растет, набирается сока, и маленький зеленый плод становится красивым красным яблоком. Солнце его ласкает, дождик омывает, и оно свисает в каплях росы на своей плодоножке. Вот лето подходит к концу, а яблоко по-прежнему красуется на своем месте. Осенью оно сморщивается от холода, уменьшается в размерах, в начале зимы плодоножка не выдерживает, засохший плод падает на землю — и нет больше яблока.
Стрибор пытался таким образом сказать мне, что смерть — естественное явление.
Лишь когда я вошел в маленькую квартирку в Герцег-Нови и сжал в объятиях Сенку, я физически ощутил, что никогда больше не увижу своего отца. Смерть дорогого человека превращается в глубокую печаль в тот момент, когда ты оказываешься рядом с тем, кто был ему ближе всех, и этот человек отныне становится самой сильной символической связью между тобой и покойным. В свои последние мгновения мой отец воскликнул: «Сенка, Эмир, я покидаю вас!» И мы были бесконечно несчастны, поскольку знали, что он больше никогда к нам не вернется.
Стрибор, увидев наше с Сенкой горе, разрыдался. И тогда я нашел способ утешить своего сына.
— Твой дедушка не умер, — сказал я ему, — просто жизнь отправила его в другой мир, чтобы он отдохнул там от своей доброты.
И я продолжил плакать.
Tennis elbow
На крутых склонах Горицы, где остались мои друзья детства, разворачивались драматические события. Началась война нового типа. В моем Сараеве, в моей Горице, где мне был знаком каждый камень. Там осталась моя печаль, осев на покосившихся уличных фонарях, излучающих дрожащий свет. Над Черной горой, словно ночные бабочки, кружатся мои вздохи, а по крутым ступенькам, где я упражнялся в скорости космонавта и медлительности влюбленного, всё катятся футбольные мячи. А я продолжаю бежать за ними.
В эти тяжелые дни Паше пришлось забыть о своих прогулках в компании жены, которые он регулярно совершал в мирное время от Свракина Села до центра города. Его очень удручало, что он больше не может сводить счеты с «сексуальными маньяками», бросающими похотливые взгляды на задницу Куны, но теперь ему приходилось перемещаться по городу зигзагами, перебегая от одной стены к другой, чтобы не попасть под пули снайперов. Из пригорода он пробирался к центру Горицы, чтобы хоть немного поддержать своего друга Ньего Ацимовича. На улицах Сараева царил хаос: беженцы из восточной части Боснии, мусульмане, изгнанные из Рогатицы и Вишеграда, искали себе новую крышу над головой, в основном в квартирах, в панике оставленных жильцами. Частенько они захватывали жилища сербов, которым не удалось вовремя выбраться из города. Опасность быть выброшенным на улицу для сербов была вполне реальной. Хуже этого могла быть только смерть. Кратчайшим путем на тот свет для сараевских сербов была случайная встреча с аккордионистом Кацо. Этому музыканту не требовались ноты, чтобы убивать. Часто палач приводил на эшафот в Казане сотни сербов — а по свидетельствам некоторых очевидцев, и тысячи, — под предлогом мести за несчастья мусульман, живущих вдоль Дрины. Дурная слава о нем донеслась до Парижа, и я задавался вопросом, как могли не знать сторонники многонациональной Боснии, что вытворяли их музыканты, когда не играли на своих инструментах.
Ньего Ацимович провел первые дни войны, дрожа от ужаса, забаррикадировавшись в своей квартире в доме номер 2 на улице Калемова. Он вздрагивал при малейшем звуке голосов на лестничной клетке. Угрозы по телефону, оскорбления и удары в дверь среди ночи стали обычной практикой тех, кто хотел его выселить, чтобы захватить квартиру. Он понимал, что, даже если перестанет праздновать Славу[93] и не будет афишировать свое происхождение, это ничего не изменит. На помощь ему подоспела верная дружба.
Прорвавшись сквозь заградительный огонь снайперов, Паша приближался к дому своего друга; он нес ему еду. В драках Ньего всегда был самым слабым, а Паша — самым сильным. Их дружба поведала историю, о которой не упоминал ни один телевизионный канал мира. С самого начала войны по этим каналам не было сказано ни слова о дружеских отношениях между сербами и мусульманами.
Добравшись до верха Горицы, Паша остановился по пути, чтобы занести немного еды своей сестре Аземине, после чего бегом взобрался по склону к дому номер 2 по улице Калемова. Перед входом в дом Ньего он разогнал группу любителей пари и подошел к самому крупному из них. Для начала он влепил ему оплеуху, а затем угрожающе произнес:
— Вали отсюда, если не хочешь огрести по полной программе!
Здоровяк в панике собрал свои деньги и бросился наутек.
— Если еще раз вздумаешь ломиться в дверь, на которой написана фамилия Ацимович, я с тебя шкуру спущу, понял?! — крикнул ему вслед Паша.
Опасаясь, что кто-то имитирует голос Паши, Ньего открыл дверь не сразу. Наконец он отважился подойти к дверному глазку и, увидев Пашу, впустил его внутрь. В присутствии своего друга он моментально почувствовал себя в безопасности. Это ощущение было гораздо сильнее голода, который терзал его уже два дня.
— Ну что, четник, наложил в штаны от страха? — усмехнулся Паша.
Приятели вместе отправились за хлебом в ближайшую бакалею. Они обогнули людей, уже давно стоявших в очереди. Паша заметил, что какой-то тип, вздохнув, бросил на него взгляд исподлобья. Не раздумывая, он врезал ему по физиономии.
— Эй ты, придурок, — бросил Паша, — сейчас у тебя глаза вылезут из орбит! Ты ведь стучался в дверь Ньего, не так ли?! — И он принялся его избивать.
Так Паша показывал остальным, что их ожидает, если кто-то посмеет покуситься на квартиру или жизнь его друга. Иначе и быть не могло. Поскольку этого требовало их прошлое. Общие воспоминания накладывали взаимные обязательства. Никто из них не мог забыть, как закалялась их дружба, как они вместе изучали правила и этику сараевских улиц. В тяжелое военное время они чтили этот долг. Нет никакого сомнения, что Ньего поступил бы точно так же по отношению к Паше, если бы Горица стала сербской территорией. Ведь их связывали наши незабываемые безумные проделки в те времена, когда мы обчищали киоски Заострога и отправлялись продавать бритвы и жвачку, украденные на пляжах, чтобы позволить себе поехать на несколько недель к морю, что для нас было равносильно возвращению к жизни. Они навсегда сохранили воспоминания о наших потасовках за право быть главными на пляжах и вечерних дискотеках Туцепа. Каждая одержанная победа осталась запечатленной в их памяти как сладкое воспоминание о власти и триумфе, столь необходимых для становления мужчины. Независимо от того, кто наносил удары, а кто их получал, они не забывали о том, что нельзя бросать друга в беде, какую бы цену ни пришлось за это заплатить. Поскольку над всеми законами и правилами преобладал один закон, требующий самопожертвования, — всегда оставаться «человеком чести»!
Я уже не понимал, что мне делать дальше — заканчивать «Аризонскую мечту» в Париже, продолжать монтаж фильма, съемки которого были такими тяжелыми, или вернуться в Сараево? В смятении я звонил туда днем и ночью. После первых же беспорядков возле здания Ассамблеи Социалистической Республики Боснии и Герцеговины меня попросили высказаться по этому поводу. Я ответил, что граждане ни в коем случае не должны искать столкновения с JNA, поскольку их позиции слабы и это может оборвать множество жизней. Я пытался донести следующее: не следует играть в партизан и немцев, потому что при таком безумном раскладе сербы, на этот раз вынужденно, оказывались фашистами, а мусульмане — партизанами! Большинство восприняло это как оскорбление, хотя я уверен, что многие разделяли мое мнение, но были вынуждены молчать из-за происходящих событий и постоянного страха. Один эстрадный певец решил отреагировать на мою пацифистскую идею. Но сделал это, не отходя от официальной позиции: он заявил, что следует призывать людей к защите Сараева, а проще говоря, к войне против сербов. А вовсе не к миру любой ценой, в чем, собственно, состояла моя мысль.
— Эмир, нам нужен твой крик, а не шепот! — заявил певец. И моментально стал героем города, в то время как автор «Долли Белл» и «Папы в командировке» ступил на прямой путь «предателя своей страны».
Я твердо решил разделить трагедию своего родного города и купил билет на самолет до Сараева. Но это мое намерение было резко остановлено Зораном Биланом, который позвонил мне на мой парижский номер:
— Дружище, не приезжай сюда, это вопрос жизни и смерти! Тебя здесь завалят.
— Кому это понадобилось меня убивать?
— Патриотам! — в тон мне ответил он.
— Это потому, что в статье в «Monde» я сказал, что Алия Изетбегович — генерал без армии?!
— Не знаю почему, просто не приезжай!
— Но ведь я также выступил против тех, кто забрасывает бомбами город!
— Ты отстал от жизни, дружище. Ты ничего не понимаешь. Все давно изменилось. Здесь больше не спорят о том, кто худший — первый, второй или третий. Единственные, кто ни на что не годен, — это сербы. Как в ковбойских фильмах, понимаешь? Даже если то, что говорит Нока, правда: «Не знаю, кто для меня хуже — те, кто на меня нападает, или те, кто меня защищает!»
— И что, у Алии действительно есть армия?
— Забудь ты об этом: есть армия, нет армии… Ни в коем случае сюда не приезжай! Если что-то изменится, я дам тебе знать.
Осквернитель бюста Иво Андрича в Вишеграде получил свою роль в самом начале войны. Это была не такая важная роль, как он надеялся, но достаточная для того, чтобы фигурировать в списке потенциальных «получателей медали». Несмотря на то что он не любил ни сербов, ни партизан, этот Сабанович уже видел себя среди «ветеранов войны». С медалью на груди. Если бы по счастливой случайности его отправили на перевоспитание с обязательным чтением полного собрания сочинений Андрича, думаю, что он взглянул бы другими глазами на миссию, которую поручили ему тутумраци. Он угрожал взорвать дамбу на гидроэлектростанции Вишеграда!
— Я сделаю это, чтобы затопить Сербию до самого Дединье и виллы Милошевича, — заявил Сабанович Радойе Андричу, журналисту ежедневной газеты «Вечерние новости».
В это дело вмешался генерал Куканяц, командующий военным округом Сараева. В своей простонародной манере генерал попробовал образумить возбужденного Сабановича, который утверждал, что хочет взорвать дамбу в отместку за злодеяния, совершенные военизированными частями Аркана в регионе Зворника. В конечном счете к переговорам подключился Алия Изетбегович, и их беседа транслировалась в вечерних новостях.
Президент обращался к Сабановичу ласковым тоном, словно разговаривал с собственным сыном. Но тот продолжал упрямиться и грозил все взорвать.
— Подожди, Мурат, прошу тебя, не надо этого делать, — сказал ему президент. — Пусть пока все остается как есть…
Мы, телезрители, ясно поняли из этой беседы, что, даже если наводнение не произойдет сию минуту, долго ждать его не придется. Возможно, оно произойдет уже предстоящей ночью. Это было похоже на загадочные послания в немых фильмах, где между сценами появляются надписи, сообщающие о грядущих событиях.
Несмотря на настойчивость президента Изетбеговича и его «пусть пока все остается как есть», Сабанович все же спустил часть воды из дамбы Вишеграда. Поскольку его дом был построен в Незуке, населенном пункте, примыкающем к Вишеграду, в своем стремлении наводнить Сербию до самого Дединье и виллы Милошевича этот тип сумел затопить лишь свой собственный дом! Разбушевавшаяся стихия одним махом смела все на своем пути. С невыразимой грустью Сабанович смотрел на свое жилище, которое мощным течением уносило в сторону Сербии. Он вспомнил о предвыборных обещаниях SDA в Фоче, где сторонники Изетбеговича возбужденно кричали, призывая к мести и обещая в случае войны отомстить за каждого мусульманина, убитого сербами на Дрине во время Второй мировой войны. Но те, кто давал эти обещания Сабановичу, сбежали в Сараево, испугавшись сербской армии. И теперь Сабанович стоял один, печально взирая на разлившуюся реку. Обращаясь к Аллаху, он молил о чуде. Он просил высшие силы повернуть реку вспять. А если Аллах не поможет, возможно, с этим справятся американцы?
В конечном счете он тоже сбежал из Вишеграда в Сараево и там продолжил молиться, чтобы Небеса послали ему чудо. Он хотел, чтобы Дрина повернула вспять и принесла его дом из Сербии обратно в Незуке.
Я с нетерпением ждал звонка своего друга Билана из Сараева. Изменилось ли там что-нибудь? Есть ли обнадеживающие новости? Неужели меня могли так быстро вычеркнуть из списка сараевцев?
Надежды растаяли очень быстро. Телефонная связь с Сараевом была прервана, и мне пришлось отказаться от мысли о возвращении в свой родной город. Билан не подавал признаков жизни. И дело было не только в отсутствии телефонной связи. Причина оказалась гораздо трагичнее: мать Билана — Кая — была зарезана на пороге собственного дома в Яице. Она участвовала в партизанском движении и носила медаль ветерана войны. По утверждению ее сестры, оставшейся жить в Белграде, с Каей расправились члены движения «Белые орлы». Я давно знал, что у последних было мало общего с этими благородными птицами, которых принято ассоциировать с традиционной героической борьбой сербского народа за свободу. Тот, кто убил тетю Каю на пороге ее собственного дома, был всего лишь белой крысой, но не орлом.
Мое возвращение на родину все больше усложнялось. И дело не в страхе. Здесь оказалась задействована уже психология. Если бы я вернулся в Сараево, мне пришлось бы претерпеть изменения, к которым я не был готов.
Поскольку я не мог сесть на самолет до Сараева, я попытался представить, что было бы, если бы я все же приехал туда неожиданно для всех. Пожалуй, мне пришлось бы водрузить на плечи новую голову, сняв прежнюю, завернув ее в газету и бросив в Миляцку. Только с этой новой головой я смог бы наплевать на все, о чем думал и во что верил, на все, о чем говорил. На все, что мне оставил в наследство мой отец! Но эта новая голова так и не смогла бы прижиться, даже в случае успешной хирургической операции. Трагедия в том, что она продолжала бы искать старую голову, которая, славясь невероятным упрямством, попросила бы свою сестру не принимать суждения, навязанные войной, поскольку они не дают исчерпывающего объяснения происходящему. А ведь конечная цель — поверить в то, что ты понял. И если доверять только своим чувствам, вряд ли из этого что-нибудь получится. Поэтому старая голова начала бы упрямиться. Она бы никогда не позволила своей сестре забыть причины, которые привели к этой войне, невзирая на всю их жестокость. И новая голова принялась бы кричать, рассказывать повсюду то, о чем в смутные времена следует молчать, и тем самым подписала бы себе смертный приговор. Одна голова погибла бы оттого, что ее вынудили измениться, другая — потому, что осталась бы под влиянием своей сестры.
По этим, а также по многим другим причинам, которые не так просто объяснить, я не поехал в Сараево. Прошлое мне виделось таким, каким я показывал его в своих фильмах. «Международное сообщество» со своим абстрактным гуманизмом мне совершенно не нравилось. Не говоря уже о нашем местном хамстве, пример которого я сейчас приведу.
Как-то Сенка показала мне рапорт, который получила от моей кузины, Дуни Нуманкадич. Этот документ свидетельствовал о том, как некий высокий чин военной полиции Боснии и Герцеговины ворвался вместе с несколькими полицейскими в квартиру моего отца, Мурата Кустурицы, на улице Каты Говорусич. В печной трубе он нашел бомбу, которую, следуя рапорту, «спрятал террорист Мурат Кустурица». Соседка Родич подписала этот документ в качестве свидетеля.
— Чем же они ее так запугали, бедняжку, что она согласилась подписать эту чудовищную ложь?! — воскликнула Сенка.
На самом деле борцы за независимую Боснию и Герцеговину помимо защиты города занимались другой, более доходной деятельностью.
— Мерзавцы! В этой трубе я хранила две с половиной тысячи долларов, которые ты дал мне, когда мы уезжали домой из Соединенных Штатов, — впоследствии призналась мне Сенка.
Когда я привез Сенку из Герцег-Нови в Париж, мы установили спутниковую антенну и смотрели новости со всего мира. Для нас это было важнее еды. Внимательно слушая передачи, идущие по каналам всех стран, я видел различные интерпретации одних и тех же событий, и тогда я понял, что Гитлеру для окончательной победы его преступной политики не хватало лишь телевидения. Никто не смог бы его одолеть, если бы у него были свои собственные телеканалы!
На деньги, полученные от «Аризонской мечты», мы купили дом в Нормандии. Перед нами больше не стояло дилеммы: Соединенные Штаты остались в прошлом, а с Сараевом мы попрощались навсегда. Думаю, мы все равно пришли бы к этому, даже если бы не было войны. Крупные проекты требуют радикального изменения образа жизни, привычек. Если вы хоть раз попробовали японскую кухню и ваши финансовые ресурсы находятся далеко от вашего родного города, даже аромат жареных котлет не сможет заставить вас вернуться назад.
Большой нормандский дом был увеличенной копией нашего домика в Високо. С той лишь разницей, что первый по сравнению со вторым был настоящим жилищем, в полном смысле этого слова. Если бы Мурат был жив, он бы наверняка с гордостью показывал всем пенсионерам Герцег-Нови фотоснимки, запечатлевшие размеры и количество комнат новых владений семьи его сына.
В этом доме Майя довела до совершенства свое врожденное чувство обустройства жизненного пространства. Постепенно она отмела все стили и создала свой собственный.
— It feels good, like if I was in Visoko[94], — заявил Джонни Депп, когда впервые вошел в этот дом.
В итоге в нашем нормандском жилище стало так приятно находиться, что, когда мы долгое время сидели, глядя в окно, никакой потребности в разговоре не испытывали. Мы в буквальном смысле погружались в возвышенные ощущения. Джонни Депп чувствовал это очень хорошо. Когда мы уехали в Черногорию, в уютной обстановке этого дома была зачата Лили-Роз, дочь Джонни и Ванессы. И я стал крестным отцом этого ребенка.
Предметы, расставленные с невероятным мастерством в разных комнатах дома, располагались по отношению друг к другу как совершенный монтаж кадров в киноэпизоде: когда они плотно пригнаны один к другому и ничто не может изменить их порядок. Скомпонованные рукой Майи, своим цветом, формой и расположением они точно передавали ее стиль, который постепенно зарождался на наших глазах, устраняя стереотипный декор гостиничных номеров, поблекших, холодных и негостеприимных, в которых, кстати говоря, я провел большую часть своей жизни. Когда-то в Белграде гостиничный номер представлял собой идеальную обстановку для жизни. Все это делалось для того, чтобы посетители могли восторженно повторять: «Роскошно, роскошно!», что зачастую меня раздражало.
Талант Майи проявлялся в ее особой манере добавлять в ранее существовавшую обстановку предметы, которые она откапывала бог весь где, необязательно дорогие, часто даже совсем дешевые. И все это она «приправляла» какой-нибудь одной деталью, цена которой была непомерной. Таким образом она освежала наше жизненное пространство. То же самое она проделывала и с одеждой. Частенько в самых обычных супермаркетах она покупала себе дешевое платье, сидящее на ней как влитое. И разумеется, при этом она обувала самые дорогие туфли и брала с собой сумочку, купленную за баснословные деньги. Она это просто обожала, напоминая тем самым своего отца. Судья, признанный лучшим экспертом по гражданскому праву, много лет работал в департаменте за скромную зарплату, но на отложенные сбережения покупал себе самые дорогие фотоаппараты. Мисо Мандич с огромным уважением относился к совершенной немецкой технологии. Несмотря на то что он был узником концлагерей усташей и нацистов, он никогда не отзывался плохо о немцах. Об усташах он вообще избегал говорить.
После моего возвращения из Праги, когда я цитировал писателя Богумила Грабала, то очень расстраивался, что никто не понимает смысла слов литературного героя: «Небеса отнюдь не гуманны, как не гуманен и мыслящий человек. Не то чтобы он не хотел быть гуманным, просто это противоречит здравому смыслу».
— Вот, это как раз то, о чем говорит твой Грабал, — однажды сказал мне Мисо, снимая объектив «Zeiss» со своего «Leica М2». — Когда-то мы получили от немцев все самое худшее и лучшее. То же самое происходит сейчас с американцами. Раньше немецкий офицер приезжал на только что завоеванную территорию, стоя в открытом «мерседесе», с висящим на груди фотоаппаратом «Leica». Даже если народы оккупированных стран ненавидели их, они не могли не признавать технологического превосходства немцев. «Мерседес» упрекнуть не в чем, многие люди мечтают оказаться за рулем такого автомобиля. И чем больше они об этом мечтают, тем понятнее становится, что у них никогда не будет такой возможности, и тогда они начинают презирать не немца, а ближнего своего — соседа, того, с кем они живут, работают и умирают. Когда такие люди представляют себя за рулем «мерседеса», большинство из них готовы навечно стать рабами немцев!
В наше время американцы создали универсальный товар. Человек теряется при таком изобилии продуктов и соблазнов. Люди в состоянии обойтись без большинства этих вещей, но они не могут перед ними устоять. Раньше они ходили молиться Богу, созерцали Небеса и иконостасы, сегодня же, словно стадо баранов, они устремляются в торговые ряды. Люди — это особый вид. Их все меньше интересует «техническое совершенство», как сказала бы Милка Бабович, наш комментатор по фигурному катанию. В современном мире главенствует эстетика. Люди убеждены, что не могут обойтись без солярия, телефона, DVD-проигрывателя, самолетов, кораблей. Первичный патент на эту новую потребность принадлежит американцам. Посредством телевидения они делают людей зависимыми, затем предлагают им те же вещи в реальной жизни, и, следует признать, люди остаются довольны. Советский Союз не вышел победителем из этого состязания. Он успешно соперничал с Соединенными Штатами в области вооружения и тяжелой промышленности, но проиграл партию в части основных предпочтений людей. Он так и не смог организовать рынок и наполнить его яркими товарами.
Опасность состоит в том, что, продавая нам эти вещи по низкой цене, американцы своими бомбардировками выставляют такой дорогой счет, что становится невозможно относиться к ним с симпатией. Бомбы сыпятся с неба с высоты десяти километров. Ничего нельзя сделать против тех, кто забрасывает нас бомбами: они нас видят, а мы их — нет. А это происходит всякий раз, когда что-то идет вразрез с их планами по очередному переделу мира. Когда они поставляют нам свои товары или прогуливаются по Луне — это хорошо. Хуже, когда они сбрасывают на нас бомбы, называя их «ангелами милосердия». Но совсем плохо становится, когда понимаешь, что эти две вещи тесно связаны между собой, и первая невозможна без второй, и обе они созданы одним и тем же человеком: тем самым героем Грабала, который не может быть гуманным, извиняясь и ссылаясь на Небеса, «которые тоже негуманны», поскольку, по его утверждению, это противоречит здравому смыслу. Чтобы иметь доступ к чудесным вещам и высоким сферам науки и культуры, человек карабкается к Небесам и раю по лестницам, ступени которых — убитые мученики, жертвы экономической войны. Побочный результат исторического развития! И хорошо, если еще остается надежда на перемены к лучшему! Но при этом возникает вопрос: стоит ли таких страданий то, что находится на самом верху лестницы, устланной трупами?
В Нормандии Мисо переводил на сербский язык все школьные дисциплины Стрибора, поскольку юный Кустурица только что начал обучение на французском языке. Подобно всем избалованным детям, мой сын регулярно терял тетради с переводом, и терпеливому дедушке приходилось делать все заново.
Стрибор уже вступил в подростковый возраст. Однажды он вернулся из школы крайне взволнованный. Он не сразу рассказал нам, что произошло, — я узнавал в этом свои собственные первые шаги в познании реальной жизни. Оказалось, он подрался с одним французом, хулиганом из его школы, который издевался над алжирскими учениками. Тем же летом в Будве он выбил зубы какому-то бодибилдеру, отец которого владел бензоколонкой в центре Будвы.
— Стрибор, тебе известно, что такое нанесение телесных повреждений? Что это уголовно наказуемо? — спросил его Мисо, когда тот вернулся во Францию.
Стрибор встревожился.
— Они могут засадить тебя на два года в тюрьму! — добавил Мисо.
Стрибор выглядел еще более взволнованным. После этого предупреждения он не дрался по меньшей мере два месяца.
— Что мне делать? Как с ним справиться? — спросил я Мисо.
— Вряд ли у тебя что-то получится. Попробуй, конечно, но когда в ребенке проявляется кто-то из его предков, к примеру дед, тогда все будет происходить, в точности как у этого деда, и все усилия будут напрасны, — ответил он мне, надеясь таким образом меня успокоить.
Внезапно осознав, что этим предком может быть он сам, Мисо поспешил добавить:
— В генетике такое часто повторяется через поколение, так что ребенок может быть вполне похож на своего прадеда.
Дедушка Мисо не любил быть в центре внимания. Он не был склонен разрешать конфликты физическим путем, как мы со Стрибором. Тем не менее во время трансляции соревнований по боксу он размахивал кулаками, словно сам находился на ринге. Когда боксеры наносили серию ударов и пускали в ход ноги, Мисо проделывал то же самое. Иногда он подпрыгивал так резво, что ногами сдвигал ковер, в результате чего обрушивал с этажерок декоративные предметы, и те, что были из стекла, разлетались на мелкие осколки по всей комнате. Однажды, не заметив осколков, он нашпиговал ими свои подошвы.
То же самое происходило с ним в его гостиной в Косеве во время футбольных матчей, транслируемых по телевидению. Его ноги мелькали в воздухе, словно он находился на поле. Он поддавал ногой каждый мяч. И когда игрок пробирался к воротам, Мисо сам наносил удар. Находясь один в комнате, он резко выбрасывал ногу вперед и изо всех сил ударял по воображаемому мячу.
Однажды Дуня, делавшая уроки в своей комнате, услышала крики Мисо. Сначала раздался мощный «ГООООЛ!». Затем наступила тишина, за которой последовал вопль, полный боли: