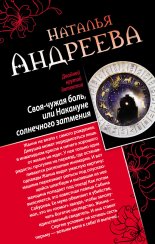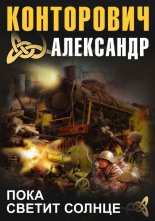Боги богов Рубанов Андрей

Бывший пилот доковылял до окна, выглянул и не сдержался: плюнул вниз.
— Презираешь, — сказал Отец и тоже плюнул, его слюна улетела в пять раз дальше. — Зря. Это нужно любить.
— Вот и люби, — пробормотал Марат. — Сегодня я не пойду.
— Пойдешь. Два часа потерпишь и до вечера свободен… — старик осклабился. — Я всё равно буду занят новыми женами.
Толпа колыхалась. Жрецы уже выстроились на крыльце, а палач, подготовив рабочее место, скрылся в храме. Согласно старому, как мир, правилу актер не должен был появляться перед зрителями до начала спектакля.
— Фцо, — сказал Марат.
Отец посуровел и пренебрежительно щелкнул языком.
— Нет, — тихо ответил он. — Еще не Фцо.
— Хочешь больше?
— Конечно.
— Пирамиду до неба? И чтобы площадь вмещала сто тысяч папуасов?
— Идиот, — спокойно произнес Отец. — Сто тысяч пирамид и сто тысяч площадей — вот Фцо.
— Ага, — сказал Марат.
Отец сорвал с себя накидку, сшитую из шкурок детенышей земноводной собаки, и почесался. Нагота его — бронзовый загар, тщательно выбритый пах, резкий запах благовоний, наросшие вдоль костей мыщцы — давно уже не раздражала Марата. Человек, наблюдающий собаку или змею, спокоен, его не коробит вид гениталий животного.
— Сделана только первая часть дела, — сказал Отец простым тоном, каким говорят о грязной посуде или шнурках. — Мы убили всех, кто помнит, как я был полутрупом. Осталось двое последних, сегодня я лично вырежу им кишки. Дальше придется потерпеть. Папуас растет семь лет, прошло два года, будем ждать.
— Чего?
— Нового поколения. Каждый должен усвоить с младенчества, кто я такой. Каждый мальчик должен мечтать отдать Великому Отцу свою жизнь. А девочка — свое тело. Потом я дождусь, когда это поколение войдет в силу, и пойду на север и юг. Развиваться будем только вдоль берега. Одного города мало — нужны несколько больших колоний и торговля меж ними. Не будет торговли — не будет ничего. Ты говоришь — Фцо? Дурак! Здесь нет даже намека на Фцо. Ты король вшивых обезьян, а должен быть владыкой мира. Мы пойдем на север и наберем рабов. Потом мы пойдем на юг и разберемся с пчеловолками. Ты приручишь их…
Марат фыркнул.
— Да! — каркнул Отец, подпрыгнул и присел на подоконник. — Приручишь! Не смотри так, не люблю! Я видел их скелеты, это сильные твари, они нам помогут. Носороги — фуфло, вчерашний день. Мы с тобой будем летать, понял? Пустыня не бесконечна, за ней есть другие земли, там тоже кто-то живет и что-то делает… Фцо — это Фцо! Весь кайф, вся жратва, все бабы, все океаны, горы и так далее. Вся планета. А теперь — одевайся, и пойдем.
Когда старых воинов выволокли из храма, площадь заревела. Первый пленник — Марат уже не помнил его имени — был невменяем от страха и только крупно трясся, зато второй, когда-то звавшийся Цыгж, что на языке равнины значило «упрямый», преодолел последние метры пути на своих ногах, а когда взошел на алтарь, плюнул палачу в лицо.
Но Хохотун давно уже ко всему привык и не отреагировал.
Их было шестнадцать, по четыре из каждого рода, лучшие охотники, первые топоры. Один погиб в горах, пятнадцать дошли до океана и вместе с Хозяином Огня завоевали побережье. И образовали закрытую касту аристократов. Хохотуну сказали, что если он хочет жить — пусть убьет остальных. Семерых растерзали сразу, но умный Муугу всё понял и увел остальных в горы, вместе с семьями. Охота длилась много месяцев. Пойманных казнили публично, а перед тем пытали; одни поклялись, что Муугу — организатор побега — умер от холеры, другие — что маленький генерал убит горцами. Отец не поверил, и то был редкий случай, когда Марат с ним согласился, хоть и не подал виду; жилистый генерал был не тем парнем, чтобы взять и просто умереть от холеры, и даже когда в одном из ущелий нашли его кости, одежду и оружие — Марата это не убедило. Он слишком верил в своего любимого воина. Муугу был лучшим, объективно. Он был предан, умен, вынослив, легко обучаем, справедлив, хладнокровен и лишен амбиций. Из него вышел бы уравновешенный полководец, берегущий своих солдат, или градоначальник, не склонный к прожектам. Среди множества мужчин, принимавших матриархат как нечто само собой разумеющееся, Муугу был уникумом, единственным в своем роде альфа-самцом среди альфа-самок.
Сейчас Марат ощутил слабое удовлетворение. Если даже маленький генерал мертв, он погиб достойной смертью. Пусть от болезни, но хотя бы не на алтаре, не под ножом бывшего друга. Им обоим повезло. Хохотун не увидел позора своего соратника, некогда — лидера, а ныне — беглеца. И Муугу не увидел позора Хохотуна, бывшего охотника, ныне — заплечных дел мастера.
Их дома стояли рядом, их жены дружили, их дети играли вместе — как Хохотун намотал бы на локоть кишки собственного товарища?
Марат обернулся, взглянул на трибуну для знати. В первом ряду сидели его жены, во втором — жены Отца. И те и другие смотрели не отрываясь.
Так и намотал бы, подумал он. Хохотун хочет жить, он был начальником воинов, теперь наматывает кишки; пусть это не совсем жизнь, но все-таки ее подобие.
Бывший студент Пилотской академии, угонщик кораблей и осужденный преступник тоже не собирался убивать разумных прямоходящих, а захотел жить — и убил, сначала одного, потом второго, потом еще несколько сотен; это не совсем жизнь, но все-таки ее подобие.
Хохотун опрокинул первого воина спиной на жертвенный камень, стянул ременные петли на руках и ногах, повернулся к Митрополиту, тот посмотрел на Отца, Отец — на публику.
Марат задохнулся от ярости и бессилия. Он — Владыка Города и Хозяин Огня — согласно этикету восседал в центре помоста, выше алтарей, выше крыльца храма, на особом переносном деревянном троне, сплошь обитом сверкающими на солнце медными пластинами, а Отец — верховная сущность, не нуждавшаяся в кресле, охране, одежде, — располагался сзади, стоял в полушаге от Марата, но когда привязанное к камню серое тощее тело жертвы безобразно выгнулось, и люди повернули лица в сторону помоста, было хорошо видно, что смотрят они не на Владыку Города, а на того, кто стоит за его спиной, — пять тысяч взглядов скрещивались в точке, находившейся в метре от головы Марата; если бы он сейчас встал и ушел, никто бы этого не заметил; он был совсем рядом с происходящим, пять тысяч импульсов азарта и нетерпения заставляли звенеть воздух возле его виска, и он ничем не управлял, он был никто, марионетка, декорация.
Тишина установилась, как катится пыльный вихрь: от первых, ближних к алтарю рядов — до дальних краев площади, от трибуны для богатых до плебса, теснящегося в устьях улиц.
В наступившем безмолвии Отец прошагал по помосту, одним прыжком вскочил на алтарь. Хохотун сразу всё понял и отступил назад, а руку с ножом убрал за спину. Отец выпрямился, прикрыл глаза и опустил пальцы на живот лежащего. Собрал желтую кожу в горсть, рванул — плоть лопнула со звонким треском, воин протяжно закричал, толпа, казалось, перестала дышать, по белому камню хлынула кровь; Отец деловито изогнулся и с отсутствующим выражением лица погрузил руку в тело казнимого. Хрустнули ломаемые ребра, и спустя мгновение пальцы знаменитого вора потащили из живота дикаря черно-красные внутренности.
Только теперь толпа заревела.
Вот хороший момент, сказал себе Марат. Сейчас у него пароксизм наслаждения, и у зрителей тоже. На несколько мгновений пастух и его стадо сливаются в единое целое, и тогда можно атаковать.
Одна группа — четверо или пятеро — ударит со стороны площади и отвлечет внимание охраны. Вторая команда зайдет с тыла, со стороны храмовых ступеней: нападет на Отца, оглушенного наслаждением, озверевшего от запаха крови. Вряд ли они достанут его, но ранить — вполне смогут.
А я вытащу пистолет и выстрелю в затылок.
Отец показал народу петли кишечника, потряс, улыбнулся и отошел от алтаря. Хохотун развязал ремни, сбросил тело с камня. Глашатай ударил в бубен. Второй казнимый — с абсолютно бескровным лицом — попытался сопротивляться, что-то крикнул Хохотуну, вытаращив глаза, и, очевидно, сильно разозлил бывшего генерала, поскольку тот излишне нервно схватил его за шею; но Отец, продолжая улыбаться, оттолкнул палача и сам протянул руку к горлу старого воина. Стал поднимать на вытянутой руке. Казнимый нелепо дергал руками. Отец тряхнул его и вдруг, подбросив на несколько метров — пять тысяч дикарей ахнули, — ловко перевернул и схватил уже за ногу и тут же, размахнувшись, ударил головой о поверхность алтарного камня.
Пять тысяч глоток исторгли вой.
Они не были кровожадны. Они кричали от изумления и ужаса. Те, на кого попали брызги крови и частицы мозгового вещества, отшатнулись назад, возникла кратковременная давка, но глашатай четырежды ударил в бубен, и понемногу установилась тишина.
— Великий Отец любит вас! — крикнул Митрополит, багровея от усилия.
Вопль восторга заставил задрожать доски под ногами Марата.
— Великий Отец жертвует жизни своих врагов своему Сыну, вашему Владыке, Хозяину Огня!
Кричали все. Бедные и богатые, голодные и сытые. Кричали воины внешнего оцепления, и увешанные браслетами жены самого Марата, и торговцы тюленьими шкурами, и резчики по кости, и кузнецы, и смотрители за канавой для дураков, и бродяги, пришедшие с севера, юга и запада делать мену, а потом разносить по миру рассказы о Городе, процветающем под началом всесильного Хозяина Огня и его Отца, чей гнев столь страшен, что для его описания не существует слов ни в одном языке.
Хохотун потащил тела прочь, в боковые храмовые ворота, а из главных уже выводили невест Отца, обнаженных семилетних девушек. Их тела лоснились от благовоний, на лицах цвели слабые улыбки. С утра их накормили снадобьем по рецепту Жидкого Джо: по два подгнивших плода черной пальмы с добавлением нескольких капель желчи иглозубой лягушки; сейчас — Марат знал — перед глазами девушек бесились и переплетались маленькие веселые радуги.
Свадебный алтарь изготавливали по чертежам Отца, он был огромен, в несколько раз больше жертвенного, и все восемь невест свободно уместились на нем.
Загудел бубен.
На самых первых праздниках меж обрядами жертвоприношения и свадьбы делали паузу, несколько минут общей хоровой молитвы, но потом Отец приказал объединить оба ритуала. «Свежий запах крови только что умерщвленного самца должен смешиваться со свежим запахом юной самки, — объяснял он в минуты откровенности. — Это надо понимать, это и есть Фцо, и ошибается тот, кто буквально переводит древнее слово как “всё”. Фцо — это не просто “всё”, а “всё вместе”. Это сложный коктейль, где правильно подобраны ингредиенты, и умение смешивать их дано только избранным. Нужен талант, — объяснял легендарный вор, — особое чувство; хотеть Фцо нужно с детства и всю жизнь посвятить, экспериментировать и ошибаться, изучать себя, повсюду искать источники удовольствий. И главное, никогда не останавливаться; настоящий ценитель знает, что никто никогда не сможет получить Фцо».
Да, меж ними были периоды мира, когда старик разражался длинными монологами или тащил своего компаньона с собой в Город; там, внизу, на простых примерах Марату было показано, как можно взять Фцо, например, в лачуге бедного собирателя черепашьей икры, и всякий раз Марат поражался: оказывается, многое можно получить там, где на первый взгляд вообще ничего нет. А Великий Отец только ухмылялся. «Фцо повсюду, — цедил он. — Фцо есть везде, где ты не один, где рядом с тобой пребывает кто-то еще.
Найди кого-то другого, второго, ближнего, мужчину или женщину, старика или ребенка, — неважно; главное, чтобы рядом была еще хотя бы одна живая душа — из нее возьмешь Фцо».
…Храмовые служки — четверо — поднесли к губам раковины хищного моллюска ю, низкий звук труб поплыл над головами; глашатай ударил в бубен, и Великий Отец, размазывая кровь по лицу и груди, взошел на алтарь.
Марат сменил позу и — чтобы не смотреть — стал ковырять пальцем в блюде с жевательной корой, выбирая наиболее мягкий кусок. Обернулся к трибуне. Его жены с интересом наблюдали за происходящим, но едва увидели глаза Владыки — все, как одна, интимно улыбнулись, давая понять, что чужие сексуальные упражнения, пусть и экстремальные, их интересуют все-таки в гораздо меньшей степени, чем самочувствие обожаемого супруга.
Все они видели на теле своего мужа синяки и ссадины. Все знали, что Отец его бьет. Но ни одна из пяти ни разу не проявила сочувствия или жалости. А одна — не самая юная, но самая наивная — однажды спросила, правда ли, что Великий Отец питается камнями?
«Да, правда, — ответил Марат, — и не просто питается — боясь его гнева, камни сами прыгают ему в рот. Уяснила?»
Удары бубна стали чаще и резче. Толпа ликовала, но напряжение, сопровождавшее казнь, разрядилось, пять тысяч аборигенов уже не задыхались от возбуждения, а весело комментировали происходящее; детали могли рассмотреть только те, кто стоял в первых рядах, прочие довольствовались общей картиной. Впрочем, Отец не забывал приподнять с алтаря каждую осчастливленную девушку и показать ее народу, вспотевшую и румяную.
А сейчас, подумал Марат, еще более удачная ситуация для покушения. Правда, невесты наверняка тоже попадут в мясорубку. Но они хотя бы умрут в хороший для себя момент. Однако мало выбрать время для атаки, нужны надежные бойцы. И не просто сильные парни, а специально подготовленные киллеры. И оружие. Короткие мечи, которые можно спрятать под одеждой. О том, чтобы изготовить кинжалы тайно от Отца, не может быть и речи, но можно выкрасть из хранилища несколько медных самородков и самому выковать клинки; мастер из меня неважный, но расплющить и заточить десяток кусков мягкого металла я сумею.
И — главное: после того, как его голова превратится в пар, я должен лично, без посторонней помощи, вспороть его живот, вытащить требуху и намотать на локоть. И тем самым утвердить свой авторитет и свою силу. Я их бог, все казни на этой площади происходят во имя мое, и если я лично убью Отца — это будет выглядеть не преступлением, а еще одной жертвой. Ради любви к своему народу Владыка принес в жертву собственного родителя! Тут же учредим новый праздник. Допустим, День Великой жертвы. Просто и со вкусом. Или День извлечения внутренностей Великого Отца. Тоже неплохо звучит. Далее немедленно отменим казни и некоторые виды налогов. Сократим штат жрецов. Освободим всех горцев, пусть убираются в свои холодные ущелья. Кто не захочет — выгоним пинками.
Как обычно, шесть из восьми девушек оказались ленивыми либо слишком скованными, зато две кричали и извивались так, что публика опять пришла в неистовство. Этих двух Отец ухватил поперек тел и вытащил с собой на помост. Жрецы поднесли огромную плетеную корзину, доверху наполненную медными браслетами. Отец бросил в толпу несколько вещиц, мгновенно началась давка, самцы орали, самки визжали, а потом кидать подарки стал уже не сам Отец, а две его новые фаворитки; обе спустя минуту пришли в состояние, близкое к истерике, хохотали и соревновались меж собой, кто швырнет больше и дальше.
У Марата едва хватало сил, чтобы сохранять невозмутимость. Смотреть на взрезаемые животы было легче, нежели наблюдать за тем, как две юные девочки вибрируют от ощущения собственного превосходства над пятью тысячами неудачников и неудачниц, жадно протягивающих руки. А Отец стоял неподалеку и блестел глазами; он хорошо знал, что делал. Едва созревшая самка, извлеченная из своей среды и резко поднятая на самую вершину социальной лестницы, выхваченная из грязи и вознесенная к высотам могущества, на несколько дней или даже недель теряет разум и дает своему покровителю Фцо. Потом наложница надоедает, и ее возвращают назад. Особо талантливые экземпляры остаются в гареме на месяц или полтора, но финал всегда одинаков. Митрополит лично следит за тем, как подрастают в Городе новые и новые кандидатуры. Ежегодно около тысячи девочек отмечают седьмой день рождения, и к очередному празднику подготавливаются несколько лучших, самых привлекательных и резвых невест.
Потом опять вострубили трубы, и Марат встал.
Воины подняли копья и мечи, жрецы — посохи. Палач вышел из боковых ворот.
Встали магнаты на главной трибуне. Встали со свадебного алтаря невесты-неудачницы, встали с помоста две их обессилевшие от восторга подруги.
Пять тысяч дикарей подняли лица к небу, повторяя слова первой и главной молитвы: «Бог наш, первый и последний, Хозяин Огня, Повелитель Земли и Воды, Сын Великого Отца, Хозяина Всего Живого и Неживого. Ты и Отец Твой берут всё и дают всё. Дай же нам мир и еду, и тепло очагов, и здоровье нашим детям, и убереги от беды. Мы будем всегда с тобой, как ты всегда с нами. Так было, так есть и так будет вечно».
Житель Золотой Планеты имеет на руке четыре пальца, и молитву положено повторить четыре раза.
По совету Великого Отца главная молитва сделана совсем короткой — ее может выучить любой ребенок. Полный же свод молебнов, наоборот, огромен, для прочтения Канона требуется несколько часов в зависимости от артикуляции и скорости произнесения, и здесь тоже есть умысел, далеко идущий план: вызубрить несколько тысяч фраз может только обладатель великолепной памяти, глупым и ленивым не место среди жрецов; так, по мысли Великого Отца, духовенство постепенно превратится в элитную группу интеллектуалов, носителей и хранителей знания.
По наступлении четырехлетнего возраста любой мальчик в Городе, независимо от происхождения, имеет право попытаться сдать экзамен на место храмового служителя. Прочитавший наизусть тысячу фраз сокращенного Канона становится послушником. В первый год он учит двойной Канон, на второй год — тройной. Сумевший удержать в памяти три тысячи фраз тройного Канона становится младшим жрецом и учит пять тысяч фраз полного варианта. Вся служба, разумеется, ведется на береговом наречии, но кандидат на должность старшего жреца должен знать весь Канон не только на родном языке, но и на тайном равнинном диалекте.
Когда я убью старика, решил Марат, я сохраню эту систему, она удобна. Если ты провозглашен божеством, не следует резко отказываться от своего статуса. Не поймут. Пусть молятся мне и моему изображению. Потом я исчезну, издохну или сдамся КЭР, но изображение останется, и мой культ будет поддерживаться сам собой, ибо жречество уже сформировано и оно не откажется от своих привилегий…
Как обычно, Отец незаметно исчез прямо во время молитвы. За ним замечалась склонность к дешевым эффектам. Войти в чей-нибудь дом, проломив стену, или голыми руками умертвить аборигена, росточком в метр пятьдесят и весом в сорок килограммов, или (как сейчас) бесшумно спрыгнуть с помоста и уйти в боковые храмовые ворота, пока пять тысяч смердов смотрят в небо и бубнят заклинания, — это он умел. Марат же покинул площадь с соблюдением всех церемоний, под гулкие рыдания труб и удары бубна, медленно, по главной лестнице, ведущей от подножия Пирамиды до самого ее верха, до парадных дворцовых ворот, окованных медью и сверкающих на послеполуденном солнце.
Поднялся над своим народом, как бы растворяясь понемногу в нестерпимом сиянии. Удалился. Изволил отбыть.
Сзади следовал Митрополит, довольно пыхтящий по причине того, что праздник удался. За первосвящеником — трое старших жрецов, членов Синедриона (слово ввел в обиход Отец, позаимствовав из словаря древнего христианского культа), за жрецами — личная охрана, далее — жены, потом еще один отряд воинов. Двух новых жен Отца вели отдельно, дабы более опытные жительницы гарема не столкнули юных конкуренток с уступов Пирамиды (такие случаи бывали).
Отец уже ждал в опочивальне: шумно фыркая, умывался, низко склоняясь над чаном со свежей родниковой водой, и Марат подумал, что сейчас тоже вполне удачный момент для выстрела в затылок; но едва мысль оформилась, как бывший легендарный преступник выпрямил бугрящуюся мышцами спину и обернулся: так посмотрел сквозь мокрые, спутанные, упавшие на лицо волосы, что Марат едва успел отвести взгляд.
Нет, в одиночку его не победить. Даже если будет пистолет. Даже если я схожу к Разъему и пропитаюсь силой от макушки до пальцев ног. У него звериный нюх, он всегда ждет удара, он никому не верит. Пока лежал парализованный — верная Нири пробовала всю его еду и напитки, а с тех пор, как излечился, ни разу не ел во дворце. Только в Городе и только то, что отнимал в чужих домах. Просто, эффективно, даже гениально: не желаешь быть отравленным — выхватывай пишу из чужих ртов, и чтоб никто не мог заранее узнать, из какого рта будет изъят новый кусок.
Спит мало и всегда в разное время, запираясь в комнате, лишенной окон, на самолично придуманные замки. Вентиляционная дыра забрана сеткой из тонких костяных пластин: не проползет змея, не пролезет иглозубая лягушка. Планы свои обсуждает только с Владыкой Города и только дальние, стратегические, а поговорив, уходит, и куда идет — неизвестно: то ли в спальни к женам, то ли в кузнечные мастерские, то ли в Узур подпитаться энергией, то ли в Город сбросить ее излишки. Воинов тренирует лично и за два года вымуштровал полторы сотни отборных головорезов, нечувствительных к боли, жаре, холоду и голоду. Причем едят все эти приученные к лишениям спецназовцы за пятерых, для их содержания учрежден специальный налог. Помимо личной гвардии (она же дворцовая охрана) есть еще ополчение, дважды в год призываемое для походов на север, за рабами. И еще храмовая служба безопасности, плюс несколько десятков осведомителей, их курирует лично Митрополит, ибо порядок в Городе есть священное дело. И еще мытари, подчиненные Синедриону, ибо сбор налогов есть тоже священное дело, а умение записывать цифры знаками есть тайна великая, доступная только жречеству. А еще есть городские лекари, следящие, чтобы никто не ходил по улицам, не вычесав из волос насекомых, и чтобы канава дураков засыпалась песком по мере наполнения.
В любую секунду Отец мог возникнуть рядом с любым лекарем, мытарем, жрецом, бойцом и казнить нерадивого извлечением внутренностей.
В последний год, правда, такие случаи почти прекратились, обычным наказанием было даже не избиение, а «цау». Схватив дурака за руку или ногу, Великий Отец при стечении публики швырял несчастного в небо, а там — как повезет. Можно приземлиться на чью-нибудь кровлю и отделаться ушибами, а можно сломать хребет…
И я тоже сломаю хребет, сказал себе Марат, если ошибусь. Если не сумею правильно подготовить покушение. Я даже знаю, как это будет: в случае провала великий вор не убьет меня, но изуродует. Превратит в того, кем сам был когда-то: в себя прежнего, в паралитика. Девятилетняя история покорения Золотой Планеты закончится двойной метаморфозой: беспомощный старик получит здоровье, силу и целый отдельный мир в безраздельное пользование, а полный энергии юнец, когда-то полагавший, что Вселенная принадлежит ему, обратится в беспомощного слюнявого инвалида.
Но этого не произойдет. Я не ошибусь. Я не владыка и не хозяин. Я даже не бывший студент-пилот. Я не бог и не полубог.
Бога вообще нет, а есть Кровь Космоса, и в нужный момент она наполнит меня и даст всё, что мне нужно.
— Извини, — тем временем процедил Отец. — Сам понимаешь. Восемь баб оприходовал, вспотел. Сейчас тебе другое корыто принесут.
Розовая от крови вода текла по его груди и животу, образовывала лужи на полу.
— Ничего, — сказал Марат, садясь на постель и расстегивая парадный медный нагрудник.
Не глядя, подхватил с блюда скользкий шарик черного банана, проглотил. Жадно — словно тоже оприходовал восьмерых юных дев — запил из кувшина. Вытер губы, сообщил:
— Завтра утром.
— Что? — спросил Отец, проверяя, осталась ли кровь на локтях.
— Ухожу завтра утром.
— На равнину?
— Да. Пойду один. Возьму двух носорогов. Нири не возьму, не хочу. Тебе надо — снаряжай отряд, пусть ее везут отдельно. Я устал ото всех, я один уеду.
Отец кивнул, снова вскинул глаза:
— Розовым мясом чую — ты что-то задумал.
Бананы как-то слишком быстро и сильно ударили Марату в голову, и он захохотал.
— Еще нет. Но подумать надо. В горах тихо, там хорошо думается… Скажи мне… Соломон Грин — твое настоящее имя?
Великий Отец убрал волосы назад, ухмыльнулся.
— Да.
— Мама назвала тебя в честь древнего царя, мудрейшего из мудрых?
— Я же сказал, мама умерла. А папа сидел. За то, что убил маму. Я его не спрашивал.
Марат снял тяжелый нагрудник.
— Я поеду через горы и буду думать, как мы поделим Фцо. Понимаешь меня, Соломон? Нас двое. Убивать ты меня не будешь, одному среди папуасов скучно, я тебе нужен. Когда мы возьмем здесь Фцо, как мы его поделим?
Великий вор набрал в горсть воды из чана и швырнул в Марата. Прокаркал:
— Остуди мозги. Бананов пережрал? Или ребра уже срослись? Тут столько всего, что нам обоим хватит.
— Врешь, Соломон, — весело сказал Марат, напоминание о сломанных ребрах его не расстроило. — Фцо есть Фцо. Оно может принадлежать только кому-то одному. Половина Фцо — это уже не Фцо, а только его половина, правильно?
Брови Отца поползли вверх, и он захохотал.
— Сообразил! Уважаю.
— А раз уважаешь, — Марат опять потянулся за бананом, — уступи мне сегодня своих баб.
Хохот Отца стал еще гуще и звонче.
— Каких именно?
— Новеньких.
— У тебя губа не дура. А если я тебе уши сейчас оторву? Или зубы вышибу?
— Если не уступишь, — продолжил Марат, как бы не испугавшись угрозы, — я не поверю, что ты разделишь со мной Фцо. Понимаешь меня, Соломон? Сегодня на этой планете есть две малолетки — они готовы для тебя сделать Фцо. Уступи их мне. Сегодня я хочу Фцо. А завтра уеду. Что скажешь?
Отец замолчал, но не перестал улыбаться.
— Надо подумать.
— А ты не думай, Соломон. Просто скажи: да или нет. Потом можешь оторвать мне уши. Обеих девочек, на всю ночь. Да или нет?
— Идиот, — ответил Отец в обычной манере, как скрежетал когда-то, беспомощный, в три слоя опутанный кабелями пленник утробы; упруго подшагнул, схватил Марата за волосы, нажал на затылок, несильно ударил своим лбом в его лоб.
— Между нами, — басом сообщил он, — может встать многое. Но бабы никогда не встанут. Хочешь сегодня Фцо — бери. Думаешь, мне жаль? Мне не бывает жаль. Меня никто не жалел. И я сам себя не жалел. Никогда. Уяснил?
— Да, — процедил Марат.
Отец отстранился и одним резким прыжком вскочил на подоконник. Расставив ноги и уперев руки в края проема, несколько мгновений смотрел на Город. Обернулся к Марату, спросил глухо:
— Возьмешь с собой Нири?
— Нет, — твердо произнес Марат. — Не хочу. Я хочу Фцо, Соломон. А со старухой твоей возни много. Извини.
Отец помолчал. Его спина напряглась, как будто он хотел раздвинуть стены.
— Мы с тобой кретины, — хрипло сказал он. — Мы делаем большую ошибку. Мы ловим преступников и приносим их в жертву.
— Где тут ошибка? — спросил Марат. — Это удобно. Двойная польза. И веру укрепляем, и с преступностью боремся…
— Тут вообще нет пользы. Что это за жертва, если ее не жаль? Жертвовать можно только то, что дорого. Когда ты вернешься, мы всё изменим. Будем приносить в жертву не воров и убийц, а красивых юных самок. Допустим, каждый месяц — по одной, а если улов неважный или, допустим, ураган или холера — по две или три. Так будет лучше.
— А ты? — спросил Марат. — На этой планете все лучшие бабы твои…
— Придурок, — ответил Отец. — В том-то и дело. Перебрал я с ними. Вкус теряю. Приелось. Пусть их лучше режут на моих глазах. Представь: поднимают к алтарю троих. Первую режут, вторую — тоже. Кровища, палач с ножом… Третья видит это дело и понимает — всё, конец пришел. И вдруг — чудесное спасение! Ее не убивают, а ведут ко мне. Сначала, конечно, она в шоке, но потом успокаивается, и я получаю Фцо… Что скажешь?
— Не то, — ответил Марат. — Лучше пусть твои жены ходят с тобой в Узур. Отбираешь нескольких, ведешь к Разъему. Они заряжаются, потом совокупляетесь, не отходя от кассы… Вот тебе настоящее Фцо.
— Да, — сказал Отец после паузы. — Тоже идея… Надо обдумать.
Он постоял на краю окна еще несколько секунд и бесшумно прыгнул вниз.
В начале вечера привели девушек. Обе выглядели очень усталыми. Обильный пот размыл ароматические масла, проложил по шеям и животам грязные дорожки.
Рухнули лицами в пол.
Вот пусть так и полежат пока, решил Марат. Пусть лучше здесь валяются, чем у него в логове. У меня, конечно, осведомителей нет, но и я кое-что знаю. Бывает, его жены рассказывают моим женам подробности. Он любит, когда четыре самки одновременно сосут пальцы на его ногах и руках. Бедолага семь лет провалялся без движения и накопил, разумеется, множество нереализованных фантазий. А сколько лет просидел по каторгам? Нет, пусть девчонки побудут здесь. А я посплю. Завтра — в путь. Сначала в горы, потом надо сделать петлю и выследить шпиона, которого великий вор обязательно пустит за мной следом. Удавлю соглядатая — поверну к рудникам, наберу медных самородков. Без хороших мечей дело не сделать. Далее — к тайнику, за пистолетом. Потом через второй южный проход на равнину… Кстати, шпион может быть не один… Соберу отряд, научу сражаться, отведу всех в Узур, заодно и сам наберу здоровья — и пойдем… Иначе это существо постепенно сойдет с ума и превратит в содом всю планету со всеми ее обитателями.
Слова «коварство» не было в их языке. И «вероломства» тоже не было. Только «хитрость».
Замахнуться левой, ударить правой — это они понимали. Но если, например, Марат делал вид, что ему больно, морщился или изображал хромоту — все они сразу верили и бросались добивать, позабыв о защите.
За неделю непрерывных спаррингов Марат выбился из сил.
Они были молодые, сильные и отважные. Но посылать их против Жильца — значило обречь на мгновенную смерть.
На четвертый день пришла Ахо. Сидела на склоне холма, обхватив руками колени. Поджав губы, смотрела, как воины машут дубинками. Когда Марат кричал «глыл, глыл!», что значило «очень, очень хитро», старуха вздрагивала.
В перерыве он подошел, сел рядом. Листом растения чируло Ахо обтерла пот с его лица, касания морщинистых рук были осторожны и точны. Потом сказала:
— Они не смогут. Они не умеют быть очень хитрыми. Этому нельзя научить. С этим надо родиться.
— Тогда они умрут.
— Я знаю.
— Ты мать рода, — сказал Марат. — Разве тебе их не жаль?
— Жаль, — сразу ответила Ахо. — Но лучше пусть они погибнут, чем станут очень хитрыми.
Марат отобрал семерых молодых мужчин. Троих — самых габаритных, широкоплечих, и четверых — самых ловких. Все они были первыми топорами в своей общине: быстрые, жилистые самцы, отменные стрелки из лука, с пятидесяти шагов попадавшие земноводной собаке точно в шею. Великаны были поглупее, зато малыши отлично соображали, и по крайней мере один из них, девятилетний Цьяб, недавно назначенный старшиной отряда, быстро освоил все способы ведения боя, и просто «хитрые», и «очень хитрые», а однажды во время жесткого, с боевым оружием, поединка почти достал Марата острием клинка.
Марат похвалил Цьяба и тут же подумал, что ему жаль парнишку, скорее всего он погибнет первым.
Идти на покушение с луками и копьями было бессмысленно. Только ближний бой, только короткие, длиной в две ладони, кинжалы. Три группы: первая отвлекает внимание и атакует охрану, вторая заходит с тыла и нападает на Великого Отца. Третья волна атаки — сам Марат с пистолетом. Стрелять придется в спину, но другого выхода нет. Жаль, конечно, убивать в спину человека, с которым прожил вместе девять лет. Но Жилец, наверное, уже теперь и не человек вовсе.
Ахо сидела до обеда, потом отлучилась, принесла большой мех с водой и дюжину кусков собачьей печени. Ученики утолили голод и тут же — по глазам было видно — затосковали. Первые три часа тренировка их забавляла, они посмеивались и показывали друг другу свою удаль, глаза блестели, но когда приходила усталость, все бойцы, включая талантливого Цьяба, начинали зевать и теряли волю к победе. Обычно в такой момент Марат начинал кричать и бить их, как бил его самого Жилец: вполсилы ногой по ягодицам или кулаком в плечо; но сегодня рядом сидела мать рода, и Марат решил обойтись без грубости.
— Идите к носорогам, — велел он. — Пусть каждый возьмет своего зверя и проедет, сколько сможет. Идите, или я убью вас всех.
Воины побросали мечи и отправились к загону. Ездить верхом они любили, но тоже — только с утра, до еды.
Каждый их день делился на две части. До еды они двигались быстро, всё понимали и охотно оглашали равнину молодецкими воплями. После еды всё менялось. Насытившись, абориген немедленно засыпал. Победить это было невозможно, жители Золотой Планеты просто не умели бодрствовать на сытый желудок.
Носороги заревели, но Марат лично объездил каждую тварь и даже не повернул головы. В худшем случае кому-нибудь отдавят ногу.
Ахо продолжала сидеть в той же позе.
— Я знала, — сказала она, — что ты вернешься и принесешь большое зло. Ты вернешься совсем другим, и всё будет совсем по-другому. Я хотела убить себя. Чтобы не хотеть твоего возвращения. Если мать рода сильно хочет чего-то, это всегда происходит. Я ждала тебя, и ты вернулся. Теперь ты забираешь семерых лучших мужчин и говоришь, что они никогда не придут назад.
— Я тоже.
— Ты бродяга. Иногда бродяги возвращаются, иногда — нет. А эти юноши — сыновья моих подруг. Что я скажу матерям?
— Ты умна, — ответил Марат. — Ты сама решишь, что сказать матерям. Повтори им то, что я сказал тебе: если твои мужчины не помогут мне, скоро из-за гор придут непобедимые воины, одетые в броню. Такую же, как эта…
Марат ударил рукояткой меча по медному нагруднику.
Ахо не поняла слова «броня», произнесенного на береговом языке, но догадалась.
— Они погубят весь твой род, — продолжал Марат. — Они убьют тебя и разрушат чувствилище. Они зарежут стариков, а остальных заберут с собой. Ты знаешь, что такое «раб»?
— Знаю, — сказала Ахо. — Ко мне приходят бродяги с берега. Раньше они рассказывали про Узур, а сейчас говорят другое. Все племена равнины говорят про Город-на-Берегу. И племена болот тоже говорят. Вчера ночью я кинула в огонь ветку фтеро и теперь знаю, что наша жизнь скоро окончится. Но не так, как ты сказал.
Марат не ответил.
Ахо встала, подобрала пустой мех и пошла вверх по склону холма.
Она не просто постарела, но обветшала и высохла. Однако власть и ответственность не дали согнуться ее спине, а глаза, пусть и выцветшие, когда-то сверкавшие юной чувственностью, хотевшие весь мир и всю его красоту, теперь не выражали ничего, кроме мудрости, и Марат избегал смотреть в них. Мудрость беспола, в мудрости есть всё, но секса нет, а бывший пилот и арестант слишком хорошо помнил нынешнюю мать рода шгоро-шгоро невесомой тонкой девушкой, чьи волосы щекотали его шею.
Помнила ли она? Бывший пилот не спрашивал. В пересчете на его темп жизни они не виделись около тридцати лет.
Конечно, я буду помнить Ахо, когда состарюсь, подумал он, но насколько подробно? Останутся ли в памяти ее мизинцы, ее спина, запах ее дыхания? Наверное, нет. Запомню только вкус ее пота, неправдоподобно сладкий. Если вырвусь отсюда, забуду многое, но не вкус сладкого пота женщин этой планеты…
Он оглянулся. Воины выводили носорогов из загона, звонко хлопали ладонями по краям верхних дыхал. Животные пыхтели и толкали друг друга боками. Цьяб с усилием закрыл за последним всадником ворота и поспешил к месту спаррингов: вспомнил, что нужно собрать оружие. Он единственный из всех сразу уяснил, что медные ножи боятся сырости и требуют ежедневной заточки. Хороший парень, жаль его, подумал Марат и в четыре быстрых шага нагнал Ахо.
С вершины холма были видны многочисленные дымы костров и островерхая крыша «дворца».
Марат жил здесь уже третий месяц, но до сих пор не мог без усмешки смотреть на самые первые результаты своей колонизаторской деятельности. Когда-то он гордился своим домом, и городищем с четырьмя улицами, и всплеском рождаемости, и тем, как ловко и охотно дикари учились лепить из глины посуду или мыть золой волосы.
Ахо зашагала к селению.
— Там, на берегу, — сказал Марат, — ко мне пришла женщина. Я никогда не видел таких женщин. Она была бродягой. Она ходила в Узур, а потом покинула его. Разве так бывает?
— Конечно, — ответила Ахо. — Если весь род погибает, мать рода становится бродягой. Я слышала о племенах, живущих на границе океана и пустыни. Я слышала разные истории. Например, прилетают пчеловолки и убивают всех, кто не успел зайти в воду. Тогда мать рода или ее дочь ведет всех, кто выжил, в соседнее племя и оставляет там. А сама уходит. Бывает, что род гибнет от болезней. Бывает, приходит большой огонь, высотой до неба, или сама земля дрожит, открывается и пожирает людей. Если та женщина стала бродягой, значит, весь ее род погиб. Наверное, она сказала, что любит тебя и хочет тебя…
— Да, — произнес Марат. — Так она сказала.
Ахо кивнула.
— Она хотела создать новый род. Женщина-бродяга берет в мужья мужчину-бродягу. Или самого сильного мужчину из другого племени… Тогда они ищут место, где можно поселиться, строят чувствилище, родят детей и дают им имена. Так появляется новый род.
— Ты бросила в огонь ветку фтеро, — сказал Марат. — Расскажи, что ты увидела.
— Когда бросаешь в огонь ветку фтеро, ничего нельзя увидеть. Только почувствовать.
— Расскажи, — повторил Марат.
Ахо отрицательно покачала головой и обернулась: их нагнал один из воинов. Его носорог — судя по обильной слюне, капавшей из разверстой пасти, — был счастлив пробежаться на сон грядущий. Все объезженные животные, три десятка, были очень молоды, отбиты от стад детенышами и быстро привыкли к неволе. На протяжении двух месяцев Марат проводил в загоне всё светлое время суток, каждого монстра кормил с руки, насквозь провонял навозом, ничем другим не занимался — спешил. Последний, третий месяц хотел выкроить для подготовки команды киллеров. Носороги требовались Великому Отцу, а Марату нужны были солдаты, для ликвидации Отца. Соучастники покушения. Сейчас он посмотрел на одного из своих воспитанников и едва удержался от грустной усмешки. Носорог был прекрасен, силен, гладок и отменно объезжен, тогда как его наездник, радостно скалящий желтые зубы, являл собой почти комическое зрелище. Аника-воин, перетянутый кожаными ремнями троглодит, не боящийся ни черта, ни бога, потому что на его родной планете ни того ни другого еще не придумали.
Марат сделал страшное лицо, и абориген, пнув животное ногами под скулы, двинул его прочь.
— Расскажи, — опять попросил Марат, повернувшись к старухе. — Я должен знать.
— Это нельзя узнать.
Марат выругался на береговом наречии.
— Это важно! — крикнул он. — Не для меня — для тебя! Для твоих людей!
Мать рода помрачнела.
— Всё будет не так, как ты хочешь.
— А как будет?
— Большая тишина, — сказала Ахо. — Большой покой.
Марат понял, что устал. И от разговора с бывшей женой — она совсем его не боялась, а он привык, что дикари трепещут и спешат исчерпывающе ответить на любой незначительный вопрос, — и от обучения юнцов азам воинского искусства, и от носорогов, и от самой равнины.
Он отвык от равнины. Сильно болела голова. На берегу тоже бушевали всевозможные растения, но ветры выдували их ароматы, всё перебивал запах океана; здесь же над травами и кустарниками колыхались многие сотни дурманов, горько-сладких, кисло-сладких, просто сладких и невыносимо сладких, ошеломляюще сладких и тошнотворно сладких; из оврагов и сырых болотин меж холмами тянуло совсем отвратительным, но тоже сладким; любимая носорогами осока, росшая по холодным северным склонам, в это время года отцветала, тут же гнила и обращалась в фиолетовую слизь, а сквозь нее прорастали перечные водоросли, более тонкие и жесткие, но тоже очень сладкие, а на теплых южных склонах тянулись в зенит трубчатые, как бамбук, побеги репейника; в совсем же сухих местах распустились лиловокрасные цветы с отчетливым ванильным духом. Сливки, какао, мармелад, карамель — если бы Марат прилетел сюда не девять лет назад, а сегодня утром, и не восемнадцатилетним юношей, а пятилетним ребенком, он бы просто сел на землю и заталкивал в рот всё, до чего дотянется рука. Включая сам грунт, отдающий конфитюром.
— Я не понимаю тебя, — сказал он.
— Это нельзя понять, — с заметным раздражением произнесла Ахо. — А теперь иди. Голова Четырех племен умоляет тебя прийти в его дом. Это важно.
За семь лет отсутствия Хозяина Огня ни один абориген не осмелился войти в его дворец. Дом — немного кривой, но надежно собранный из мощных бревен — стоял пустым. Два с половиной месяца назад Марат снял засов и открыл дверь, оборвав сгнившие кожаные петли, однако войти не смог: пространство было заткано паутиной от пола до стропил, сотни слоев образовывали сложнейшие конструкции, тут и там на разной высоте висели высохшие фрагменты тел жуков, бабочек и даже летающих змей; сам глиняный пол тоже не выдержал напора рвущихся вверх растений, главным образом — репейника, ибо на здешней земле десятки видов его произрастали издревле, и первое покоренное племя звало себя пчо, что значило «дочери репейника».
Найдя свою резиденцию в столь плачевном виде, Марат хотел было разгневаться и наказать Быстроумного за то, что недоглядел, но потом понял, что иначе и быть не могло. Дом Хозяина Огня священен и неприкосновенен. Если Хозяина нет, дом его закрыт для всех, в том числе и для его наместника.
Сам наместник, Голова Четырех Племен, в лучшие годы звавшийся Быстроумным, обитал в хижине, пристроенной снаружи к боковой стене дворца, что было вполне логично. Вроде бы не во дворце, но рядом, совсем близко. И наказывать наместника было бессмысленно: старику исполнилось двадцать четыре года, и он умирал.
Когда Хозяин Огня въехал, верхом на носороге, в городище, старец едва нашел силы, чтобы выползти на дорогу и расплакаться от страха и подобострастия. Марат с трудом узнал косоглазого царя, а узнав, приказал вернуться обратно и ждать. В тот же день они коротко поговорили. Быстроумный попросил у Хозяина Огня его еду, Хозяин отказал, поскольку запасы мультитоника были давно исчерпаны и сам вкус пилотского стимулятора прочно забыт; Быстроумный понял отказ по своему, как знак пренебрежения, опять много плакал и жаловался на то, что его приказов никто не слушает; Марату не было его жаль, и тот визит в провонявшую стариковскими выделениями хибару был первым и последним.
Сейчас он сильно нагнулся, чтобы не задеть головой просевшую дырявую крышу, кое-как проник и увидел, что царю осталось совсем недолго.
— Хозяин Огня, — сипло выдавил умирающий. — Дай мне твоей еды.
И раздвинул бескровные губы в слабой улыбке.
Какого черта, подумал Марат и сел рядом, прямо на истлевшие шкуры. Запах был кошмарен; жуки-говноеды ползали прямо по голым ногам лежавшего дикаря.
Наместник уперся серыми руками в пол, перевернулся на живот и пополз в сторону, задевая и опрокидывая плошки с остатками еды.
Кормили, впрочем, его хорошо. И знак власти — круглый камень с дырой, которую Марат лично проплавил пистолетным выстрелом, — до сих пор свисал с грязной шеи старика на засаленном кожаном гайтане.
— Я помню, — прошамкал Быстроумный. — Пять шагов… Я помню, Хозяин Огня… Не убивай меня. Нельзя… Ближе, чем на пять шагов…
«Девять лет, — сказал себе Марат, глядя на костлявую спину аборигена. — Для него прошло полжизни, для меня — тоже весомый отрезок, вся молодость. Мне было двадцать. Я пришел к ним из ночного мрака, не желая никому зла, не называя себя полубогом, не выказывая превосходства. Пришел, спрятав оружие в дальний карман. Пришел с дарами и просьбой о помощи. Я протянул ему капсулу, и он съел. Мать рода взглядом приказала ему — и он попробовал. Причастился первым из всех обитателей этого сладкого мира.
Помню, дикарь уже тогда был без зубов. Косоглазый неудачник. Третий топор племени пчо. Всего лишь третий топор».
Тем временем наместник дополз до стены, привалился спиной. Поднял полуслепые глаза, со всхлипом втянул в себя воздух и выдохнул: