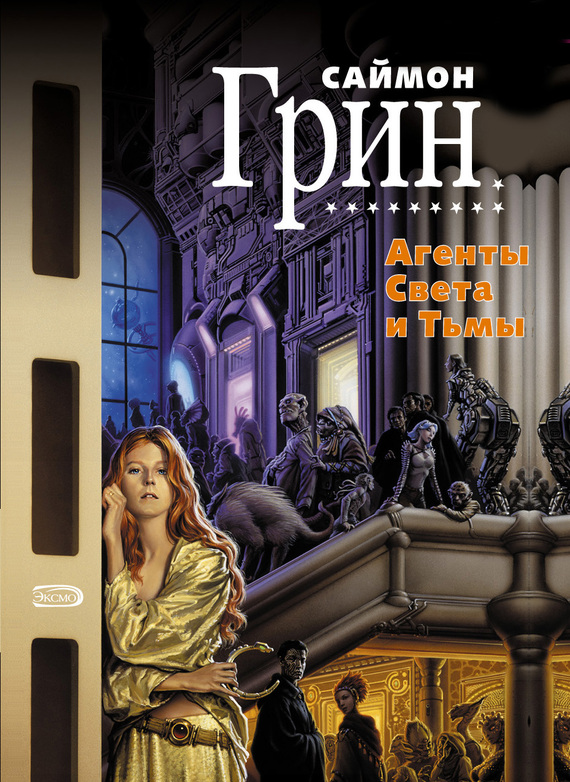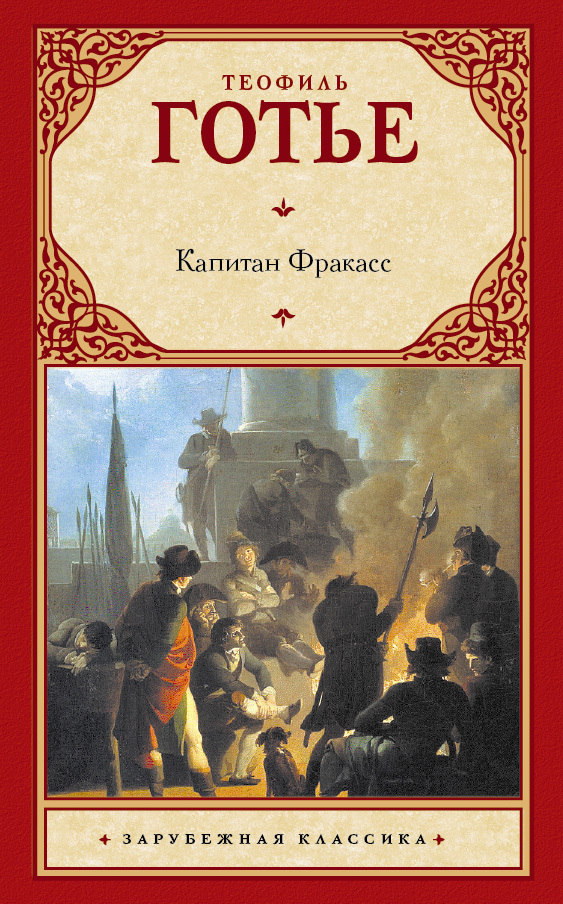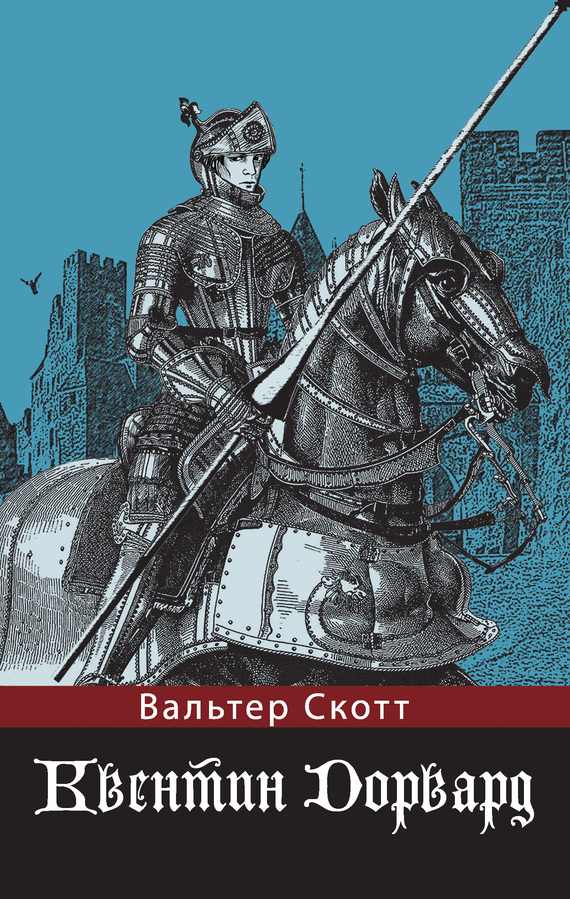Сердцедер Виан Борис
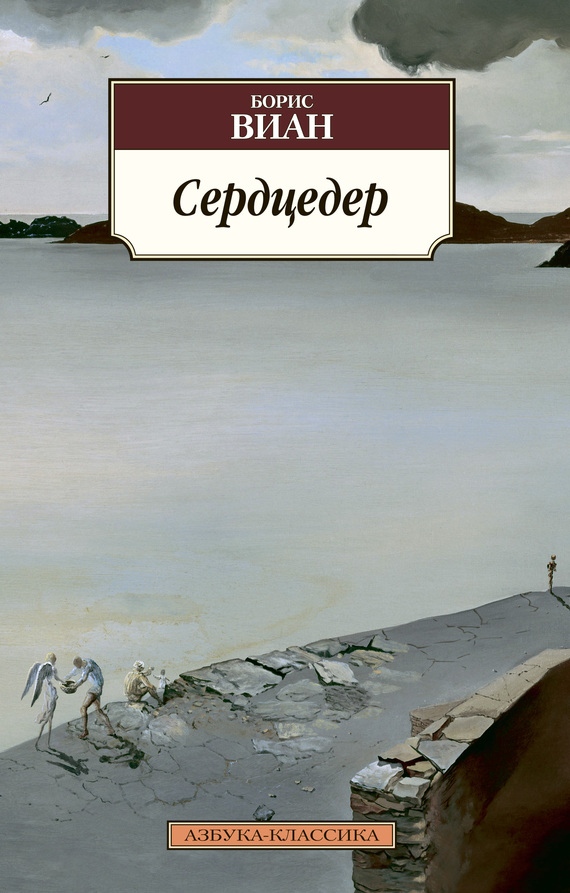
— А в ней такие мальчики, как Жан, — добавил Ситроэн.
— Да.
— Он плюет себе на ладони, — вспомнил Ситроэн и брезгливо поморщился.
— Он работает, — сказал Жакмор.
— Все, кто работают, плюют себе на ладони?
— А как же, — ответил Жакмор. — Это для того, чтобы волосы на руках не росли.
— А деревенские мальчики играют? — спросил Жоэль.
— Когда у них есть время на игры, они играют все вместе. Но чаще всего они работают, а если не работают, то их бьют.
— Мы все время играем вместе, — произнес Ситроэн.
— А еще там есть месса, — продолжал Жакмор.
— А что такое — месса? — поинтересовался Ноэль.
— Ну, это когда куча народу набивается в зал, такой большой зал, а потом выходит господин кюре в красивых расшитых одеждах, и он говорит с людьми, и они кидают ему в морду булыжники.
— Ты произносишь нехорошие слова, — заметил Жоэль.
— И это все? — спросил Ситроэн.
— Когда как, — продолжал рассказывать Жакмор. — Например, вчера кюре подготовил очень хороший спектакль. Он дрался с ризничим прямо на сцене, в боксерских перчатках; они лупили друг друга, а в конце начали драться все присутствующие.
— И ты тоже?
— Конечно.
— А что такое — сцена? — спросил Жоэль.
— Это часть пола, но поднятая повыше, чтобы всем было видно. А люди сидят на стульях вокруг.
Ситроэн задумался.
— А кроме драки в деревне чем-нибудь еще занимаются? — заинтересованно спросил он.
Жакмор неуверенно помялся.
— М-м… нет, в общем-то, — ответил он.
— Тогда, — заключил Ситроэн, — я считаю, что в саду лучше.
У Жакмора отпали все сомнения.
— Итак, — сказал он, — выходить на волю вам не хочется?
— Совершенно, — ответил Ситроэн. — Мы и так на воле. А потом, нам не до драк. Есть дела поважнее.
— А именно? — спросил Жакмор.
— Ну…
Ситроэн посмотрел на братьев.
— Камни искать, — промолвил он.
И они снова принялись копать, явно показывая Жакмору, что его присутствие их несколько стесняет. Жакмор встал.
— А вам не жалко, что деревьев больше нет? — спросил он перед тем, как уйти.
— О! Было красиво, но ничего, новые вырастут, — отозвался Ситроэн.
— Да, но где теперь лазать?
Ситроэн промолчал. Ноэль ответил за него.
— Лазать по деревьям, — заявил он, — в нашем возрасте уже неинтересно.
Смешавшись, Жакмор удалился. Если бы он обернулся назад, то увидел бы, как три маленькие фигурки взмыли в небо и спрятались за облаком, чтобы вволю посмеяться над его бестолковыми вопросами. Ох уж эти взрослые!
XXI
28 окткабря
Низко склонив голову и сгорбившись, Жакмор широко шагал по дороге. Борода остро топорщилась. От былой прозрачности не осталось и следа, и вследствие этого он чувствовал себя чрезмерно телесным. Психоанализ продвигался, сеансы учащались; еще чуть-чуть, и психосеансировать будет нечего. Предавался Жакмор суете, спрашивая себя: «Как закончить это все?» Что ни делай, что ни говори, как ни дави на Сляву, все равно снискать, в психическом смысле, больше ничего не удастся. Живым он ощущал лишь свой личный опыт, живыми — лишь свои собственные воспоминания. Слявины не усваивались. По крайней мере, не все.
«Подумаешь! Подумаешь! — твердил он себе. — Прекрасна и свежа природа, хотя година на закате. О, месяц окткабрь, который я предпочитаю погодам морских смываний, месяц окткабрь пахучий и спелый, с черными, жесткими листьями и колючей проволокой красных шипов; твои облака, что егозят и тонко провисают по краям неба, твое жнивье цвета старого меда и все остальное, и до чего же все это красиво, земля мягкая, бурая, теплая, чего беспокоиться? какая глупость, все утрамбуется очень быстро. Ах! Как томительна дорога!»
Чемодайки улетали в жаркие, небось, страны; психиатр закатил кверху глаза, хотя слышал ушами. Любопытна сия привычка брать аккорд: птицы впереди стаи держали тонику, в середине тянули септиму, остальные делили доминанту и субдоминанту, а некоторые пускались в более утонченные, то бишь еле слышные оттенки. Все начинали и заканчивали одновременно, хотя и с неравномерными интервалами.
"Повадки чемодаек, — думал Жакмор. — Кто их изучит? Кто сможет их описать? Нужна толстая книга, отпечатанная на мелованной бумаге, иллюстрированная цветными офортами, рожденными плодотворным резцом наших лучших анималистов. Чемодайки, чемодайки, кому познать ваши повадки? Но увы, кому довелось поймать хотя бы одну, цвета сажи, с красной грудкой, сверкающую лунным глазом и попискивающую, словно маленькая мышь? Вы, чемодайки, что умираете, как только на ваши воздушные перья опускается самая нежная рука, вы, что умираете по малейшему поводу, когда на вас смотрят слишком долго, когда смеются, вас разглядывая, когда к вам поворачиваются спиной, когда снимают шляпу, когда ночь заставляет себя ждать, когда вечер наступает слишком рано. Хрупкие и нежные чемодайки, чье сердце занимает все внутреннее пространство, заполненное у другой живности куда более прозаическими органами.
Может быть, другие видят чемодаек не так, как вижу их я, — говорил себе Жакмор, — а может быть, я вижу их не совсем так, как об этом рассказываю, но в любом случае несомненно одно: даже если чемодаек не видишь, нужно делать вид. Впрочем, они настолько заметны, что просто смешно их не замечать.
Я все хуже и хуже различаю дорогу, это факт. Потому что я знаю ее слишком хорошо. Однако мы считаем красивым именно то, что нам — утверждают все — привычно. Только не я, вроде бы. Или, может быть, потому, что эта привычность позволяет мне видеть вместо этого что-то другое? Например, чемодаек. Итак, сформулируем определение правильно: мы считаем красивым то, что нам достаточно безразлично, дабы иметь возможность видеть то, что мы хотим иметь вместо. Быть может, я зря употребил первое лицо во множественном числе. Употребим его в единственном: я считаю… (см. выше).
Хи, хи, — усмехнулся себе в лицо Жакмор, — вот он я, внезапно и причудливо глубокий и рафинированный. И кто бы поверил, а, кто бы поверил?! Ко всему прочему, это высочайшее определение свидетельствует о моем больше чем незаурядном здравомыслии. А что может быть поэтичнее, чем здравомыслие?"
Чемодайки сновали туда-сюда, меняя курс в самый неожиданный момент, выписывая в небе грациозные фигуры, среди которых — спасибо длительной стойкости изображения, отпечатанного на сетчатке глаза, — различался трифолиум Декарта, а также ряд других криволинейных кренделей, включая с любовью нарисованную дугу под названием «кардиоида».
Жакмор продолжал разглядывать чемодаек. Они залетали все выше и выше, поднимались широкими спиралями так далеко, что начинали терять различимые контуры. Теперь они были всего лишь капризно разбросанными черными точками, одушевленными единой общей жизнью. Каждый раз, когда они пролетали перед солнцем, ослепленный психиатр щурил глаза.
Вдруг со стороны моря он заметил трех птиц покрупнее; они летели с такой скоростью, что он не смог определить их породу. Прикрыв глаза рукой, он вглядывался в неясные очертания. Но летящие существа пропали. Через какое-то время они вынырнули из-за далекого скалистого выступа, описали уверенную кривую и взмыли вверх, поочередно и все с той же сумасшедшей скоростью. Они, должно быть, так быстро махали крыльями, что психиатр их совсем не различал — он видел три почти одинаково вытянутых веретенообразных силуэта.
Три птицы спикировали на стайку чемодаек. Жакмор остановился и снова посмотрел наверх. У него учащенно забилось сердце — волнение, которое он не мог никак объяснить. Может быть, страх за жизнь чемодаек; может быть, восхищение от легкости и грациозности трех существ; может быть, впечатление от согласованности, синхронности их движений.
Они летели вверх по несуществующему воздушному склону невероятной крутизны, и от этой скорости захватывало дух. «Ласточкам за ними не угнаться, — подумал Жакмор. — Это, наверное, довольно большие птицы». Приблизительность расстояния, с которого он заметил их в первый раз, не позволяла оценить, даже примерно, их размеры, но они выделялись на светлом фоне значительно четче, нежели почти достигшие к этому времени предела видимости чемодайки — булавочные головки на сером небесном бархате.
XXII
28 окткабря
«Дни укорачиваются, — говорила себе Клементина. — Дни укорачиваются, вот и зима на носу, а за ней и весна норовит. В это время года появляется бесчисленное множество опасностей, новых опасностей, о которых с ужасом думаешь еще летом, но которые конкретизируются, принимая четкие очертания, только сейчас, когда дни укорачиваются, листья опадают, а земля начинает пахнуть теплой мокрой псиной. Ноябраль, холодный месяц моросящий. Дождь может причинить целую кучу неприятностей, причем в разных местах одновременно. Он может размыть посевные угодья, затопить овражье, ввести в раж воронье. Внезапно может ударить мороз, прямо по Ситроэну, и он заболеет двусторонней бронхопневмонией, и вот он кашляет и харкает кровью, и обеспокоенная мать у его изголовья склоняется над осунувшимся личиком, которое внушает щемящую жалость, а остальные дети, без присмотра, пользуются удобным моментом и выходят без сапог, и простужаются в свою очередь, каждый подхватывает какую-нибудь болезнь, но уже другую, невозможно лечить всех троих сразу, начинается беготня из комнаты в комнату, ноги стираются до мозолей, нет, до костей, и на культяпках, на культяпках, из которых на холодный пол сочится кровь, продолжается метание от кровати к кровати с подносом и лекарствами; а микробы из трех изолированных комнат летают по всему дому и сплочаются, и из их тройственного соединения рождается гнуснейший гибридище, чудовищный микробище, различимый невооруженным глазом, который обладает редкой способностью провоцировать увеличение всей одряхлевшей цепочки страшно размякших лимфатических желез внутри суставов неподвижных детей, и вот разбухшие железы лопаются, и микробы расползаются по всему телу, да, вот, вот что может принести с собой дождь, серый дождь окткабря заодно с ветром ноябраля, ах! теперь ветер уже не сможет ломать на деревьях тяжелые ветви и швырять их на головы невинных детей. Но зато в отместку ветер раскачивает море резкими порывами, прилив, прибой, намокшую скалу окатывают волны, на гребень одной из них взлетает какой-нибудь микроорганизм, крохотная ракушка. Жоэль смотрит на волны, и (нет, ничего! лишь прикосновение) ракушка попадает ему в глаз. Как попала, так и выпала, он трет глаз рукавом, у него ничего нет, ничего кроме едва заметной царапинки; и с каждым днем ссадина растягивается. Другой глаз, также пораженный скрытой хворобой, тускло отражает далекое небо; Господи, Жоэль ослеп… а волны все окатывают скалу, они поднимаются все выше, и земля, подобно сахару, намокает от их пенистой накипи и, подобно сахару, тает, тает и растворяется и растекается липким сиропом, растаявшая земля затягивает Ситроэна и Ноэля, о Господи, и их легкие детские тела несколько секунд плывут на поверхности почерневшего потока, а потом погружаются в него, и земля — ах! — земля забивает им рты; кричите, кричите же, чтобы кто-нибудь услышал, чтобы кто-нибудь пришел на помощь!»
Весь дом сотрясался от воплей Клементины. Но никто не отзывался; она слетела по лестнице вниз, вылетела в сад, рыдая и истошно призывая детей. Безмолвствовал серый бледный туман, и что-то шептали далекие волны. Теряя рассудок, она добежала до скалы. Потом подумала, что они спят, и повернула к дому, но на полпути передумала и свернула к колодцу, чтобы проверить наличие тяжелой дубовой крышки. Шатаясь, задыхаясь, она добежала до дома, поднялась по лестнице, обошла все комнаты, чердак, подвал. Вышла в сад и, интуитивно угадав направление, бросилась к ограде. Калитка была открыта. Она выскочила на дорогу. Метрах в пятидесяти от дома она увидела фигуру Жакмора, возвращающегося из деревни. Он шел неторопливо, запрокинув голову, полностью отдавшись созерцанию птиц.
Она схватила его за лацканы пиджака:
— Где они? Где они?
Жакмор вздрогнул от неожиданности.
— Кто? — спросил он, стараясь переключиться на Клементину.
От сверкающих взоров у психиатра рябило в глазах.
— Дети! Калитка открыта! Кто ее открыл? Они ушли!
— Да нет же, они никуда не уходили, — успокоил ее Жакмор. — Калитку открыл я, когда выходил. Если бы они ушли, я бы их увидел.
— Это вы! — задыхаясь, крикнула Клементина. — Несчастные дети! Из-за вас они потерялись!
— Да сдалась им эта калитка?! — сказал Жакмор. — Спросите у них сами, им совершенно не хочется выходить из сада.
— Это они вам так сказали! Будьте уверены, мои дети достаточно умны для того, чтобы обвести вас вокруг пальца! Давайте! Быстрее!
— Вы везде посмотрели? — спросил Жакмор, ухватив ее за рукав.
Впечатление, которое производила на него Клементина, усиливалось с каждой минутой.
— Везде! — всхлипнула Клементина. — Даже в колодце.
— Ну и дела! — протянул Жакмор.
Машинально он в последний раз поднял глаза. Три черные птицы перестали играть с чемодайками и начали резко снижаться. Ему вдруг пришла в голову мысль.
Но он тут же ее выпроводил — глупые фантазии, безумные идеи; где же они могут быть?
И все-таки он продолжал следить за птицами; еще секунда, и они скрылись за скалой.
— Вы везде посмотрели? — переспросил Жакмор.
Он бросился к дому. Клементина закрыла калитку и, задыхаясь, побежала за ним. Ворвавшись в дом, они увидели спускающегося по лестнице Ситроэна. Клементина накинулась на него как дикая кошка. Жакмор, слегка расчувствовавшись, незаметно наблюдал за ней. Клементина что-то бессвязно лепетала, спрашивала, осыпала ребенка поцелуями.
— Я был на чердаке вместе с Жоэлем и Ноэлем, — объяснил мальчик, вырвавшись из ее объятий. — Мы разглядывали старые книги.
На лестнице появились Ноэль и Жоэль. Их щеки раскраснелись — кровь с молоком, — от них веяло чем-то свежим, живым. Запах свободы? Ноэль засунул поглубже выглядывающий из кармана кусок облака; Жоэль улыбнулся, заметив оплошность брата.
До самого вечера она не отходила от них ни на шаг, балуя, лаская, обливая слезами, как будто они вырвались из пасти кровожадного людоеда. Она уложила их спать, поправила одеяла и вышла только тогда, когда они заснули. После этого она поднялась на третий этаж и постучалась к Жакмору. Она говорила минут пятнадцать. Он отзывчиво поддакивал. Когда она вышла из его комнаты, завел будильник. Завтра, на заре, он пойдет в деревню за рабочими.
XXIII
67 новраля
— Хочешь посмотреть? — предложил Ситроэн. Он первый отреагировал на шум, который доносился со стороны ограды.
— Я не могу, — ответил Жоэль. — Мама будет недовольна и опять расплачется.
— Да ничего страшного, — убеждал брата Ситроэн.
— Ничего, как же! Когда она плачет, — сказал Жоэль, — она начинает целовать и прижимается мокрым лицом. Это так противно. Душно.
— А мне все равно, — сообщил Ноэль.
— Ну что она может сделать? — не отступался Сит-роэн.
— Я не хочу ее расстраивать, — ответил Жоэль.
— Это ее совершенно не расстраивает, — сказал Ситроэн, — ей нравится плакать, а потом обнимать нас и целовать.
Обнявшись, Ноэль и Ситроэн пошли в сторону ограды. Жоэль посмотрел им вслед. Клементина запрещала приближаться к рабочим во время работы. Да. Но обычно в этот час она суетится на кухне, и звон кастрюль и сковородок мешает ей прислушиваться ко всему остальному; и потом, что в этом плохого — сходить посмотреть на рабочих, он даже разговаривать с ними не будет. А Ноэль и Ситроэн, что они задумали?
Вслед за братьями Жоэль решил пробежаться — ради разнообразия — по земле; он рванул так быстро, что на повороте аллеи оступился на щебенке и чуть не упал. Он удержался и снова побежал. Хохоча во все горло. Ну вот, он уже разучился держаться на ногах.
Ситроэн и Ноэль стояли рядышком и удивленно разводили руками, а там, где, в метре от них, должна была находиться ограда сада и высокая золотая решетка, зияла пустота.
— Где она? — спросил Ноэль. — Где стена?
— Не знаю, — прошептал Ситроэн.
Ничего. Абсолютная пустота. Полное отсутствие, внезапное и резкое, как будто отсеченное ударом бритвы. Небо начиналось намного выше. Заинтригованный Жоэль подошел к Ноэлю.
— Что случилось? — спросил он. — Рабочие унесли старую стену?
— Наверняка, — сказал Ноэль.
— Ничего не осталось, — промолвил Жоэль.
— Что же это они сделали? — удивился Ситроэн. — Что же это такое? Не цветное. Не белое. Не черное. Из чего это сделано?
Он сделал шаг вперед.
— Не трогай, — удержал его Ноэль. — Не трогай, Ситроэн.
Ситроэн вытянул вперед руку, но все-таки остановился в нерешительности на краю пустоты.
— Я боюсь, — признался он.
— Там, где раньше была решетка, ничего нет, — сказал Жоэль. — Раньше виднелась дорога и уголочек поля, помнишь? Теперь — ничего.
— Как будто смотришь с закрытыми глазами, — сказал Ситроэн. — А глаза открыты, но кроме сада больше ничего не видишь.
— Как если бы сад был нашими глазами, а это нашими веками, — сказал Ноэль. — Это ни черное и ни белое, ни цветное, никакое. Ничто. Это ничтовая стена.
— Да, — произнес Ситроэн, — так оно и есть. Она попросила рабочих построить ничтовую стену, чтобы мы не вздумали выйти из сада. Получается, все, что вне сада, — ничто, и нам туда дороги нету.
— Но неужели ничего другого нет? — поразился Ноэль. — Только небо?
— Нам и этого достаточно, — изрек Ситроэн.
— Я не думал, что они уже закончили, — сказал Жоэль. — Было слышно, как они стучали молотками и разговаривали. Я думал, что мы увидим, как они работают. Мне все это не нравится. Я пойду к маме.
— Может быть, они не успели закончить всю стену? — предположил Ноэль.
— Пойдем посмотрим, — предложил Ситроэн.
Бросив брата, они полетели над тропой, которая вилась вдоль стены, еще когда стена существовала, над тропой, ставшей отныне границей их нового урезанного мирка. Летели они очень быстро, почти цепляясь за землю, ловко увиливая от низких ветвей.
Когда они долетели до площадки напротив скалы, Ситроэн резко затормозил. Они очутились прямо перед куском старой стены, с ее камнями и лианами, с нахлобученной на вершину зеленой растительной короной, осыпанной красочными насекомыми.
— Стена! — вырвалось у Ситроэна.
— О! — крикнул Ноэль. — Смотри! Верхушки уже не видно!
Стена медленно исчезала, будто уходила под воздух.
— Они разбирают ее сверху, — сказал Ситроэн. — Остался последний кусок. Мы ее больше никогда не увидим.
— А можно еще обойти с другой стороны, — сказал Ноэль.
— Ну, — фыркнул Ситроэн, — чего там смотреть? Все равно нам с птицами теперь веселее.
Ноэль замолчал. Он был полностью согласен; добавить было нечего. Теперь в пустоту погружалась нижняя часть стены. Они услышали команды бригадира; застучали молотки, затем воцарилась ватная тишина.
Раздались торопливые шаги. Ситроэн обернулся. Клементина. За ней Жоэль.
— Ситроэн, Ноэль, пойдемте, мои маленькие. Мамочка спекла на полдник очень вкусный пирог. Быстрее! Быстрее! Кто поцелует меня первым, тот получит самый большой кусок пирога!
Ситроэн не двигался. Ноэль подмигнул ему и бросился в объятия Клементины с выражением притворного ужаса. Она крепко обняла его.
— Что случилось с моим ребеночком? Он такой испуганный. Что его беспокоит?
— Мне страшно, — прошептал Ноэль. — Без стены. Ситроэн чуть не расхохотался. Ну и юморист!
Жоэль, пережевывая конфету, принялся успокаивать брата.
— Ничего страшного, — сказал он. — Вот я совсем не боюсь. Новая стена красивее старой, и теперь нам будет еще лучше в нашем саду.
— Мое сокровище! — растрогалась Клементина, крепко обнимая Ноэля. — Неужели ты подумал, что мамочка способна сделать что-нибудь такое, что может тебя напугать? Будьте паиньками и идите полдничать.
Она улыбнулась Ситроэну. Тот увидел, как ее губы задрожали, и покачал головой. Она расплакалась; он посмотрел на нее с любопытством. Затем, пожав плечами, все-таки подошел. Она судорожно притянула его к себе.
— Плохой! — сказал Жоэль. — Ты опять довел маму до слез.
И толкнул его локтем.
— Нет, нет, — спохватилась Клементина. Ее голос уже успел промокнуть от слез.
— Он не плохой. Вы все паиньки, вы все мои маленькие цыплятки. Пойдемте же, посмотрим на красивый пирог. Давайте!
Жоэль побежал вперед, за ним Ноэль. Клементина взяла Ситроэна за руку и повела к дому. Он плелся, бросая на мать колючие взгляды; ему были неприятны цепкие пальцы, сжимающие его запястье; его это стесняло. Ему были неприятны и ее слезы. Что-то вроде жалости удерживало его рядом с матерью, но эта жалость вызывала стыд, смущение, похожее на то, которое он испытал, войдя однажды без стука в комнату служанки и увидев ее голой перед тазом с пучком волос внизу живота и измазанным красным полотенцем в руках.
XXIV
79 декарта
"Деревьев больше нет, — думала Клементина. — Деревьев больше нет, новая ограда — отличного качества. Два пункта выполнены. Или даже подпункта, маленьких, конечно, но снимающих с повестки дня возможные последствия. Отныне значительное число несчастных случаев разного рода перейдет в категорию нулевой вероятности. Детки мои дорогие! Какие они большие, красивые, цветущие. А все кипяченая вода и тысяча других мер предосторожности! Как они хорошо выглядят. А с чего им выглядеть плохо, если все плохое я беру на себя? Но нельзя никогда терять бдительность, нужно продолжать в том же духе. Продолжать. Остается еще столько опасностей! Устраненная опасность высоты и пространства уступила место опасности гладкой поверхности. Земля. Гниение, микробы, грязь — все идет от земли. Нейтрализовать землю. Соединить участки стены таким же безопасным полом. Эти чудесные стены, эти незримые стены, стены, о которые невозможно удариться, но которые идеально ограничивают пространство. Которые ограничивают начисто. Если сделать и землю такой же; земля, сводящая на нет саму себя! Им останется лишь смотреть на небо… а небо так незначительно. Разумеется, несчастья могут свалиться и сверху. Но, не умаляя большую опасность неба, можно допустить — я не считаю себя плохой матерью, допуская, о! чисто теоретически — возможность отвести небу последнее по значительности место в списке опасностей. Ох уж эта земля.
Покрыть кафелем землю в саду? Керамическими плитками. Может быть, белыми? А солнечные блики, бьющие по их нежным глазкам? Раскаленное солнце; причем ни с того ни с сего перед ним проплывает облако; облако в форме линзы — что-то вроде лупы; сфокусированный луч попадает прямо в сад; белые плитки отражают свет с неожиданной силой, светящийся поток обрушивается на детей — их жалкие ручонки пытаются его остановить, защитить глаза, — и вот, ослепленные безжалостными частицами, они теряют равновесие — ничего не видят, падают ниц… Господи, сделай так, чтобы пошел дождь… Я лучше выложу пол черной плиткой. Господи, черные плитки — но плитки такие твердые, если они вдруг упадут — поскользнутся на мокром, после дождя, полу, оступятся — шлеп, и Ноэль растянулся на полу. К несчастью, никто не видел, как он упал; незаметная трещинка притаилась под его воздушными локонами — братья относятся к нему как обычно, не учитывая его состояние, — в один прекрасный день он начинает бредить — его осматривают — доктор ничего не понимает, и внезапно его череп раскалывается, трещина увеличивается, и верхняя часть черепа слетает как крышка — и изнутри вылезает мохнатое чудовище. Нет! Нет! Не может быть, Ноэль, только не падай! Осторожно!.. Где он?.. Они спят — здесь, рядом со мной. Спят в своих кроватках. Я слышу их сопение… лишь бы их не разбудить, тихо! Осторожно! Но это никогда бы не случилось, если бы пол был нежным и мягким, как резиновый, — да, вот что им нужно, резиновый пол, очень хорошо, весь сад, покрытый резиновым ковром — а если огонь? — резина горит — плавится, в ней вязнут их ноги — а дым забивает им легкие — все, я больше не могу, это невозможно — я зря стараюсь, лучше все равно не придумать — пол, подобный стенам, совсем как стена, пол из ничего, уничтожить землю — позвать рабочих, вернуть рабочих, чтобы они растянули во всю длину-ширину невидимый неосязаемый ковер — дети останутся дома, пока они работают, и когда все будет сделано, опасности больше не будет, — хотя это небо, хорошо, что я о нем вспомнила — но я ведь уже решила, что сначала нужно обезвредить землю…"
Она встала — Жакмор не откажется сходить за рабочими еще раз — жалко, можно было сделать все сразу — но невозможно обо всем думать одновременно — нужно искать — искать постоянно — в наказание за то, что не смогла все найти раз и навсегда, и упорствовать, беспрестанно совершенствоваться — нужно построить им совершенный мир, мир чистый, приятный, безопасный, как внутренность белого яйца, утопающего в пуховой подушке.
XXV
80 декарта
Распорядившись насчет работ, Жакмор, пользуясь свободным временем, выдававшимся в это утро, завернул в церковь покалякать с кюре, чьи воззрения ему были довольно симпатичны. Он проник в эллипсоидное помещение, в котором царил изысканный полумрак, с наслаждением старого кутилы вдохнул культовый аромат и подошел к приоткрытой двери в ризницу. Возвестил о себе троекратным стуком.
— Войдите, — пригласил голос кюре.
Жакмор толкнул дверь. Посреди захламленной комнатушки кюре в трусах прыгал через скакалку. Развалившийся в кресле со стаканом сивухи в руке ризничий молча восторгался. Кюре показывал неплохие результаты, хотя его хромота несколько умаляла элегантность выполняемого упражнения.
— Здравствуйте, — сказал ризничий.
— Мое почтение, господин кюре, — произнес Жакмор. — Я проходил мимо и решил заскочить, чтобы вас поприветствовать.
— Можете считать, что поприветствовали, — заявил ризничий. — Чего-нибудь крепенького в кофеек?
— Извольте оставить ваши деревенские замашки, — одернул его кюре. — В доме Господа подобает изъясняться изысканно.
— Но, мой кюре, — возразил ризничий, — ризница, в некотором смысле, уборная в доме Господа. Здесь можно немножко расслабиться.
— Дьявольское отродье, — изрек кюре, бросая на него грозный взгляд. — И зачем я держу вас подле себя?
— Признайтесь, мой кюре, что я делаю вам хорошую рекламу, — ответил ризничий. — Да и для ваших спектаклей я просто незаменим.
— Кстати, — вмешался Жакмор, — что вы думаете устроить в следующий раз?
Кюре перестал прыгать, аккуратно сложил скакалку и засунул ее в шкаф. Вытер дряблую грудь слегка посеревшим полотенцем и объявил:
— Это будет грандиозно.
Он почесал под мышкой, поковырял в пупке и мотанул головой.
— Роскошь моего представления затмит все светские развлечения, а особенно те, на которых срамные отродья обнажаются якобы ради соответствующего эстетического оформления. К тому же гвоздем программы будет демонстрация хитроумного средства приближения к Господу. Вот что я придумал: в гуще невообразимого развертывания украшений и костюмов детский церковный хор потащит к Бестиановому пустырю золотой монгольфьер, обтянутый тысячью серебряных нитей. Под звуки фанфар я займу место в гондоле и, очутившись на подходящей высоте, выкину за борт этого негодяя ризничего. И Бог улыбнется при виде незабываемого блеска этого праздника и триумфа Его роскошного Слова.
— Как же так?! — опешил ризничий. — Вы меня, любезный, об этом не предупреждали; я же сверну себе шею!
— Дьявольское отродье! — проворчал кюре. — А твои мышиные крылья?!
— Я уже столько времени не летал, — заныл ризничий, — а каждый раз, когда я пытаюсь взлететь, столяр дразнит меня курицей и палит в задницу солью.
— Пусть тебе будет хуже, — сказал кюре, — и ты свернешь себе шею.
— Хуже всего будет вам, — пробормотал ризничий.
— Без тебя? Да для меня это будет настоящим избавлением!
— Гм, — подал голос Жакмор, — одно замечание, если позволите? Мне кажется, что вы представляете собой два взаимосвязанных элемента; вы друг друга уравновешиваете. Без дьявола ваша религия выглядела бы безосновательной.
— Вот это верно подмечено, — сказал ризничий. — Признайтесь-ка лучше, господин кюре, что я, беснуясь, вас обосновываю.
— Изыди, гнида! — рассердился кюре. — Ты грязен и зловонен.
Ризничий слышал и не такое.
— А особенно непорядочно с вашей стороны, — заметил он, — то, что я всегда играю негодяев и, кстати, никогда не протестую, а вы меня постоянно поносите. Не меняться ли нам время от времени ролями?
— А когда я получаю булыжником в рожу? — возразил кюре. — Разве не ты науськиваешь зрителей?
— Если бы это зависело от меня, вы бы получали в сто раз больше, — огрызнулся ризничий.
— Ступай, я не хочу тебя видеть! — оборвал дискуссию кюре. — Но не вздумай уклоняться от своих обязанностей. Богу нужны цветы. Богу нужен фимиам, Ему нужны пышные почести и подношения, золото мирра, и волшебные видения, и отроки прекрасные как кентавры, и сверкающие бриллианты, солнца, авроры, а ты сидишь здесь, уродливый и жалкий, как шелудивый осел, который пердит в гостиной… хватит об этом, ты меня выводишь из себя. Я решил тебя низвергнуть, и это не подлежит обсуждению.
— А я не упаду, — отчеканил ризничий. И он выплюнул огненную струю, которая опалила волосы на ноге кюре. Тот кощунственно выругался.
— Господа, — призвал их Жакмор, — прошу вас.
— Кстати, — манерно произнес кюре, — чем обязан удовольствию вас лицезреть?
— Я проходил мимо, — объяснил Жакмор, — решил заскочить, чтобы вас поприветствовать.
Ризничий встал.
— Я вас оставляю, мой кюре, — сказал он. — Я вас оставляю для беседы с господином по имени бес его знает.
— До свидания, — сказал Жакмор.
Кюре соскабливал с ноги опаленные волосы.
— Как вы? — спросил он.
— Хорошо, — ответил Жакмор. — Я пришел в деревню за рабочими. В доме нужно еще кое-что сделать.
— Опять хозяйка чудит? — спросил кюре.
— Опять, — ответил Жакмор. — Одна мысль о том, что с ними может что-то случиться, сводит ее с ума.
— Точно так же ее сводила бы с ума мысль о том, что с ними ничего не может случиться, — заметил кюре.
— Справедливое замечание, — признал Жакмор. — Вот почему вначале я считал, что она преувеличивает опасность. Но сейчас, должен вам признаться, это неистовое стремление защитить внушает мне определенное уважение.
— Какая восхитительная любовь! — воскликнул кюре. — Какая роскошь в мерах предосторожности! А дети хотя бы отдают себе отчет в том, что она для них делает?
Жакмор не знал, что и ответить. Эта сторона вопроса от него как-то ускользнула.
— Даже не знаю, — признался он.
— Эта женщина — святая, — заявил кюре. — Хотя и никогда не бывает в церкви. Как вы можете это объяснить?
— Это необъяснимо, — сказал Жакмор. — Да и, согласитесь, здесь никакой связи нет.
— Соглашаюсь, — ответил кюре, — соглашаюсь.
Они замолчали.
— Ну, ладно, — сказал Жакмор, — я, пожалуй, пойду.
— Ну, ладно, — сказал кюре, — вы, пожалуй, пойдете.
— Ну, так я пошел, — сказал Жакмор.
Он попрощался и, пожалуй, пошел.
XXVI
12 мартюля
Небо выкладывалось плитками желтых, сомнительного вида облаков. Было холодно. Вдали море запевало в неприятной тональности. Оглохший сад купался в предгрозовом сиянии. В результате последних работ земли больше не было; из пустоты сиротливо торчали редкие клумбы и несколько кустов, чудом избежавших выкорчевывания. Целая и невредимая аллея из утрамбованного гравия делила на две части невидимость сада.
Тучи сходились пугливо; при каждом соитии раздавалось гудение, и одновременно с ним вспыхивали рыжие всполохи. Небо словно сгущалось над скалой. Когда оно превратилось в один тяжелый и грязный ковер, все стихло. А вслед за этой тишиной поднялся ветер — сначала слабый, легкий, прыгающий по карнизам и трубам, затем более сильный, тяжелый, срывающий резкие дзинь-дзинь с каменных выступов, склоняющий беспокойные головки цветов, толкающий впереди себя первые водяные струи. И сразу же небо треснуло, как фаянсовая купель, и начался град; злые градины посыпались на черепичную крышу, разбрызгивая мелкие хрустальные осколки; дом постепенно укутался в клубину густого пара — градины яростно обрушились на аллею, высекая при каждом ударе о гравий быстро угасающие искры. Взволнованное море забурлило, закипело и убежало — как почерневшее молоко.
Преодолев первый испуг, Клементина пошла искать детей. К счастью, они были в своей комнате; она привела и посадила их рядом с собой в большой гостиной на первом этаже. За окном все почернело, и темный туман, наплывающий на стекла, неровно отражал фосфоресцирующий свет лампы.
«А окажись они в саду, — думала она, — град бы их тут же исполосовал, побил своими черными алмазными горошинами, удушил, коварно заполнив их легкие сухой и жесткой пылью. Что могло бы их надежно защитить? Навес? Пристроить навес над садом? К чему, когда крыша дома прочнее любого навеса? Но сам дом, не может ли и он разрушиться — а если град будет идти часами — днями и неделями — под тяжестью мертвой пыли, оседающей на крыше, не обвалится ли потолочная балка? Нужно построить неуязвимое укрытие из стали, непробиваемое убежище, неприступный бункер — нужно держать их в крепком сейфе, как хранят бесценные сокровища, им необходимы сверхпрочные ларцы, твердые и несокрушимые, как кости времени, нужно построить здесь и немедленно — завтра».
Она посмотрела на тройняшек. Не обращая внимания на грозу, они продолжали мирно играть.
«Где Жакмор? Я хочу обсудить с ним оптимальное решение».
Она позвала служанку.
— Где Жакмор?
— Я думаю, в своей комнате, — ответила Белянка.