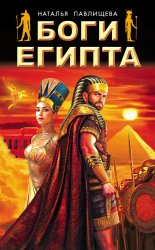Закон о детях Макьюэн Иэн

Ian McEwan
THE CHILDREN ACT
Copyright © 2014 by Ian McEwan
© Голышев В. П., перевод на русский, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
1
Лондон. Летняя судебная сессия уже неделю как началась. Безжалостная июньская погода. Фиона Мей, судья Высокого суда, воскресным вечером лежит дома в шезлонге и смотрит поверх своих ступней в другой конец комнаты, на книжные полки в нише рядом с камином, сбоку высокое окно и маленькая литография Ренуара с купальщицей, куплена тридцать лет назад за пятьдесят фунтов. Возможно, фальшивая. Под ней в центре круглого орехового стола синяя ваза. Когда появилась, не вспомнить. И когда в ней цветы стояли последний раз. Камин не разжигали год. Почернелые дождевые капли изредка падают в топку, стучат по скомканной желтой газете. Широкие лощеные половицы застелены бухарским ковром. На краю поля зрения кабинетный рояль, на глубоком черном лаке крышки семейные фотографии в серебряных рамках. На полу рядом с шезлонгом, под рукой – проект судебного решения.
Фиона лежала в шезлонге, с желанием, чтобы все это провалилось в тартарары. В руке у нее был второй стакан разбавленного виски. Она еще не отошла после тяжелого объяснения с мужем – внутри затаилась дрожь. Она редко пила, но «Талискер» с водой из-под крана успокаивал, и она подумывала, не пойти ли ей к буфету за третьим стаканом. Поменьше виски, побольше воды, потому что завтра в суд, а сейчас она была дежурным судьей, и по срочному делу к ней могли обратиться в любое время, хотя она еще не оправилась. Он сделал возмутительное заявление, повесил на нее невыносимый груз. Впервые за много лет она кричала, и слабое эхо еще звенело у нее в ушах. «Идиот! Ты идиот, твою мать!» Она не ругалась вслух со времен беззаботной ранней юности, когда наездами бывала в Ньюкасле. Правда, в мыслях крепкое словцо возникало иной раз, когда слышала корыстные показания или ссылку на не относящуюся к делу статью закона.
А потом, после недолгой паузы, задыхаясь от негодования, сказала громко и не меньше, чем два раза: «Как ты смеешь!»
Это даже не было вопросом, но он спокойно ответил: «Мне это нужно. Мне пятьдесят девять лет. Это мой последний заход. Доказательств загробной жизни я пока не слышал».
Претенциозное замечание, и она не нашлась с ответом. Просто смотрела на него – возможно, раскрыв рот. Теперь, в шезлонге, задний ум сработал, реплика нашлась. «Пятьдесят девять? Джек, тебе шестьдесят! Это жалко, это пошло».
На самом деле ей удалось выдавить: «Это просто смехотворно».
«Фиона, когда мы последний раз спали?»
Когда? Он и раньше спрашивал об этом, иногда жалобно, а иногда ворчливо. Но недавнее прошлое, заполненное делами, бывает трудно разобрать в памяти. Отделение по делам семьи было загружено странными конфликтами, особыми ходатайствами со ссылками на новые факты, полуправдами об интимных делах, экзотическими обвинениями. Как и во всех других отраслях судопроизводства, тонкие детали и обстоятельства надо было схватывать быстро. На прошлой неделе она рассматривала спор разводящихся родителей-евреев, в разной степени ортодоксальных, по поводу образования их дочерей. Проект решения лежал рядом с ней на полу. А завтра снова предстанет перед ней отчаявшаяся англичанка, худая, бледная, образованная и, несмотря на заверения суда, убежденная в том, что дочь у нее отнимет отец, марокканский бизнесмен, правоверный мусульманин, и увезет в Рабат, где он намерен обосноваться и начать новую жизнь. В остальном – обычные тяжбы о местопребывании детей, о домах, пенсиях, заработках, наследствах. В Высокий суд обращаются обеспеченные люди. Богатство чаще всего не приносит продолжительного счастья. Родители быстро осваиваются с новым лексиконом и формальностями законоотправления и сами изумляются, что ведут ожесточенную борьбу с тем, кого они когда-то любили. А за кулисами мальчики и девочки, которых в документах называют по именам, испуганные маленькие Бены и Сары, прижавшись друг к другу, ждут, когда боги над ними доведут сражение до победного конца – в Суде по семейным делам, в Высоком суде и, наконец, в Апелляционном.
У всех этих горестей было много общего – люди похожи, – но она не переставала дивиться. Она верила, что вносит разумность в безнадежные ситуации. И в целом верила в нормы семейного права. В оптимистические минуты считала важной вехой в развитии цивилизации законодательный акт, поставивший нужды ребенка выше родительских. Дни ее были заполнены, а вечерами в последнее время – то разные ужины, иногда в Миддл-темпле[1], по случаю выхода коллеги на пенсию, то концерт в Кингс-Плейсе (Шуберт, Скрябин) – и такси, метро, забрать вещи из чистки, составить письмо насчет спецшколы для сына уборщицы, аутиста, и, наконец, сон. А когда был секс? Теперь уже и не вспомнить.
– Я не веду записей.
Муж развел руками: ваша честь, я закончил…
Он прошел в другой конец комнаты и налил себе виски – теперь он пил «Талискер». Последнее время он как будто стал выше, двигался живее. Пока он стоял спиной к ней, ее охватило ледяное предчувствие отверженности, унижения – ее оставят ради молодой женщины, покинут, ненужную и одинокую. Подумала: может, просто согласиться на все, чего он хочет, – но отбросила эту мысль.
Он вернулся к ней со своим стаканом. Белого вина не предложил, как обычно делал в это время.
– Чего ты хочешь, Джек?
– Я хочу завести роман.
– Ты хочешь развода?
– Нет. Хочу, чтобы все оставалось по-прежнему. Без обмана.
– Не понимаю.
– Понимаешь. Не ты ли однажды сказала, что в долгом браке пары приходят к отношениям брата и сестры? Мы пришли, Фиона. Я стал тебе братом. Это уютно и мило, и я люблю тебя, но, прежде чем умру, хочу большого страстного романа.
Она охнула от изумления, а он, услышав в этом насмешку, грубо сказал:
– Восторг, когда почти теряешь сознание от остроты происходящего? Помнишь, как это бывает? Хочу испытать напоследок, даже если ты не хочешь. Или, может быть, хочешь.
Она смотрела на него, не веря своим ушам.
– Вот так.
Тут к ней вернулся голос, и она сказала ему, какой он идиот. У нее были твердые представления о приличиях. И оттого, что он никогда ей не изменял, насколько она знала, его предложение прозвучало еще возмутительнее. А если изменял когда-то, то изумительно ловко. Она уже знала имя женщины. Мелани. Похоже на название смертельного рака кожи. Она понимала, что ее может раздавить этот его роман с двадцативосьмилетней девицей-статистиком.
– Если ты это сделаешь, между нами все кончено. Все очень просто.
– Это угроза?
– Торжественное обещание.
Но она уже взяла себя в руки. И в самом деле просто. Свободный брак следовало предлагать до свадьбы, а не тридцать пять лет спустя. Рискнуть всем, что у них было, ради краткого чувственного увлечения! Когда она пыталась вообразить нечто подобное для себя – «последний взбрык», а у нее первый, – мысли приходили только о раздрае, тайных свиданиях, разочаровании, телефонных звонках не вовремя. Липкие занятия с новым, непривычным партнером в постели, новоизобретенные нежности – все фальшь. А в конце – необходимость развязаться и тяжкий труд быть искренней и откровенной. Все уже будет не то после возвращения. Нет, она предпочитает несовершенное существование – то, что сейчас.
Но в шезлонге ей открылся подлинный размер обиды – его готовность уплатить за удовольствие ее страданием. Жестоко. Ей случалось видеть, как он идет напролом, не учитывая других, чаще – с благой целью. А это было что-то новое. Что изменилось? Наливая себе виски, он стоял с прямой спиной, расставив ноги; пальцы свободной руки шевелились в такт мелодии, звучавшей у него в голове, – может быть, песни, слышанной вдвоем, но вдвоем не с ней. Причиняет ей боль, и его это не волнует – вот что новое. Он всегда был добрым, верным и добрым, а доброта, как подтверждалось ежедневно в Отделении по делам семьи, была существенным человеческим качеством. Фиона обладала правом отобрать ребенка у недоброго родителя – и иногда отбирала. Но себя отнять от недоброго мужа? Когда она слаба и несчастна? Где судья, ее заступник?
Ей не нравилась в людях жалость к себе, и она себе этого не позволит. Она в третий раз налила себе виски. Налила символически, добавила воды побольше и опять легла. Да, такой разговор стоило бы записать. Важно запомнить его, точно оценить размер обиды. Когда она пригрозила разводом, если он настоит на своем, он только повторил свои слова – что он ее любит, всегда будет любить, что нет другой жизни, кроме этой, что его неудовлетворенные сексуальные потребности делают его несчастным и теперь это последний шанс для него, он хочет им воспользоваться, не скрывая от нее, и, надеется, с ее согласия. Он с ней откровенен. Он мог бы сделать это «за ее спиной». За ее худой, непреклонной спиной.
– О, это порядочно с твоей стороны, Джек, – тихо сказала она.
– Ну в самом деле… – он не закончил.
Она подумала, что сейчас он скажет: у нас уже началось, – и не в силах была бы это услышать. Да и нужды в этом не было. Все было ясно. Хорошенькая женщина-статистик рассчитывает на то, что вряд ли муж вернется к озлобленной жене. Фиона мысленно видела все это: солнечное утро, незнакомая ванная комната, Джек, еще довольно мускулистый, нетерпеливо, как бывало, стягивает через голову полотняную рубашку, бросает в направлении корзины с грязным бельем, и рубашка, зацепившись только рукавом, сползает на пол. Конец. Это произойдет – с ее согласия или без.
– Ответ: нет. – Она произнесла это с повышением голоса, как строгая учительница. И добавила: – Какого еще ответа ты ожидал?
Она ощущала бессилие и хотела закончить разговор. К завтрашнему утру надо было отредактировать постановление суда для публикации в «Фэмили лоу рипортс». Решение о судьбе двух еврейских школьниц она уже вынесла в суде, но текст надо было пригладить, отдав должное благочестию семьи, чтобы не было повода для апелляции. Летний дождь стучал в окна; издали, из-за Грейз-инн-сквер, доносилось шипение шин по мокрому асфальту. Он уйдет от нее, а мир будет жить, как жил.
Лицо у него было жестким, он пожал плечами и пошел из комнаты. Она смотрела на его спину все с тем же холодным ужасом. Она бы окликнула его, но боялась, что он не обернется. И что она могла сказать? Обними меня, поцелуй, и будь по-твоему? Она услышала его шаги в коридоре, громко закрылась дверь их спальни, и в квартире повисла тишина; тишина, только дождь, не прекращавшийся месяц.
* * *
Сначала факты. Оба супруга – из ортодоксальной общины харедим на севере Лондона. Бернстайнов поженили родители, возражений не предполагалось. Поженили, но не насильно, с редким единодушием утверждали супруги. Прошло тринадцать лет, и сохранить брак стало невозможно – к такому выводу пришли и посредник, и социальный работник, и судья. Супруги расстались. Не без труда разделили обязанности по уходу за детьми. Рэчел и Нора жили с матерью и постоянно общались с отцом. Брак начал расстраиваться уже в первые годы. После сложных вторых родов и радикальной операции мать больше не могла зачать. Отец же мечтал о многодетной семье, и так начался болезненный распад. После периода депрессии (длительного, по утверждению отца, короткого, по словам матери) она приступила к занятиям в Открытом университете, получила хорошую квалификацию и, когда младшая дочь пошла в школу, стала учительницей младших классов. Отца и многих родственников это не устраивало. У харедим, сохранявших вековые традиции, женщинам полагалось растить детей – чем больше, тем лучше – и вести домашнее хозяйство. Университетский диплом и служба были чем-то весьма необычным. Это объяснил в суде пожилой и уважаемый член общины, которого отец пригласил свидетелем.
Мужчины тоже не получали обычного образования. Лет с пятнадцати им полагалось большую часть времени уделять изучению Торы. В университетах они, как правило, не учились. Отчасти поэтому харедим были люди скромного достатка. Но не Бернстайны, хотя и им это грозит после расплаты с юристами. У деда была доля в патенте на машину для извлечения косточек из оливок, и он передал деньги супругам в совместное пользование. Они предполагали истратить их все на своих адвокатесс – обеих судья хорошо знала. На первый взгляд спор шел об образовании дочерей. Но по сути под вопросом была вся ситуация взросления девочек. Это был бой за их души.
Обучение у мальчиков и девочек харедим было раздельным, дабы сохранить их чистоту. Модная одежда, телевизор и Интернет были под запретом, так же – и общение с детьми, которым дозволялись подобные развлечения. Так же и с семьями, где нестрого соблюдались кошерные правила. Все стороны повседневного существования были строго подчинены обычаям. Проблемы начались с матери, которая отошла от общины, но не от иудаизма. Вопреки воле отца она отправила девочек в еврейскую среднюю школу с совместным обучением, где были разрешены телевизор, поп-музыка, Интернет и общение с нееврейскими детьми. Она хотела, чтобы дочери продолжали учебу после шестнадцати лет и поступили в университет, если захотят. В заявлении она написала, что хочет, чтобы дочери больше узнали о жизни других людей, обладали терпимостью, чтобы перед ними открылись профессиональные перспективы, которых она сама была лишена, а когда вырастут, стали бы финансово независимыми и могли найти мужей, которые помогут им содержать семью. В отличие от ее мужа, изучающего и восемь часов в неделю преподающего Тору бесплатно.
При всей разумности ее доводов Джудит Бернстайн – худое бледное лицо, непокрытая голова с курчавыми рыжими волосами, забранными большой синей заколкой, – была фигурой, несколько обременительной в суде. Нервными веснушчатыми пальцами она беспрерывно передавала записочки своей защитнице, беззвучно вздыхала и закатывала глаза, когда говорила адвокатесса мужа, суетливо рылась в большой сумке из верблюжьей кожи и в какой-то неприятный момент посреди долгого слушания вынула пачку сигарет с зажигалкой – предметы, безусловно вызывающие, по понятиям мужа, – и положила их перед собой, дожидаясь конца заседания. Все это Фиона наблюдала сверху, но не показывала вида.
Муж в своем письменном заявлении стремился убедить судью, что его жена – эгоистичная женщина, «плохо владеющая собой» (в семейных делах – обычное и зачастую взаимное обвинение), она пренебрегла брачным обетом, спорила с его родителями и с общиной, отрезала детей и от них, и от общины. Напротив, заявила Джудит, это свекор и свекровь, не признающие современного мира и в том числе средств информации, отказались видеть ее и детей, пока они не вернутся к надлежащему образу жизни и кошерной, в их понимании, кухне.
Мистер Джулиан Бернстайн, высокий, как тростинка вроде тех, где спрятали младенца Моисея, склонился над бумагами, свесив грустно покачивающиеся пейсы, между тем как его адвокатесса обвиняла жену в неспособности отличить интересы детей от своих интересов. То, в чем они, по ее словам, нуждаются, на самом-то деле хочется ей самой. Она хочет вырвать девочек из надежного, теплого, привычного мира, строгого, но исполненного любви, самобытного мира, чьи правила и обычаи предусмотрены на все случаи жизни, чьи методы проверены веками, чьи обитатели, как правило, реализуют себя полнее и более счастливы, чем в секулярном потребительском обществе, где духовная жизнь выхолощена, а массовая культура принижает женщин и девочек. Ее устремления легкомысленны, ее методы непочтительны и даже пагубны. Она любит детей гораздо меньше, чем себя.
На это Джудит хрипло возразила, что нельзя принизить человека – мальчика ли, девочку – больше, чем отказывая ему в приличном образовании и достойной работе, что все детство и раннюю юность она слышала, что единственная в ее жизни цель – хорошо вести домашнее хозяйство и заботиться о детях, и это тоже принижало ее, лишая права выбирать себе цели самостоятельно. Когда она с большими трудностями получала образование в Открытом университете, это было встречено насмешками, презрением и проклятиями. Она дала себе слово, что избавит девочек от подобных притеснений. Адвокаты тяжущихся были согласны в том (ибо таково, очевидно, было мнение суди), что вопрос не только в образовании. Суд в интересах детей должен выбрать между полным соблюдением религиозных предписаний и чем-то менее строгим. Это выбор культуры, социальной принадлежности, менталитета, устремлений, характера семейных отношений, основополагающих принципов и пока неизвестного будущего.
В таких делах была подспудная предрасположенность к сохранению статус-кво, если оно выглядело благополучным. Постановление Фионы занимало двадцать одну страницу, они были веером разложены на полу, дожидаясь, когда она начнет брать их по одной и делать мягким карандашом пометки.
Из спальни ни звука, только шум машин на мокрой улице. Она злилась на себя, что прислушивается, затаив дыхание, не скрипнет ли дверь или половица. И хочет этого, и страшится.
Коллеги хвалили Фиону Мей – даже за глаза – за чеканную прозу, почти ироническую, почти душевную, и за умение сжато сформулировать суть спора. Слышали, как сам лорд главный судья за общим ужином отозвался о ней вполголоса: «Божественная дистанция, дьявольская проницательность и при этом красиво». По ее собственному мнению, она с каждым годом все больше склонялась к строгости, которую могли бы назвать педантизмом, к неопровержимому толкованию, которое может когда-то стать цитируемым, как Хоффман в «Пигловска против Пигловски», или Бингем, или Уорд, или непременный Скарман – здесь она всех их использовала. Невычитанная первая страница, выгнувшись, свисала с ее пальцев. Грядет перемена в ее жизни? Зашепчутся в ужасе ее ученые друзья за обедом – здесь или в Линкольнз-инне, или в Миддл-темпле: «И она вышвырнула его?» Из чудесной квартиры Грейз-инна, где она будет вековать одна, пока арендная плата или сами годы, набухая, как хмурая Темза в прилив, не вынесут и ее оттуда?
К делу. Первый раздел: «Предыстория вопроса». После обычных сведений о семейной ситуации, местожительстве детей и контактах с отцом она отдельно описала общину харедим, где религия полностью определяет образ жизни. Различие между кесаревым и Божьим лишено смысла так же, как для правоверного мусульманина. Карандаш ее завис над страницей. Подверстывать еврея к мусульманину – не лишнее ли, не покажется ли вызывающим, по крайней мере, отцу? Только если он неразумен, а ей он таким не кажется. Оставим как есть.
Второй раздел был озаглавлен: «Моральные противоречия». Суд просят выбрать форму образования для двух девочек, сделать выбор между ценностями. А в подобных делах апелляция к тому, что считается принятым в обществе, мало что дает. Здесь она и процитировала Хоффмана: «Это ценностные суждения, в которых разумные люди могут расходиться. Поскольку судьи тоже люди, это означает, что некоторые расхождения и у них неизбежны…»
В последнее время у нее появился вкус к подробным уточняющим отступлениям, и здесь она посвятила несколько сотен слов определению благополучия и критериев, по которым его надо оценивать. Следуя лорду Хейлшему, она писала, что этот термин неотделим от благосостояния и включает в себя все, что относится к развитию ребенка как личности. Сославшись на Тома Бингема, она писала, что вопрос следует рассматривать в средне- или долгосрочной перспективе, имея в виду, что сегодняшний ребенок может дожить до двадцать второго века. Она процитировала судебное решение лорда судьи Линдли от 1893 года, где говорилось, что благополучие нельзя понимать в чисто финансовом смысле или просто в плане физического комфорта. Она возьмет это понятие в как можно более широком смысле. Благосостояние, счастье, благополучие – все это должна охватывать философская концепция хорошей жизни. Она перечислила некоторые важные составляющие, цели, к которым может быть направлено развитие ребенка. Экономическая и нравственная свобода, добродетель, способность к состраданию и альтруизм, решение серьезных задач, приносящее удовлетворение, живой круг общения, уважение окружающих, стремление придать жизни высокий смысл и сохранить самые важные связи с небольшим количеством людей, которые определяются прежде всего любовью.
Да, по этому последнему показателю она банкрот. Стакан с разбавленным виски, нетронутый, стоял рядом; желтый цвет, напоминавший мочу, и назойливый деревянный запах вызывали теперь отвращение. Ей бы сейчас как следует разозлиться, поговорить со старой подругой – таких еще несколько было, – войти в спальню, потребовать разъяснений… Но ощущение было такое, что сама она сжалась в геометрическую точку тревоги из-за неоконченного дела. К завтрашнему утру проект решения должен быть сдан в распечатку, она должна работать. Ее личная жизнь ничего не значит. Не должна значить. А мысли по-прежнему бегали между листком у нее в руке и закрытой дверью спальни. Она заставила себя прочесть длинный абзац, в котором засомневалась еще тогда, когда зачитывала его в суде. Но что плохого в решительной констатации очевидного? Благополучие –социально. Сложная сеть отношений с членами семьи и друзьями – критическая составляющая. Ни один ребенок не остров. Человек – общественное животное, по знаменитому выражению Аристотеля. С четырьмя сотнями слов на эту тему она пустилась в плавание, и паруса ей наполняли ученые ссылки (на Адама Смита, на Джона Стюарта Милля). Каждое хорошее решение требует цивилизованного кругозора.
Далее: благополучие – понятие изменчивое, оценивать его надо по меркам разумных мужчин и женщин своего времени. То, что устраивало в прошлом поколении, сегодня может оказаться недостаточным. Опять-таки не дело светского суда выбирать между религиозными верованиями, решать теологические споры. Все религии заслуживают уважения при условии, что они «приемлемы социально и с точки зрения законности», как выразился лорд судья Перчес, и, в более мрачной формулировке лорда судьи Скармана, не являются «нравственно и социально ущербными».
Суды должны с осторожностью отстаивать интересы ребенка вопреки религиозным принципам родителей. Но иногда обязаны. Когда же? Она привела цитату из своего любимца, мудрого лорда судьи Манби в Апелляционном суде: «Бесконечное разнообразие человеческих обстоятельств исключает произвольное толкование». Замечательный шекспировский штрих. «Ни за что не бросит. / Ни возрасту не иссушить ее, / ни вычерпать привычке не дано/ Ее бездонного разнообразья»[2]. Эти слова сбили ее с панталыку. Она знала речь Энобарба наизусть – играла его в студенчестве. Играли одни женщины, солнечным летним днем в сквере на площади Линкольнз-инн-филдс. Только что свалив последние экзамены с натруженных плеч. Примерно в это время влюбился в нее Джек, а вскоре – и она в него. Первый раз они легли в одолженной мансарде под раскаленной крышей. Неоткрывавшееся круглое окно смотрело на кусочек Темзы за Лондонским мостом.
Она подумала о будущей – или действующей – любовнице, статистичке Мелани – она видела ее один раз: молчаливая молодая женщина с тяжелыми янтарными бусами и пристрастием к туфлям на шпильках, губительницах дубовых полов. «В то время как другие пресыщают, / Она тем больше возбуждает голод, / Чем меньше заставляет голодать»[3]. Может быть, именно так – отравное наваждение, зависимость, оторвавшая его от дома, искривившая его, стершая все, что у них было, – и в прошлом, и в будущем, и в настоящем тоже. Или Мелани, как и сама Фиона, – из этих «других», которые пресыщают, и через две недели он вернется, насытившись, и будет строить планы на выходные уже с ней.
И так, и эдак – невыносимо.
Невыносимо – и гипнотизирует. И не относится к делу. Она заставила себя вернуться к страницам, к сводке показаний обеих сторон – внятной и холодно сочувственной. Далее – отчет социального работника, назначенного судом. Полная доброжелательная молодая женщина, иной раз запыхавшаяся, с нерасчесанными волосами, с незастегнутой пуговицей на блузке, выбившейся из-под пояса. Неорганизованная, дважды опоздавшая на слушания из-за каких-то сложностей с ключами от машины, где были заперты документы, и с дочкой, которую надо было забрать из школы.
Но не в пример обычным гладким рапортам «и тот и другой родитель правы», оценка этой женщины из судебно-консультативной службы по делам детей и семьи была разумной, даже проницательной, и Фиона процитировала ее одобрительно. Далее?
Она подняла голову и увидела мужа в другом конце комнаты – он наливал себе виски – много, пальца на три, а то и на четыре. Босиком – профессор с богемными привычками, летом он часто ходил так по дому. Потому и вошел бесшумно. Видимо, лежал на кровати, полчаса смотрел на кружевную лепнину потолка и размышлял о ее неразумии. По напряжению в ссутуленных плечах, по тому, как вбил ладонью пробку в горлышко, понятно было, что пришел спорить. Знакомые признаки.
Не разбавив виски, он повернулся и пошел к ней. Еврейские девочки Рэчел и Нора, должно быть, парили у нее за спиной, как христианские ангелы, и ждали. У их мирской богини были свои затруднения. С ее позиции внизу ей были хорошо видны ногти на его ногах, аккуратно подстриженные, с чистыми молодыми лунками, без грибковых полосок, как у нее. Он поддерживал форму теннисом в университете и гантелями, делая с ними сто упражнений ежедневно. А она разве что таскала портфель с документами по судебным помещениям да по лестницам поднималась пешком, вместо лифта. Он был интересный мужчина, слегка встрепанный, с квадратным, несколько асимметричным подбородком и зубастой проказливой улыбкой, пленявшей студентов – их удивляла эта бесшабашность в профессоре древней истории. Фионе в голову никогда не приходило, что он способен завести шашни со студенткой. Теперь все выглядело иначе. Всю жизнь разбираясь с человеческими слабостями, она, возможно, оставалась наивной, бездумно делая исключение для себя с мужем. Его единственная не академическая книга – бойкая биография Юлия Цезаря – даже принесла ему нешумную, но почтительную славу. Какая-нибудь бесстыжая девчонка-второкурсница могла его соблазнить. У него в кабинете был или до сих пор есть диванчик. И табличкаNe Pas Dranger[4], украденная из отеля «Де Крийон» под конец их давнего медового месяца. Это были новые мысли – червь сомнения вползал в прошлое.
Он сел в ближайшее кресло.
– Ты не могла ответить на мой вопрос, поэтому я тебе скажу. Семь недель и один день назад. По правде – тебе этого довольно?
Она тихо сказала:
– Ты уже спишь с ней?
Он знал, что на трудный вопрос лучше всего ответить вопросом.
– Ты думаешь, мы стары? В этом дело?
Она сказала:
– Потому что, если вы уже, я хочу, чтобы ты собрал чемодан и ушел.
Предложение во вред себе, необдуманное, ее ладья в обмен на его коня – глупость, и нет пути назад. Если останется – унижение; уйдет – про пасть.
Он сел поглубже в кресле – дерево, кожа, обойные гвозди, что-то от средневековых пыток. Она никогда не любила викторианскую готику, а сейчас – особенно. Он положил ногу на ногу и глядел на нее, наклонив голову набок, терпеливо или с жалостью, и она отвела глаза. Семь недель и один день – в этом слышалось тоже что-то средневековое, из приговора старинных ассизов. Ее беспокоило, что она должна дать ответ по иску. Много лет у них была приличная половая жизнь, регулярная, чувственная, без сложностей – в будни рано утром, как только просыпались, пока заботы рабочего дня не ворвались через плотные шторы спальни. По выходным – ближе к вечеру, иногда после тенниса на Мекленбург-сквер, парных игр, с обменом партнерами. Ошибки партнера зачеркивались сменой. На самом деле весьма приятная половая жизнь и функциональная – в том смысле, что плавно подвигала их к дальнейшему существованию. И не обсуждалась, что было еще одним ее достоинством. У них даже не было для этого лексикона – почему еще так больно стало, когда он об этом заговорил, и почему она почти не замечала убывания пыла и частоты.
Но она всегда любила его, всегда была ласкова, верна, внимательна – совсем недавно, в прошлом году, нежно ухаживала за ним, когда он сломал запястье и ногу в Мерибеле во время дурацкого лыжного спуска наперегонки со старыми школьными друзьями. Она тешила его, садилась верхом, и вспомнила сейчас, как он ухмылялся, лежа в своих гипсовых доспехах. Она не знала, как на все это сослаться в свою защиту, да и нападали на нее по другому поводу. Не преданности у нее не хватало, а страсти.