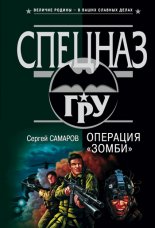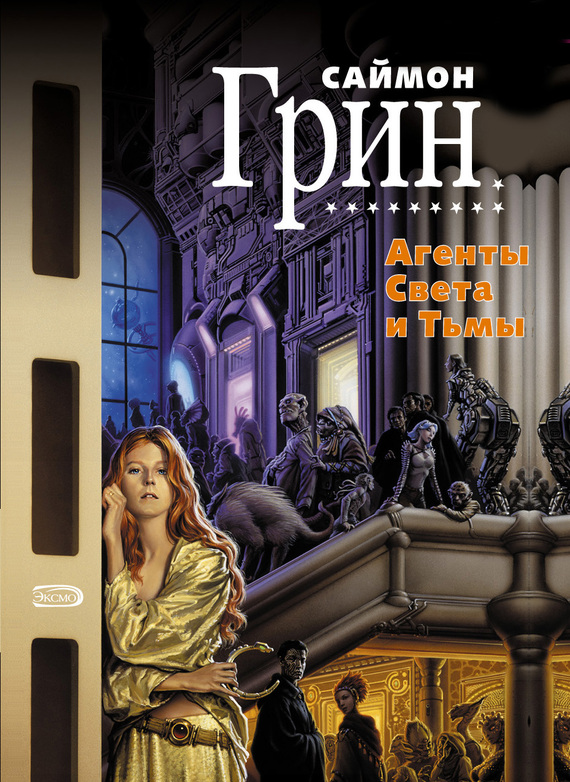Планета Шекспира Саймак Клиффорд

Хортон ухватился за поручень мертвой хваткой, словно тот был единственной оставшейся у него реальностью. Тело болело от напряжения, но ум еще сохранял нечто от своей неестественной остроты, хотя он и чувствовал, как эта острота блекнет. С помощью Никодимуса он выпрямился, встряхнул головой и поморгал, проясняя зрение. Краски над морем травы изменились. Пурпурная дымка преобразилась в глубокие сумерки. Медный цвет травы сошел до свинцового оттенка, а небо сделалось черным. У него на глазах появилась первая яркая звезда.
— В чем дело, Каптер? — снова спросил робот.
— Ты хочешь сказать, что не почувствовал этого?
— Почувствовал что-то, — ответил Никодимус. — Что-то пугающее. Оно поразило меня и соскользнуло. Не с тела моего, но с ума. Словно бы кто-то нанес удар мысленным кулаком, но промахнулся, только слегка задев мой мозг.
6
Мозг-бывший-когда-то-монахом был напуган, а испуг приносит честность. Исповедальную честность, подумал он, хотя никогда не бывал на исповеди так честен, как сейчас.
«Что это было? — спросила гранд-дама. — Что мы почувствовали?»
«То была рука Божья, — ответил он ей, — коснувшаяся слегка нашего чела».
«Это нелепо, — возразил ученый. — Это заключение, сделанное без достаточных данных и без добросовестного наблюдения».
«Что же тогда вы извлечете из этого?» — спросила гранд-дама.
«Я не извлеку из этого ничего, — ответил ученый. — Я отмечаю это, вот и все. Как проявление чего-то. Может быть, чего-то далекого в пространстве. Пришедшего не с этой планеты. У меня отчетливое впечатление, что это феномен не местного происхождения. Но покуда у нас не будет побольше данных, мы не должны пытаться его охарактеризовать».
«Это самое наиполнейшее пустословие, какое мне приходилось слышать, — сказала гранд-дама. — Наш коллега священник преуспел больше».
«Да не священник, — сказал монах. — Я вам говорил и говорю: монах. Просто монах. В рваных штанах».
Так оно и было, сказал он себе, продолжая свою честную самооценку. Он никогда не был ничем большим. Меньше, чем ничем — монах, боящийся смерти. Не святой, которым его провозглашали, но хнычущий, дрожащий трус, боявшийся умереть, а ни один человек, который боится смерти, не может быть святым. Для подлинной святости смерть должна быть обещанием нового начала, а он, вспоминая прошлое, понимал, что никогда не мог воспринять ее как что-то иное, кроме конца и полного ничто.
Впервые, думая об этом, он смог признаться в том, в чем никогда не мог признаться или не был достаточно честен, чтобы признаться прежде — что он ухватился за возможность стать слугой науки, чтобы избежать страха смерти. Хотя он и знал, что приобрел этим только отсрочку от смерти, ибо даже будучи Кораблем, не мог избежать ее полностью. Или, по крайней мере, не мог быть уверен в том, что избежит ее полностью, так как оставался шанс — наималейший шанс, — который ученый и гранд-дама обсуждали сотни лет назад, тогда как он старательно оставался вне дискуссии, боясь включиться в нее, что с течением миллионолетий, если только они проживут так долго, все трое, возможно, станут одним лишь чистым сознанием. И если таков будет исход, подумал он, то тогда-то они и станут в самом строгом смысле бессмертными и вечными. Но если этого не случится, им по-прежнему придется встать перед лицом факта смерти, ибо космический корабль не может существовать вечно. В свое время он станет, по той или иной причине, изношенным, разбитым корпусом, дрейфующим между звезд, и в должное время — не более, чем пылью на ветрах космоса. Но этого еще долго не случится, сказал он себе, хватаясь за эту надежду. Корабль, при некоторой удаче, может просуществовать еще миллионы лет, и это даст им троим время, необходимое, чтобы сделаться одним чистым сознанием, — если только действительно возможно стать одним чистым сознанием.
«Откуда же этот всеподавляющий страх смерти? — спросил он себя. — Откуда это раболепие перед нею, не такое, как у обыкновенного человека, но как у кого-то одержимого невыносимостью самой мысли о ней? Быть может, это из-за того, что он утратил свою веру в Бога или, возможно, что было бы еще хуже, вовсе никогда и не достигал веры в Бога? И если причина в этом, то почему же он тогда стал монахом?»
Начав с честности, он и сейчас дал себе честный ответ. Он избрал монашество в качестве занятия (не призвания, но занятия), потому что боялся не только смерти, но даже самой жизни, и думал, что это, быть может, достаточно легкая работа, которая обеспечит его укрытием от пугающего его мира.
В одном он, однако, ошибся. Монашество не давало легкой жизни, но к тому времени, как он это обнаружил, он уже вновь боялся — боялся признать свою ошибку, боялся исповедаться даже перед самим собой во лжи, которой он жил. Так что он оставался монахом и с течением времени, тем или иным образом (более чем вероятно — по чистой случайности), приобрел репутацию благочестия и набожности, бывшую некогда предметом зависти и гордости всех его товарищей-монахов, хотя некоторые из них при случае делали кое-какие недостойные, гнусные замечания. С течением времени, казалось, великое множество людей стало каким-то образом прислушиваться к нему — не из-за того, может быть, что он делал (ибо, по правде сказать, делал он лишь малое), но ради вещей, которые он как бы представлял, ради его образа жизни. Теперь, думая об этом, он гадал — не имело ли место недоразумение, раз его благочестие проистекало не из набожности, как все вроде бы думали, но из самого страха, и из-за страха же сознание его старалось сгладиться, стушеваться. Дрожащая мышь, подумал он, ставшая святой мышью из-за своего дрожания.
Но как бы то ни было, он сделался в конце концов символом Века Веры в материалистическом мире, и один писатель, бравший у него интервью, описал его, как средневекового человека, просуществовавшего до современности. Образ, происшедший из этого интервью, опубликованном в имеющем большое хождение журнале и написанного восприимчивым человеком, не стеснявшегося для пущего эффекта слегка приукрасить факты, дал толчок, который несколько лет спустя возвел его к величию, как простого человека, сохранившего проникновенность, необходимую для возврата к первичной вере, и душевную силу, чтобы удержать эту веру против вторжения гуманистической мысли.
Он мог бы стать аббатом, подумалось ему с волной нарастающей гордости, а может быть, и более, чем аббатом. И когда он осознал эту гордость, то предпринял не более нежели символическое усилие, чтобы ее подавить. Ибо гордость, подумал он, гордость и, в конце концов, честность было все, что у него осталось. Когда Бог призвал аббата, ему стало известно разными тонкими способами, что он мог бы суметь стать новым аббатом. Но внезапно испугавшись снова, на этот раз уже поста и ответственности, он обратился с прошением остаться при своей простой келье и простых обязанностях, и, поскольку в ордене его ставили очень высоко, прошение было удовлетворено. Хотя, думая об этом теперь, после обретения честности, он позволил себе подозрение, которому не давал прежде прорваться наружу. Оно было таково: возможно, его прошение было удовлетворено не оттого, что в ордене его ставили высоко, но потому, что орден, зная его слишком хорошо, понимал, каким плохим аббатом он стал бы? С точки зрения благоприятствия общественного мнения, назначение его могло быть позволено ради сопутствующего ему признания, и не был ли орден поставлен в такое положение, что чувствовал себя вынужденным, по крайней мере, сделать предложение? И не вздохнула ли братия от всего сердца с облегчением, когда это предложение было отклонено?
Страх, подумал он — человек, всю жизнь преследуемый страхом, если не страхом смерти, так страхом перед жизнью. Может быть, в конце концов, в страхе и не было нужды. Может быть, после всей его боязливости выясниться, что бояться по-настоящему было нечего. Больше чем вероятно, все дело в его собственной непригодности и недопонимании — что же заставляет его бояться.
«Я думаю, как человек из плоти и крови, — сказал он себе, — а не как бестелесный мозг. Плоть еще крепко держится за меня, кости еще не растворились».
Ученый все еще говорил.
«В особенности мы должны воздержаться, — говорил он, — от машинального представления этого явления чем-либо, обладающим мистическими или спиритуальными качествами».
«Это и была всего лишь одна из таких простых вещей», — подтвердила гранд-дама, довольная, что это, наконец, решилось.
«Мы твердо должны придерживаться сознания, — сказал ученый, — что простых вещей во вселенной нет. Нельзя безнаказанно отбросить ни одно происшествие. Во всем, что происходит, всегда есть цель. Всегда есть причина — можете быть уверены, — а в должное время проявится и следствие».
«Хотел бы я быть таким же уверенным, как вы», — сказал монах.
«А я бы хотела, — сказала гранд-дама, — чтобы мы вовсе не приземлялись на этой планете».
7
— Вы должны подкрепиться, — сказал Никодимус. — Не надо слишком много есть. Супу, ломтик жаркого, половину картофелины. Вам надо понять, что ваш желудок сотни лет пребывал в бездействии. Замороженным, конечно, и не подверженным порче, но все-таки ему следует дать возможность вновь обрести тонус. За несколько дней вы восстановите привычку к питанию.
Хортон уставился на еду.
— Откуда ты взял такую провизию? — осведомился он. — Уж конечно, она не привезена с Земли.
— Я и забыл, — сказал Никодимус. — Вы, конечно, не знаете. У нас на борту самая эффективная модель преобразователя материи из тех, что были произведены ко времени нашего отбытия.
— Ты хочешь сказать, что это просто лопата какого-нибудь песка?
— Ну, не совсем так. Это не настолько уж просто. Однако, общее представление у вас верное.
— Подожди-ка минутку, — сказал Хортон. — Есть в этом что-то очень неправильное. Я не помню никаких преобразователей материи. О них, конечно, поговаривали, и была вроде некоторая надежда, что можно собрать такую штуку, но и по самым лучшим моим воспоминаниям…
— Есть некоторые вещи, сэр, — довольно поспешно произнес Никодимус, — с которыми вас не ознакомили. Одна из них состоит в том, что после того, как вас ввели в анабиоз, мы отбыли не сразу.
— Ты хочешь сказать, была какая-то задержка?
— Ну… да. Чтобы быть точным, довольно большая задержка.
— Христа ради, да не будь ты таким таинственным. Насколько долгая?
— Ну, лет пятьдесят или около того.
— Пятьдесят лет! Почему же пятьдесят лет? Зачем было погружать нас в анабиоз, а потом выжидать пятьдесят лет?
— Настоящей потребности спешить не было, — ответил Никодимус. — Срок всего проекта оценивался таким обширным — пара сотен лет или, может быть, несколько больше, пока Корабль вернется со сведениями о пригодной для жизни планете, — что задержка в пятьдесят лет не казалась чрезмерной, если за такой срок можно было приобрести некоторые системы, которые дали бы побольше шансов на успех.
— Как преобразователь материи, например?
— Да, это одна из таких вещей. Конечно, не абсолютно необходимая, но удобная и прибавляющая известный запас прочности. И что более важно, могли быть выработаны некоторые особенности корабельного устройства, которые бы…
— И они были выработаны?
— Большей частью, да, — ответил Никодимус.
— Нам никогда не говорили, что может быть такая задержка, — сказал Хортон. — Ни нам и никому другому из экипажей, обучавшихся в одно время с нами. Если бы хоть один экипаж знал, они бы передали и нам словечко об этом.
— Не было надобности в том, чтобы вы знали, — отвечал Никодимус. — Могли бы последовать какие-нибудь нелогичные возражения с вашей стороны, если бы вам сказали. А важно, чтобы команды людей уже были готовы, когда будет решено отправить корабли. Видите ли, все вы были очень особыми людьми. Может быть, вы помните, с какой тщательностью вас выбирали.
— О боже, да. Нас пропускали через компьютеры, чтобы рассчитать фактор выживаемости. Наши психологические профили перемеривали снова и снова. Нас измотали этими чертовыми физическими испытаниями. Нам имплантировали в мозг телепатическую штучку, чтобы мы могли разговаривать с Кораблем, и это было самое беспокойное. Я, кажется, припоминаю, мне потребовались месяцы, чтобы научиться пользоваться ею как следует. Но к чему было делать все это, а потом укладывать нас на хранение в анабиоз? Мы могли бы и просто подождать.
— Одно из решений могло бы быть и таким, — согласился Никодимус, — и вы становились бы с годами все старше. Один из факторов, входивших в критерий отбора членов команды, — чтобы они не были слишком молодыми, но и не особенно старыми. Смысла мало отправлять стариков. В анабиозе же вы не старели. Время для вас ничего не значило, ибо время не имеет значения в анабиозе. При том, как это было сделано, экипажи ждали в полной готовности, причем их качества и способности не страдали от времени, пока отлаживались остальные приборы. Корабли могли бы вылететь сразу же, когда вы были заморожены, но пятидесятилетнее ожидание существенно увеличило шансы кораблей и ваши шансы. Система жизнеобеспечения мозга усовершенствовалась до степени, считавшейся за пятьдесят лет до того невозможной, а связь между мозгом и кораблем сделалась более чувствительной и эффективной, почти безупречной. Улучшились системы анабиоза.
— У меня это вызывает противоречивые чувства, — заявил Хортон. — Во всяком случае, для меня лично, пожалуй, никакой разницы это не составляет. Если невозможно прожить жизнь в своем собственном времени, то, наверное, неважно, когда именно вы ее проживете. О чем я жалею — так о том, что остался один. У нас с Хелен что-то начиналось, и другие двое мне нравились. Есть у меня, кажется, и некоторое чувство вины, потому что они умерли, а я выжил. Ты говоришь, что спас мою жизнь только потому, что я находился в камере номер один. Если бы я был не в ней, то выжил бы кто-нибудь другой, а я был бы теперь мертв.
— Вы не должны чувствовать вину, — возразил Никодимус. — Если кто-то и должен чувствовать вину, так это я, но я вины за собой не чувствую, так как рассудок говорит, что я мог действовать и действовал в границах нынешней технологии. Но вы-то — вы вовсе в этом не участвовали. Вы ничего не делали, вы не принимали решения.
— Да, я знаю. Но все-таки не могу не думать…
— Ешьте суп, — сказал Никодимус. — Жаркое стынет.
Хортон зачерпнул ложку супа.
— Хороший суп, — сказал он.
— Конечно, хороший. Я же вам говорил, что я отличный повар. Или могу быть отличным поваром.
— «Можешь быть», — передразнил Хортон. — Странный способ делать утверждения. Или же ты повар, или не повар. Но ты заявил, что можешь быть поваром. И так же ты сказал насчет того, что можешь стать инженером. Не сказал, что ты инженер, но что можешь им стать. Мне кажется, дружище, что ты можешь быть слишком уж многим. Только что ты сделал утверждение, подразумевающее, что ты можешь быть еще и хорошим техником по анабиозу.
— Но я высказал все это в точности, — возразил Никодимус. — Так оно и есть. Сейчас я повар, а могу стать инженером или математиком, или геологом, или астрономом…
— Геологом тебе быть ни к чему. Геологом в этой экспедиции был я. Хелен была биологом и химиком.
— Когда-нибудь может появиться нужда в двух геологах, — сказал Никодимус.
— Это ужасно, — проворчал Хортон. — Ни один человек или робот не может сразу быть стольким, скольким, по твоим словам, являешься или можешь являться ты. Это отняло бы многие годы учения, и в процессе обучения каждой новой дисциплине ты терял бы что-то из предыдущего. Далее — ты просто служебный робот, неспециализированный. Посмотрим на это прямо — возможности твоего мозга невелики, а твоя система реакций относительно малочувствительна. Корабль сказал, что ты был избран специально из-за несложности — из-за того, что с тобой мало что может произойти неладного.
— Что было совершенно верно, — признал Никодимус. — Я таков, как вы сказали. Посыльный и подручный, и мало для чего еще гожусь. Возможности моего мозга малы. Но когда у тебя два или три мозга…
Хортон швырнул ложку на стол.
— Ты свихнулся! — воскликнул он. — Два мозга не могут быть в одном теле.
— У меня два мозга, — спокойно отвечал Никодимус. — У меня прямо сейчас два мозга — старый, глупый стандартный мозг робота и поварский мозг, и если я захочу, я могу добавить еще один мозг, хотя я не знаю, какой мозг мог бы послужить дополнением к мозгу повара. Может быть, мозг специалиста по питанию, хотя в наборе такого мозга нет.
С некоторым усилием Хортон овладел собой.
— Давай-ка начнем сначала, — предложил он, — давай-ка начнем с самого верху и пойдем эдак легонько и осторожненько, чтобы мой тупой человеческий мозг мог уследить за тем, что ты говоришь.
— Это все те пятьдесят лет, — пояснил Никодимус.
— Какие еще пятьдесят лет, будь оно все проклято?!
— Пятьдесят лет, прошедшие после того, как вас заморозили. За пятьдесят лет можно сделать массу исследований и изобретений, если много людей направят на них умы. Вас учили, не правда ли, при участии сложнейшего робота — совершеннейшего экземпляра человеческой технологии, какой только был построен.
— Это так, — согласился Хортон, — я его помню, словно видел только вчера…
— Для вас это было только вчера, — согласился Никодимус, — тысячелетие, прошедшее с тех пор, для вас все равно, что ничто.
— Вот уж был мерзкий тип, — продолжал Хортон, — вот уж поклонник строгой дисциплины. Он знал втрое больше нас и был вдесятеро работоспособнее. Он нам постоянно талдычил об этом в своей гладенькой, елейной, мерзкой манере. Так наловчился, что не заткнуть было. Мы его, сукина сына, все ненавидели.
— Ну, вот видите, — победоносно сказал Никодимус. — Так продолжаться не могло. Ситуация создалась невыносимая. Подумайте, какие были бы трения, если бы его послали с вами, какое несовпадение личностей. Вот потому-то вы и получили меня. Такими, как он, невозможно пользоваться. Нужен был простой, непритязательный олух, вроде меня, такой робот, какому вы приучены отдавать приказы и который не станет обижаться на то, что ему приказывают. Но простой, непритязательный олух, вроде меня, был бы неспособен сам справиться со случайностями, в чем иногда может возникнуть необходимость. Так натолкнулись на мысль о вспомогательных мозгах, которые можно было бы вставить на место при необходимости подкрепить туповатый мозг, вроде моего.
— Так ты хочешь сказать, что у тебя полная коробка запасных мозгов, которые ты попросту приставляешь себе!
— Ну, не настоящих мозгов, — пояснил Никодимус. — Они называются трансмогами, хотя я не совсем знаю, почему. Кто-то мне говорил однажды, что это сокращение от слова «трансмогрификация». Есть такое слово?
— Не знаю, — признался Хортон.
— Ну, как бы там ни было, — продолжал Никодимус, — у меня есть трансмог повара и трансмог физика, и трансмог биохимика — в общем, мысль вам понятна. В каждом закодирован полный курс колледжа. Я их сосчитал как-то, но уже забыл. С пару дюжин, пожалуй.
— Так ты можешь и вправду оказаться в силах наладить этот туннель Плотоядца?
— Я бы на это не рассчитывал, — возразил Никодимус. — Я не знаю, что в трансмоге инженера. Существуют ведь столько разновидностей инженерного дела — химическая, электрическая, механическая.
— По крайней мере, у тебя будет какая-то основа.
— Так-то оно так. Да ведь туннель, о котором говорил Плотоядец, наверняка выстроен не людьми. Людям бы не хватило времени…
— Нет, он может быть человеческим изделием. У них была почти тысяча лет, можно сделать много чего. Вспомни-ка, чего мы достигли за пятьдесят лет, о которых ты говорил.
— Да, я знаю. Может быть, вы и правы. Может быть, полагаться на корабли не очень-то хорошо. Если бы люди полагались на корабли, они бы не добрались к этому времени так далеко и…
— Могли добраться, если изобрели движение быстрее света. Может быть, если добиться этого, то никаких природных ограничений скорости уже не останется. Если сломать световой барьер, то, может, и нет никаких границ насколько быстрее света можно лететь.
— Я почему-то не думаю, что изобрели движение со сверхсветовой скоростью, — ответил Никодимус. — Я слышал множество разговоров об этом после того, как меня вовлекли в проект. Ни у кого, похоже, не было никакой отправной точки и никаких стоящих соображений о том, как это сделать. Более чем вероятно — люди просто высадились на планете, далеко не столь удаленной, как наша, и нашли один из туннелей, а теперь пользуются ими.
— Но ими пользуются не только люди.
— Да, это совершенно очевидно по Плотоядцу. И сколько иных рас пользуются ими, у нас не может быть представлений. А как быть с Плотоядцем? Если мы не заставим туннель действовать, он захочет отправиться с нами на корабле.
— Только через мой труп.
— Вы знаете, я чувствую в точности то же самое. Он довольно неотесанная личность, и может быть немало хлопот со введением его в анабиоз. Прежде, чем мы сможем это сделать, нужно узнать его химизм.
— Этим ты мне напоминаешь, что мы не возвращаемся на Землю. Что это еще за новости? Куда Корабль намерен отправиться?
— Не знаю, — ответил Никодимус. — Мы, конечно, разговариваем время от времени. Корабль, я уверен, ничего не пытается от меня утаивать. У меня такое ощущение, что Корабль сам еще не очень хорошо знает, что намерен делать. Просто, наверное, идти дальше и смотреть, что найдет. Вы, конечно, понимаете, что Корабль, если захочет, может услышать все, что мы говорим.
— Это меня не беспокоит, — ответил Хортон. — При нынешнем положении все мы повязаны одной веревочкой. Причем ты куда дольше, чем я. Каким бы ни было положение, мне, пожалуй, придется отталкиваться от него, ведь другого-то основания нет. Я почти в тысяче лет от дома и в тысяче лет от теперешней Земли. Корабль, несомненно, прав, говоря, что, вернись я обратно, то оказался бы отщепенцем. Можно, конечно, принять все это умом, но остается странное ощущение в горле. Если бы остальные трое были здесь, все, мне кажется, было бы по-другому. Я чувствую себя страшно одиноким.
— Вы не одиноки, — возразил Никодимус. — У вас есть Корабль и я.
— Да, пожалуй, что так. Я все время забываю. — Он откинулся от стола. — Чудесный был обед, — сказал он. — Хотел бы я, чтобы ты мог есть со мной. Как ты думаешь, не расстроит мне желудок, если я, прежде чем отправиться спать, возьму ломтик этого остывшего жаркого?
— На завтрак, — ответил Никодимус. — Если хотите, то кусочек на завтрак.
— Ну, ладно, — согласился Хортон. — Меня еще одно беспокоит. При твоем теперешнем устройстве человек в этой экспедиции не очень-то и нужен. Когда меня обучали, команда, состоящая из людей, имела смысл. Но теперь иное дело. Вы с Кораблем могли бы сами выполнить задание. При таком положении, отчего бы нас просто не исключить? Зачем было беспокоиться и совать нас на борт?
— Вы стараетесь принизить себя и человеческую расу, — ответил Никодимус. — Это не более, чем шоковая реакция от того, что вы сейчас узнали. Вначале идея была в том, чтобы поместить на борт знания и технологию, а единственный способ, каким это можно было сделать, — поместить на борт людей, обладающих этими знаниями и технологией. Ко времени отбытия корабля, однако, были найдены другие средства сохранения знаний и технологии — в трансмогах, которые могли бы сделать даже таких простых роботов, как я, множественными специалистами. Но даже при этом нам все-таки недоставало одного качества — этого странного фактора человека, биологического условия, которого у нас по-прежнему нет и которое еще ни один роботолог не смог в нас встроить. Вы говорили о вашем учебном роботе и вашей ненависти к нему. Вот что происходит, когда переступаешь определенную границу в улучшении роботов. Они становятся более способными, но нет человечности, чтобы уравновесить способности, и робот, вместо того, чтобы сделаться более человекоподобным, становится раздражающим и непереносимым. Может быть, всегда так и будет. Может быть, человечность — это такой фактор, которого нельзя добиться искусственно. Экспедиция к звездам, я полагаю, могла бы эффективно функционировать с одними роботами и наборами трансмогов для них на борту, но это была бы не человеческая экспедиция, а ведь это то, ради чего и затевалась эта и другие экспедиции — искать планеты, на которых могли бы жить люди. Конечно, роботы могут делать наблюдения и принимать верные решения, и девять раз из десяти наши наблюдения будут точными, а решения — действительно правильными, но на десятый раз то или иное, а то и оба, окажутся неверными, потому что роботы будут рассматривать проблему с роботной точки зрения и принимать решение роботными мозгами, которым недостает важнейшего человеческого фактора.
— Твои слова успокаивают, — заметил Хортон. — Надеюсь только, что ты прав.
— Поверьте мне, сэр, я прав.
Корабль сказал:
«Хортон, лучше бы вас сейчас лечь спать. Утром Плотоядец придет на встречу с вами, и вам нужно хоть немного отдохнуть».
8
Но сон приходил с трудом. Лежа на спине и глядя во тьму, он чувствовал, как в него вливаются отчужденность и одиночество, отчужденность и одиночество, которые он до сих пор сдерживал.
«Только вчера, — сказал ему Никодимус. — Вы погрузились в анабиоз только вчера, потому что века, что пришли и ушли с тех пор, значат для вас меньше, чем ничего».
Так и есть, подумал он с некоторым удивлением и горечью, только вчера. А теперь он один, и можно лишь помнить и скорбеть. Скорбеть здесь, в темноте, на далекой от Земли планете, куда он попал, как ему казалось, в мгновение ока, чтобы обнаружить родную планету и людей, которых он знал в этом вчера, погрузившимися в пучину времени.
Хелен умерла, подумал он. Умерла и лежит под стальным блеском чужих звезд на безвестной планете незарегистрированной звезды, где на фоне черноты космоса громоздятся туши ледников застывшего кислорода и изначальные скалы лежат, не подвергаясь эрозии тысячелетие за тысячелетием; на планете столь же неизменной, как сама смерть.
Все трое вместе — Хелен, Мэри, Том. Только он избег этого — избег потому, что находился в камере номер один, потому что тупой, неуклюжий, ограниченный робот не мог придумать ничего другого, чем делать дело по номерам.
«Корабль», — прошептал он в уме.
«Спите», — ответил Корабль.
«Черт тебя побери, — прошептал Хортон. — Нечего обращаться со мной, как с младенцем. Нечего указывать, что я должен делать. Спите, говоришь. Отвлекись, говоришь. Забудь все это, говоришь».
«Мы не говорили, чтобы ты забыл, — возразил Корабль. — Память драгоценна, и пока ты должен горевать, держись за память покрепче. Когда горюешь, знай, что мы горюем с тобой. Ибо мы также помним Землю».
«Но вы не хотите туда вернуться. Вы собираетесь идти дальше. Чего вы ждете найти, чего ищете?»
«Невозможно узнать. У нас нет ожиданий».
«И я пойду с вами?»
«Конечно, — ответил Корабль. — Мы — одна команда, и ты ее часть».
«А планета? У нас будет время ее осмотреть?»
«Спешить некуда, — сказал Корабль. — У нас впереди все время, сколько его есть».
«Что мы чувствовали этим вечером? Это ее часть? Или часть того неизвестного, что мы отправляемся искать?»
«Спокойной ночи, Картер Хортон, — сказал Корабль. — Мы еще поговорим. Думайте о приятном и постарайтесь уснуть».
О приятном, подумал он. Да, приятное было — там, позади, где небо было голубым и по нему плыли белые облака, и океан, словно нарисованный, поглаживал длинными пальцами словно нарисованный берег, и тело Хелен — белее песка, на котором она лежала. Был пикник и костер, и ночной ветер, колеблющий смутно различимые деревья. Был огонь свечей на нежно-белой скатерти с расставленными искрящимися рюмками и мерцающим фарфором, с музыкой на заднем плане и разлитым повсюду довольством.
Где-то в окружающей тьме неуклюже шевелился Никодимус, силясь не создавать шума, а в открытый люк проникала отдаленная скрипучая возня чего-то, какого-то, как он решил для себя, насекомого. Если только здесь есть насекомые, подумалось ему.
Он попытался думать о планете, лежавшей за иллюминатором, но, похоже, не мог о ней думать. Она была слишком новой и странной, чтобы думать о ней. Но зато он обнаружил, что может вызвать в уме пугающее представление об огромной, пугающей глубине пространства, разделяющего Землю и это место, и увидел мысленным взором крошечное пятнышко Корабля, плывущего в этой страшной необозримости пустоты. Пустота преобразилась в одиночество, и он со стоном повернулся на другой бок и крепко стиснул подушку под головой.
9
Плотоядец явился вскоре после рассвета.
— Хорошо, — сказал он. — Вы готовы. Мы выступим без спешки. Идти недалеко. Я осмотрел туннель, прежде чем уйти. Он не исправился.
Он возглавил шествие — вверх по крутому склону холма, потом вниз, в долину, лежавшую так глубоко среди холмов и настолько поглощенную лесом, что ночная тьма там еще не совсем рассеялась. Деревья уходили ввысь, лишь с немногими ветками на первых футах тридцати или около того, и Картер заметил, что по общему строению они сильно напоминают земные деревья, кора обыкновенно выглядит, как чешуйки, а листья в основном имеют цвет черный и пурпурный вместо зеленого. Под деревьями лесной пейзаж выглядел довольно открытым, лишь с изредка разбросанными там и сям тонкими, хрупкого вида кустами. Временами по земле проносились проворные создания, шнырявшие среди множества опавших ветвей, но Картер ни разу их не смог хорошо рассмотреть.
Тут и там из склона холма выступали скальные выходы, а когда они спустились по второму холму и пересекли небольшой, но бурный ручей, на противоположном берегу встал невысокий гребень. Плотоядец привел их туда, где тропа уходила в разлом посреди каменной стены, и они вскарабкались по углубленной в камень тропе. Картер заметил, что гребень был чистым пегматитом, без признака осадочных наслоений.
Они поднялись на обрыв и оказались на холме, поднимавшемся к новому гребню, выше того двойного, который они только что пересекли. У вершины гребня проходил низкий скалистый выступ с россыпью валунов. Плотоядец уселся на каменную плиту и похлопал возле себя, приглашая Хортона присесть.
— Здесь мы передохнем и восстановим дыхание, — сказал он. — Земля здесь вокруг неровная.
— Далеко еще? — спросил Картер.
Плотоядец помахал пучком щупалец, служившим ему рукой.
— Еще два холма, — сказал он, — и мы почти на месте. Вас, кстати, не захватил божий час вчера ночью?
— Божий час?
— Так его называл Шекспир. Что-то опускается и касается. Словно кто-то есть рядом.
— Да, — подтвердил Хортон, — он нас застал. Ты нам можешь сказать, что это?
— Не знаю, — ответил Плотоядец, — и мне это не нравится. Оно тебя открывает до брюха. Потому-то я и оставил вас столь внезапно. Очень уж оно меня пробирает. Прямо водой делает. Но я все же чересчур задержался. Меня захватило по пути домой.
— Ты хочешь сказать, знал, что оно наступит?
— Это бывает каждый день. Или почти каждый. Бывает время, не очень длительное, когда это вовсе не приходит. Оно сдвигается по суткам. Теперь это наступает по вечерам. Каждый раз чуточку позже. Сдвигается через день к ночи. Все время меняет свой час, но изменение очень маленькое.
— Оно все время приходит, пока ты здесь?
— Все время, — подтвердил Плотоядец. — Не оставляет в покое.
— У тебя нет представления, что это?
— Шекспир говорил, это что-то из космоса. Он говорил, что оно работает, как нечто отдаленное в пространстве. Приходит, когда та точка планеты, на которой мы стоим, поворачивается к какому-то месту далеко в космосе.
Никодимус, рыскавший по каменному уступу, вдруг нагнулся и подобрал обломок камня. Теперь он гордо возвращался к ним, держа в ладони несколько камешков.
— Изумруды, — сказал он. — Вымыты эрозией и лежат на земле. В породе есть и еще.
Он протянул их Хортону. Хортон рассмотрел их поближе, держа на ладони, попробовал указательным пальцем.
Плотоядец заглянул ему через плечо.
— Милые камешки, — сказал он.
— Черт возьми, — сказал Хортон. — Больше, чем милые камешки. Это изумруды. — Он поднял взгляд на Никодимуса. — Как ты узнал их? — спросил он.
— На мне минералогический трансмог, — ответил робот. — Я вставил трансмог инженера и осталось место еще для одного, вот я и поставил минералогический…
— Минералогический трансмог! На кой черт тебе минералогический трансмог?
— Каждому из нас, — с достоинством отвечал Никодимус, — позволили взять один трансмог для хобби. Ради нашего личного удовольствия. Были марочные трансмоги и шахматные, и множество других, но я решил, что трансмог собирателя камней…
Хортон ткнул пальцем в изумруды.
— Говоришь, здесь есть и еще?
— Подозреваю, — сообщил Никодимус, — что нам повезло. Изумрудные копи.
— Как повезло? О чем ты говоришь? — возроптал Плотоядец.
— Он прав, — подтвердил Хортон. — Весь этот холм может оказаться залежью изумрудов.
— Эти славные камешки чего-то стоят?
— У моего народа — стоят очень много.
— Никогда не слыхал ничего подобного, — заявил Плотоядец. — По мне, это выглядит безумием. — Он сделал презрительный жест в сторону изумрудов. — Всего лишь хорошенькие камешки, приятные для глаз. Но что с ними делать? — Он не торопясь встал. — Идем дальше, — заявил он.
— Отлично, идем, — согласился Хортон. Он протянул изумруды Никодимусу.
— Но мы должны осмотреться…
— Попозже, — сказал Хортон. — Они никуда отсюда не денутся.
— Нам нужно произвести обследование, чтобы Земля…
— Земля более не берет в расчет никого из нас, — ответил Хортон. — Вы с Кораблем полностью это прояснили. Что бы ни случилось, чего бы ни нашли, Корабль не вернется.
— Вы говорите так, что я не могу воспринять, — пожаловался Плотоядец.
— Прости, — извинился Хортон. — Это небольшая личная шутка. Не стоит объяснять.
Они спустились по холму и пересекли еще одну долину, потом вновь поднялись на холм. На сей раз остановок на отдых не было. Солнце поднялось повыше и развеяло часть лесной угрюмости. День теплел.
Плотоядец продвигался вперед неуклюжим, но целеустремленным шагом, который, казалось, вовсе его не затруднял; Хортон пыхтел следом, а Никодимус плелся в хвосте. Глядя на их спутника, Хортон попытался составить представление о том, что за существо Плотоядец. Он, конечно, лопух — в этом сомнения никакого — но злой, способный на убийство лопух, который может стать опасен. Он казался довольно дружелюбным с его непрерывной болтовней о старом друге Шекспире, но за ним следует наблюдать. Пока что он не выказывал никаких признаков, кроме простодушно-доброго настроения. Не подлежало сомнению, что пристрастие, питаемое им к этому человеку — Шекспиру — могло быть только подлинным, хотя Хортона и глодал еще вопрос о его словах насчет съедения Шекспира. Непонимание Плотоядцем ценности изумрудов было забавным. Казалось невозможным, чтобы какая-нибудь культура не осознала ценности драгоценных камней, если то не была культура, лишенная концепции украшения.
С последнего холма, на который они взобрались, спуск вел не в долину, а в чашеобразное углубление, окаймленное холмами. Плотоядец остановился так внезапно, что Хортон, идущий следом, натолкнулся на него.
— Вот он и есть, — произнес Плотоядец, указывая рукой. — Вы можете увидеть его отсюда. Мы почти на нем.
Хортон посмотрел туда, куда он указывал. Он не видел ничего, кроме леса.
— Вот это белое? — спросил Никодимус.
— Оно, — с удовольствием подтвердил Плотоядец. — Это оно, его белизна. Я поддерживаю ее в виде чистом и белом, соскабливая растения, что пытаются возрасти на ней, и вытирая пыль. Шекспир называл ее греческой. Можете ли вы мне сказать, сэр или робот, что означает — греческий? Я осведомлялся у Шекспира, но он только смеялся, тряс головой и рассказывал, что это чересчур длинная история. Я временами думал, что он и сам не знал. Просто пользовался словом, которое слышал.
— Слово «греческий» происходит от человеческого народа, называемого греками, — ответил Хортон. — Они достигли величия много сот лет назад. Здания, возведенные так, как они их некогда возводили, называют построенными в греческом стиле. Это очень общий смысл. В греческой архитектуре много разных элементов.
— Построено попросту, — сказал Плотоядец. — Стены, дверь да крыша. Только и всего. Однако ж, хорошее обиталище для жилья. Крепкое против дождя и ветра. Вы все не видите его?
Хортон покачал головой.
— Скоро увидите, — пообещал Плотоядец. — Мы будем там очень скоро.
Они спустились по склону, и у подножия его Плотоядец снова остановился. Он указал на тропу.
— Вот сюда — домой, — сказал он. — Туда — всего шаг-другой — к ручью. Хотите добрый глоток воды?
— Я не прочь, — согласился Хортон. — Прогулочка была выматывающая. Не слишком-то далеко, зато все вверх да вниз.
Ручей изливался из склона холма в окаймленный скалами бассейн; из бассейна вода лилась крошечным журчащим ручьем.
— Вы пойдете первым, — сказал Плотоядец. — Вы мой гость. Шекспир говорил, что гости все делают первыми. Я был гостем Шекспира. Он попал сюда раньше меня.
Хортон встал на колени и оперся на руки, опустив голову, чтобы напиться. Вода была такой холодной, что словно обожгла горло. Сев, он остался на корточках, пока Плотоядец встал на четвереньки, опустил голову и пил — не по-настоящему, а лакал воду, как кот.
Сидя на корточках, Хортон впервые как следует увидел и оценил мрачную красоту леса. Деревья были толстые и даже при солнечном свете темные. Хотя деревья и не были хвойными, лес напомнил ему мрачный сосновый бор в земных северных странах. Вокруг ручья росли, протягиваясь вверх по склону холма, на котором они стояли, заросли кустов, футов трех в высоту, все кроваво-красного цвета. Он не мог припомнить, чтобы видел где-нибудь хоть один цветок или бутон, и сделал заметку в уме, чтобы спросить об этом попозже.
На полпути назад по тропе Хортон, наконец, увидел строение, которое пытался показать ему Плотоядец. Оно стояло на возвышении посреди небольшой поляны. Выглядело оно действительно по-гречески, хотя и не имело признаков архитектуры греческого или любого другого типа. Небольшое и выстроенное из белого камня, очертания простые и строгие, но отчего-то казалось, что выглядит оно, как коробка. Не было портика, не было вообще никаких излишеств — просто четыре стены, дверь без украшений и не очень высокая двухскатная крыша с маленьким коньком.
— Шекспир жил здесь, — когда я пришел, — сказал Плотоядец. — Я поселился с ним. Мы хорошо проводили здесь время. Планета эта — сущее охвостье, но счастье приходит изнутри.
Они пересекли поляну и поднялись к зданию, шагая все трое рядом. Когда оставалось всего несколько футов, Хортон посмотрел вверх и увидел нечто, ускользнувшее от него ранее — его выбеленная поверхность терялась на белизне камня. Хортон в ужасе остановился. Над дверью был прикреплен человеческий череп, ухмылявшийся им сверху.
Плотоядец увидел, на что он смотрит.
— Шекспир просит нас пожаловать, — сказал он. — Это череп Шекспира.
Глядя со страхом, как зачарованный, Хортон увидел, что у Шекспира не хватает спереди двух зубов.
— Нелегко было укрепить там Шекспира, — продолжал Плотоядец. — И нехорошее место для хранения, потому что кости скоро выветриваются и выпадают, но он так просил. Череп над дверью, сказал он мне, а кости развешать в мешочках внутри. Я сделал, как он меня просил, но то была грустная работа. Я делал ее без удовольствия, но из чувства дружбы и долга.
— Шекспир просил, чтобы ты сделал это?
— Да, конечно. Вы думаете, я это сам придумал?
— Не знаю, что и подумать.
— Таков способ смерти, — пояснил Плотоядец. — Съесть его, когда он умирает. Обязанности священника, как он объяснил. Я сделал, как он сказал. Я обещал, что не подавлюсь, и не подавился. Я крепился и съел его, несмотря на дурной вкус, до последнего хрящика. Я старательно обгладывал его, пока не остались одни только кости. Это было больше, чем я хотел бы съесть. Брюхо чуть не лопалось, но я продолжал есть, не останавливаясь, пока он весь не кончился. Я сделал это правильно и должным образом. Я сделал это со всем благочестием. Я не опозорил своего друга. У него не было друзей, кроме меня.
— Это может быть, — сказал Никодимус. — Человеческая раса могла приобрести какие-нибудь своеобразные представления. Один друг переваривает другого друга в знак уважения. Среди доисторических народов существовал ритуальный каннибализм — настоящему другу или большому человеку оказывалась особая честь его съедения.
— Так это было в доисторическое время, — возразил Хортон. — Я никогда не слыхал о современной расе…