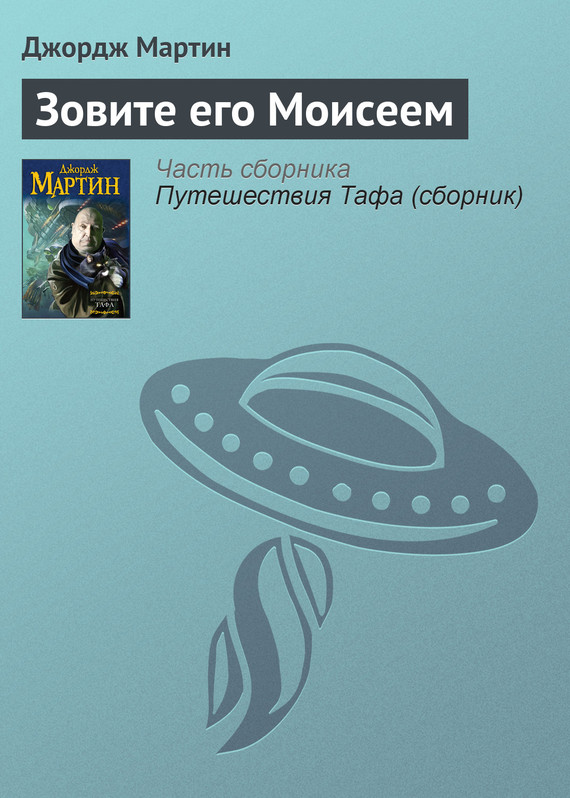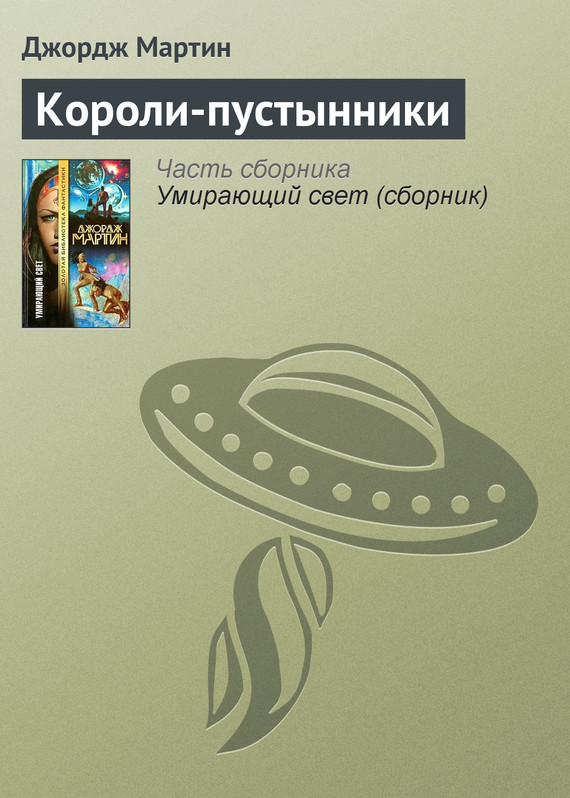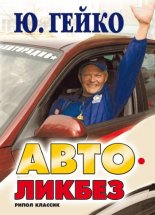Игрушка судьбы Саймак Клиффорд
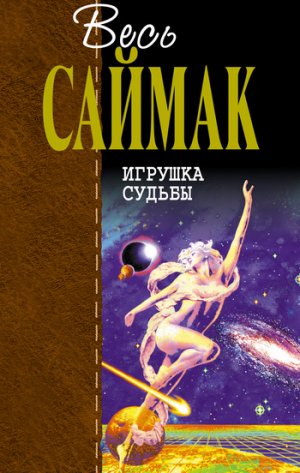
Пруд испускал ужасающую вонь, но по мере того как Хортон приближался к нему, вонь вроде бы уменьшалась. Первое слабое ее дуновение было много тошнотворнее, чем ощущение на самом берегу. А может, предположил Хортон, запах хуже всего как раз тогда, когда он рассеивается и слабеет? Может, здесь, где вонь должна бы стоять сплошняком, ее дурнотность подавляется и маскируется другими, невонючими, компенсирующими запахами?
Теперь он заметил, что пруд куда обширнее, чем показалось на первый взгляд сверху, от развалин. Поверхность стелилась ровненько, без морщинки. Береговая линия была совершенно чиста — ни кустик, ни тростинка, ни какая-либо сорная травка на нее даже не посягали. Да и как посягнешь на сплошной гранит, который лишь кое-где прикрыт мелкими ручейками песка, снесенного с холмов дождями? Очевидно, пруд заполнил какую-то чашу, выемку в скальных обнажениях. И поверхность тоже была чиста под стать берегу. Не плавало на ней ни мусора, ни пены, которых можно бы ждать в стоячей воде. Похоже, что в глубине пруда не могла существовать никакая растительность, а возможно, и вообще ничто живое. Но, несмотря на чистоту, пруд не был прозрачным. Казалось, он таит в себе некую темную хмарь. Он выглядел не синим и не зеленым, а почти черным.
Хортон замер на скальном берегу, сжимая в руке остатки мяса. В самом пруду и в принявшей его чаше сквозила какая-то невнятная угрюмость, граничащая с меланхолией, если не с испугом. Гнетущее местечко, сказал себе Хортон, хоть и не лишенное своеобразного обаяния. Здесь бы съежиться и думать думы, мрачные, болезненно-романтические. Художнику, вероятно, место показалось бы достойным того, чтобы запечатлеть на полотне не просто горное озеро в крутых берегах, а и навеваемое им ощущение одиночества, отрешенности, разлуки с реальностью.
«Мы заблудились. Мы затеряны», — так начал Шекспир длинное рассуждение в конце «Перикла». Он писал в аллегорическом смысле, но здесь, едва ли в миле от домика, где он корпел над книгой при неровном свете самодельной свечи, обитала та самая затерянность, какую он хотел передать. Он вообще написал точно, этот странный человек из иного мира. Здесь, у пруда, Хортон почувствовал с полной ясностью: люди действительно заблудились, заблудились непоправимо. Корабль, Никодимус да и он сам, вне сомнения, затерялись в безбрежности невозвращения, но ведь из того, что рассказала Элейн у костра, явствовало, что остальное человечество затерялось не менее безнадежно. Не затерялись, быть может, только те, пусть их была горстка, кто все еще жил на Земле. Как бы ни обнищала нынешняя Земля, она по-прежнему оставалась их родным домом.
Впрочем, если задуматься хорошенько, можно допустить, что Элейн и другие разведчики туннелей затеряны несколько иначе, чем все остальные. Затеряны в том смысле, что понятия не имеют, куда их занесет, на какую планету, — и ничуть не затеряны, поскольку и не нуждаются в определении своего точного местонахождения, их самодостаточность развилась до такой степени, когда они не испытывают потребности ни в знакомой обстановке, ни в себе подобных. Эти странные люди переросли потребность иметь свой дом. Но тот ли это путь, спросил себя Хортон, стоит ли добиваться победы над чувством затерянности ценой утраты потребности в собственном доме?
Подступив к самому краю воды, он швырнул мясо далеко, как только мог. Оно упало со всплеском и тут же исчезло, словно пруд принял его в дар, обволок и забрал, всосав в глубину. От места всплеска пошли концентрические круги, но берега не достигли. Рябь была подавлена. Она пробежала какое-то расстояние, а потом измельчала и прекратилась, и пруд вернулся к безмятежному покою, к черной своей разглаженности. Будто, мелькнула у Хортона мысль, пруд ценил безмятежность и не выносил длительного беспокойства.
Настала пора уходить. Он выполнил то, зачем пришел, и настала пора уходить. Однако он не ушел, а остался. Словно что-то шептало ему: «Не уходи», словно по неведомой ему самому причине приличествовало потянуть время. Как самый решительный человек может засидеться у постели умирающего друга, тайно желая уйти, чувствуя себя неуютно в присутствии подступающей смерти — и все же не уходя из опаски, что уйти слишком рано значило бы предать старую дружбу.
Он выпрямился и осмотрелся. Слева нависал взгорок, где располагался заброшенный поселок. Однако с точки, где стоял Хортон, поселка было не разглядеть — дома прятались за деревьями. Прямо за прудом стелилась, по-видимому, болотная топь, а справа виднелся конический холм, или курган, которого он до сих пор не замечал: вероятно, с обрыва у края поселка курган отчетливо не просматривался.
Курган поднимался, по примерной оценке, футов на двести над поверхностью пруда. Симметричный конус, издали почти идеальный, сужающийся к острой вершине. Чем-то конус напоминал вулкан, хотя Хортон понимал заведомо, что вулканом тут и не пахнет. Гипотезу, что это вулканический холм, он отверг не задумываясь и все же не мог бы определить почему. Там и сям к конусу прицепились одинокие деревца, а больше на кургане не было ничего, кроме поросли, отдаленно схожей с травой. Глядя на это образование, Хортон лишь озадаченно морщил лоб: на планете, повторял он себе, просто не было видимых геологических факторов, способных объяснить феномены такого рода.
Вновь обратив внимание на пруд, он припомнил слова Плотояда: это не совсем вода, это больше похоже на суп, гуще и тяжелее, чем вода. Подошел к самой кромке, присел на корточки, осторожно коснулся поверхности пальцем. Она слегка сопротивлялась, словно сила поверхностного натяжения была выше обычной во много раз. Палец не погрузился в жидкость, а вдавился в нее, и то не сразу. Хортон нажал решительнее — палец наконец одолел сопротивление. Погрузив следом всю ладонь, он вывернул ее лодочкой и медленно поднял. Теперь жидкость лежала в ладони, но даже не думала просачиваться сквозь неплотно сжатые пальцы, как просачивалась бы вода. Она оставалась вроде бы цельным куском. Бог ты мой, подумал Хортон, надо же — цельный кусок воды!
Хотя теперь-то он и сам понял, что это не вода. Странно, мелькнула мысль, что Шекспир не узнал о ней ничего, кроме того, что она похожа на суп. А может, и узнал. Записей в книге было не счесть, а он, Хортон, прочел пока лишь несколько абзацев. По словам Плотояда, Шекспир обозвал жидкость супом, однако она ничуть не напоминала суп. Она была гораздо теплее, чем можно было себе представить. И тяжелее, хоть это еще надо доказать — хорошо бы ее взвесить, но где взять весы? На ощупь она казалась скользкой. Как ртуть, хоть это конечно же была и не ртуть — в чем, в чем, а в этом можно было не сомневаться. Повернув ладонь, он позволил жидкости стечь — и ладонь оказалась сухой. Жидкость не была влажной!
Ну невероятно, сказал он себе. Жидкость теплее воды, тяжелее, с высоким коэффициентом сцепления, а главное — не влажная. Может, у Никодимуса найдется подходящий трансмог — да нет, черт с ним, с Никодимусом! У робота есть задание, а как только с заданием будет покончено, они уберутся отсюда, с этой планеты, в космос, к другим планетам, а скорее, просто в пространство, где нет никаких планет. Тогда он будет себе спать холодным сном, и его не станут больше будить. Но и такая перспектива вроде бы не слишком испугала его, хотя по логике вещей и должна бы пугать.
Наконец-то — и, наверное, впервые — Хортон согласился признать то, что ощущал душой, по-видимому, с самой посадки. Планета была никчемной. Плотояд высказался на сей счет откровенно с первой минуты знакомства — хреновая планета. Не страшная, не опасная, не отталкивающая, просто не годная ни на что. И уж, разумеется, не такая, где хотелось бы поселиться и жить.
Он попытался обосновать свой вывод, но нет, для подобного вывода вроде бы не было явных, поддающихся перечислению причин. В основе вывода была интуиция, подсознательная психологическая реакция. Возможно, вся беда сводилась к тому, что планета слишком походила на Землю — на неопрятную, халтурно вылепленную Землю. Он лично ждал от чужой планеты, что она будет чужой, а не бледной плохонькой копией Земли. Вероятно, любая другая планета была бы более приемлемой, потому что более чужой. Надо бы расспросить об этом Элейн — она-то уж должна знать. Не странно ли, подумал он, что, выйдя из туннеля, она сразу же направилась по тропинке. Не странно ли, что именно на этой планете пересеклись две человеческие жизни — и даже не две, а три, если не забывать Шекспира. Судьба покопалась в мешке с сюрпризами и наворожила им троим очутиться здесь на коротком отрезке времени — столь коротком, что они встретились или, применительно к Шекспиру, почти встретились и уж во всяком случае оказали влияние друг на друга. Элейн сейчас у туннеля с Никодимусом. Вскоре он присоединится к ним, но сперва, наверное, надо обследовать конический курган. Как обследовать, зачем, чего ожидать от такого обследования — ответить ни на один из вопросов он бы не смог. Но почему-то казалось важным поглядеть на курган поближе. Не потому ли, мелькнула догадка, что тот торчал поразительно не на месте?
Он поднялся на ноги и не спеша пошел по краю пруда, направляясь к кургану. Солнце поднялось уже довольно высоко по восточному небосводу, начало пригревать. Небо было бледно-голубым, без единого облачка. Еще подумалось: интересно, какая погода господствует на этой планете? Надо бы спросить Плотояда — тот прожил здесь достаточно долго, чтоб не затрудниться с ответом.
Обойдя пруд, Хортон добрался до подножия конуса. Склон оказался таким крутым, что пришлось опуститься на четвереньки и ползти, судорожно хватаясь за подобие травы, чтобы, не дай бог, не скатиться вниз. И все-таки на половине подъема пришлось притормозить: дыхание стало напряженным до свиста. Растянувшись на склоне во весь рост и вцепившись в почву, чтобы не соскользнуть, он вывернул голову и посмотрел на пруд с высоты. Отсюда пруд выглядел не черным, а синим: зеркальная черная гладь отражала голубизну неба. Хортон дышал так тяжело, что ему мерещилось — курган дышит вместе с ним или, быть может, в толще кургана мерно бьется чье-то исполинское сердце.
Так и не отдышавшись, он снова встал на четвереньки и в конце концов вскарабкался на вершину. Ее венчала маленькая ровная площадка, откуда было легко убедиться, что курган в самом деле представляет собой правильный конус. По всей окружности склон вздымался под тем же самым углом, что и на стороне, какую Хортон выбрал для восхождения.
Он уселся на площадке, скрестив ноги, и, всмотревшись по-над прудом в противоположный берег, различил на гребне кладку заброшенного поселка. Впрочем, контуров отдельных построек было не разглядеть, как он ни старался: любой намек на прямые линии терялся в гуще зарослей. Чуть левее виднелся домик Шекспира. От кухонного костра к небу тянулась струйка дыма, но вокруг никого не было. Плотояд, вероятнее всего, еще не вернулся со своей охотничьей прогулки. Туннель из-за неровностей почвы не просматривался отсюда совсем.
Сидя и размышляя, он машинально потянул на себя пучок травяного покрытия. Несколько травинок выдернулось — на корнях налип ил. Ил, отметил Хортон про себя, вот это смешно! Откуда здесь взяться илу? Достав складной ножик, он щелкнул лезвием и, потыкав в грунт, вырыл неглубокую ямку. Ил, сплошной ил. Можно ли заподозрить, что курган целиком сложен из ила? Что в незапамятную эпоху древняя болотная топь вспучилась наподобие гигантского донного пузыря, топь высохла, а пузырь остался на веки вечные? Обтерев лезвие, он сложил ножик и засунул обратно в карман. Интересно бы, если б хватило времени, разобраться в геологическом строении этих мест. Но, по правде сказать, чего ради? На это потребуются недели, если не месяцы, а он вовсе не расположен застревать здесь на столь долгий срок.
Поднявшись на ноги, Хортон осторожненько спустился с кургана.
У туннеля он обнаружил Элейн вместе с Никодимусом. Она присела на камень и следила за тем, как робот трудится. В руках Никодимус держал зубило и молоток. Вокруг контрольной панели уже наметилась борозда.
— Наконец-то вы вернулись, — сказала Элейн, заметив Хортона. — Что вас так задержало?
— Обследовал кое-что.
— В городе? Никодимус рассказал мне про город.
— Нет, не в городе. Да это никакой и не город.
Никодимус повернулся к Хортону, не выпуская зубила и молотка, и пояснил:
— Хочу отделить панель от скалы. Если получится, попробую залезть в механизм и разобраться в нем с тыльной стороны.
— Все, чего ты добьешься, — сказал Хортон скептически, — это перервешь провода.
— Там нет проводов, — возразила Элейн. — И вообще ничего столь примитивного, как провода.
— А может, — продолжил Никодимус, — если я высвобожу панель, то сумею отковырять защитную покрышку.
— Какую покрышку? Ты же говорил — там силовое поле.
— Не знаю я, что там такое, — признался Никодимус.
— Делаю вывод, — сказал Хортон, — что второй коробки не оказалось. Той, которая управляет защитой.
— Не оказалось, — подтвердила Элейн, — и, значит, кто-то вмешивался в конструкцию. Кто-то не пожелал, чтобы эту планету можно было покинуть.
— По-вашему, планета закрыта?
— Видимо, так. Возможно, когда-то на других туннелях были какие-нибудь знаки, предупреждающие, что селектором, выводящим на эту планету, пользоваться не следует. Но знаки давно стерлись, или они там есть, а мы не знаем, как их искать.
— Если бы вы и нашли их, — вставил рассудительный Никодимус, — то наверняка не сумели бы прочитать.
— Верно, — согласилась Элейн.
В этот момент на тропинке бесшумно возник Плотояд.
— Я прибыл со свежим мясом, — возвестил он. — Как вы тут управляетесь? Разрешили вы эту задачу?
— Нет, — бросил Никодимус и вернулся к работе.
— Долговато вы копошитесь, — заметил Плотояд.
Никодимус стремительно обернулся.
— Не висни у меня на шее! — вспылил он. — Ты меня понукаешь с тех самых пор, как я взялся за эту работу. Ты со своим дружком Шекспиром слонялся тут годами, не делая ни черта, а теперь тебе хочется, чтобы мы пустили систему в действие за какой-нибудь час или два…
— Но вы обеспечены инструментами, — захныкал Плотояд. — Обеспечены инструментами и обладаете навыками. Шекспир не располагал ни тем ни другим, я тем паче. Казалось бы, с инструментами и навыками…
— Слушай, Плотояд, — вмешался Хортон, — мы никогда не говорили тебе, что справимся. Никодимус пообещал, что попробует. Гарантий тебе никто не давал. Прекрати вести себя так, будто мы нарушаем данное тебе обещание. Никто не обещал тебе ничего.
— Возможно, лучше бы, — предложил Плотояд, — испробовать магию? Три магии, сложенные воедино. Мою магию, твою магию и, — он указал щупальцем на Элейн, — ее магию…
— Магия не поможет, — отрезал Никодимус. — Если эта самая магия вообще существует на свете.
— Магия существует, нельзя усомниться, — заявил Плотояд. — Сие не подлежит обсуждению. — И вдруг обратился за поддержкой к Элейн: — Разве ты не подтвердишь это?
— Я видела магию, — сказала она, — или то, что выдавали за магию. Иногда она как будто срабатывала. Конечно, не всякий раз.
— Чистая случайность, — изрек Никодимус.
— Нечто большее, чем случайность, — возразила Элейн.
— Послушайте, — вмешался Хортон, — почему бы нам не убраться отсюда и не дать Никодимусу возможность делать, что он считает нужным? Если, — добавил он, обращаясь к роботу, — ты не считаешь, что тебе понадобится помощь…
— Помощь мне не понадобится, — заявил Никодимус.
— Давайте пойдем осмотрим город, — предложила Элейн. — Умираю от желания его увидеть…
— Только сперва заглянем в наш лагерь и прихватим фонарик, — откликнулся Хортон. Потом запоздало справился у Никодимуса: — У нас ведь есть фонарик, не правда ли?
— Есть, — ответил Никодимус. — В походном мешке.
— А ты пойдешь с нами? — спросил Хортон у Плотояда.
— С вашего разрешения, нет. Город — то место, что бередит мне нервы. Я останусь здесь. Роботу будет со мной веселее.
— Только держи рот на запоре, — предупредил Никодимус. — Даже не дыши на меня. И не подавай советов.
— Я буду вести себя, — пообещал Плотояд смиренно, — словно меня здесь нет.
Глава 17
«Что была моя жизнь? — спросила себя светская дама. И ответила честно: — Ее заполняли заседания всяческих комиссий и комитетов. И ведь была пора, когда даже нынешняя экспедиция представлялась мне просто очередным общественным начинанием. Я твердила себе тогда: вот еще один комитет, призванный побороть страх перед экспериментом, на который я дала согласие. Комитет, призванный выразить суть эксперимента в обыденных и понятных (прежде всего мне самой) словах, с тем чтобы страху стало негде гнездиться».
Хотя, как ей припоминалось, с самого начала страх перед экспериментом не мог перевесить иного, более глубокого страха.
«И в принципе, вправе ли страх выступать движущим мотивом? — задала она себе новый вопрос. — Разумеется, в те времена я нипочем, разве что в самую откровенную минуту, не согласилась бы с тем, что страшусь. Я повторяла себе и внушала другим, что действую из чистого бескорыстия, что нет у меня иных помыслов, кроме счастья человечества. И мне верили — или, по меньшей мере, я полагала, что мне верят: подобная мотивировка и мой поступок сам по себе так ловко вязались с тем, чем я занималась всю жизнь… Меня же ценили за добрые дела, за глубокое сочувствие всем страдальцам, и напрашивался вывод, что раз я посвятила себя благотворительности в пользу людей Земли, то не остановилась и перед этим последним жертвоприношением…»
Правда, насколько она была в силах припомнить, она-то сама никогда не считала свое решение жертвенным. Однако ничуть не возражала, чтобы другие считали именно так, более того, время от времени прямо провоцировала их на такие мысли. Ибо это рисовалось столь благородным — пожертвовать собой, а ей мечталось остаться в памяти людской символом благородства и чтобы последнее ее решение венчало всю ее карьеру.
«Репутация и слава, — подумала она, — вот и все, что я ценила по-настоящему. Но, — пришлось добавить волей-неволей, — не репутация в узком кругу и не скромная слава, ибо тогда никто бы меня не заметил. А этого я снести не могла — мне хотелось, чтобы меня замечали и восхваляли. Председатель, президент, экс-президент, ответственный представитель, почетный секретарь, казначей — и так далее и тому подобное. Одна обязанность нанизывалась на другую, пока у меня не осталось ни секунды на размышления, пока каждый миг не оказался заполнен какими-нибудь делами и спешкой».
«Ни секунды на размышление? — переспросила она себя. — Так не тут ли скрывалась тайная пружина всей моей лихорадочной деятельности? Даже не погоня за почестями и славой, а просто чтобы не осталось времени размышлять? Чтобы не осталось времени вспоминать о рухнувших замужествах, о сбежавших от меня мужчинах и об углубляющейся год за годом душевной пустоте…»
Теперь она осознала четко: именно поэтому она здесь. Потому, что потерпела жизненный крах, обманув не только ожидания других, но не в меньшей степени свои собственные. И в конце пути поняла: она лихорадочно ищет то, что упустила в жизни как женщина, упустила по той причине, что не догадывалась о ценности упущенного, пока не стало слишком поздно.
И с учетом сказанного, это она сознавала тоже, нынешнее предприятие обернулось вполне успешно, хотя в прошлом ей случалось терзаться по этому поводу серьезными сомнениями.
«А я не терзался никогда, — вмешался ученый. — У меня сомнений не возникало. Ни разу».
«Вы подслушивали, — возмутилась дама с горечью. — Вы подслушивали мои мысли! Неужели у нас нет права на личную тайну? Наши личные мысли должны быть секретными. Подслушивать — очень дурной тон…»
«Мы едины, — заявил ученый, — или нам надлежит обрести единство. Нет более трех отдельных личностей, одной женщины и двух мужчин. Есть разум, единый разум. И все же мы живем порознь. Мы существуем порознь чаще, чем вместе. В этом смысле предприятие провалилось».
«Ничего подобного, — подал голос монах. — Это не провал, это только начало. У нас впереди вечность, и я, в отличие от вас, способен дать определение вечности. Весь мой земной век я жил во имя вечности и невзирая на это пребывал в подозрении, что для меня вечность недостижима. Для меня и для кого бы то ни было. Ныне я вижу, что ошибался. Мы трое обрели вечность, и если не подлинную вечность, то нечто, сопоставимое с нею. Мы уже изменились и будем меняться дальше, а в предстоящие тысячелетия, прежде чем этот материалистический корабль рассыплется в пыль, мы, вне сомнения, обратимся в вечный разум, не нуждающийся ни в Корабле, ни в биологическом вместилище, обязательном для индивидуальных разумов. Мы станем единой и самостоятельной силой, способной к вольному странствию до самых пределов вечности.
Кажется, я упоминал, что могу дать определение вечности. В сущности, это не определение, но расскажу вам красивую сказку. Понимаете, за долгие годы церковь накопила множество красивых сказок. Эта повествует о могучей горе высотой в милю и крохотной птичке. Каждую тысячу лет птичка, срок жизни которой ради поучительности не ограничен, пролетает над вершиной и, задевая ее крылом, понижает гору на бесконечно малую величину. И, пролетав над вершиной раз в тысячу лет, птичка в конце концов стесывает крылышком гору, сровняв ее с полем. Вы можете решить: стесать гору прикосновением крылышка раз в тысячу лет — на это нужен срок, равный вечности. И будете не правы. Этот срок — лишь самое начало вечности».
«Глупая сказка, — высказался ученый. — Вечность не поддается точному определению. Это всеохватывающая приблизительная концепция, для которой нельзя подыскать измерение, точно так же как нельзя подобрать измерение для бесконечности».
«А мне понравилось, — объявила дама. — Сказка оставляет приятное впечатление. Именно такие простые аллегории получались у меня всего выразительнее в речах, какие мне доводилось произносить в разных аудиториях и по разным поводам. Только не просите меня припомнить, что это были за аудитории и каковы были поводы. Я не в силах их перечислить. Однако мне хотелось бы, сэр монах, знать вашу сказку ранее.
Уверена, я нашла бы случай пересказать ее в одной из речей. Это прозвучало бы привлекательно. Это покорило бы зал».
«Все равно сказка глупая, — не сдавался ученый. — Задолго до того, как ваша птичка с неограниченным сроком жизни оставила бы на вершине даже малую отметину, гора разрушилась бы до основания под воздействием естественной эрозии».
«У вас перед нами неоспоримое преимущество, — заявил монах неодобрительно. — Вы обладаете научной логикой и руководствуетесь ею и в размышлениях, и в осмыслении собственного опыта».
«Житейская логика человечества, — провозгласил ученый, — ненадежна, как тростник. Она исходит из непосредственных наблюдений, а наши наблюдения, несмотря на целый ряд чудесных приборов, весьма и весьма ограничены. Ныне нам троим предстоит сформулировать новую логику, основанную на нашем нынешнем опыте. Не сомневаюсь, что мы найдем в так называемой земной логике множество ошибок».
«Я почти не знаю логики за пределами той, что изучалась мною как служителем церкви, — заявил монах, — а церковная логика гораздо чаще основывалась на смутных умственных построениях, чем на научных наблюдениях».
«А я, — объявила дама, — вообще не прибегала к логике, а пускала в ход набор приемов, преследующих цель продвинуть какую-то затею, которой я в тот момент была предана, хоть ныне я вовсе не уверена, что слово „предана“ правильно отражает суть дела. Мне трудновато припомнить, была ли я в самом деле предана тому или иному начинанию, которым вроде бы служила. А если честно, то меня привлекало не столько само начинание, сколько возможность с его помощью занять и удерживать какой-нибудь влиятельный пост. Хотя сегодня эти посты, так привлекавшие и радовавшие меня в свое время, кажутся мне почти пустопорожними.
Но, должно быть, в глазах общественного мнения я выдвинулась достаточно заметно — иначе меня не удостоили бы чести, выпавшей нам троим. Как только было решено, что в составе тройки должна быть женщина, предложение сделали мне. Остается предположить, что все эти бесчисленные комитеты и поручения, участие в семинарах по вопросам, о которых я не имела никакого понятия, выступления перед малыми и большими аудиториями казались кому-то достойным занятием. А теперь, когда я провела с вами столько лет и столько раз спрашивала себя, имею ли я на это право, я рада, что случилось так, а не иначе. Я счастлива быть здесь вместе с вами. Ибо иначе меня бы просто не стало. Не думаю, сэр монах, что я хоть однажды преуспела в том, чтобы всерьез поверить в ваши построения о бессмертии души».
«Разве это мои построения! — отмежевался монах. — Я и сам никогда не верил в вечное блаженство. Старался заставить себя поверить, потому что при моей профессии представлялось важным, чтоб я поверил. Однако мной владел страх смерти и, как догадываюсь, одновременно страх перед жизнью».
«Вы приняли предложение, — подытожила дама, — оттого, что страшились смерти, а я из тщеславия. Я была не в силах отказаться от почестей и знаков уважения. Чувствовала, что меня втягивают во что-то, о чем, возможно, придется пожалеть, но я слишком долго рвалась к общественному вниманию и стала органически не способной отвергнуть любое предложение, лишь бы оно было почетно. И уговаривала себя: мол, в самом крайнем случае это способ уйти из жизни с такой помпой, какая мне и не снилась».
«А теперь с вами все в порядке? — осведомился ученый. — Вы довольны, что приняли предложение, и уверены, что не совершили ошибки?»
«Я довольна, — ответила она. — Я даже начинаю забывать, и это забвение во благо. У меня был Ронни, Дуг, а потом Альфонс…»
«Это еще кто такие?» — осведомился монах.
«Те, за кого я выходила замуж. Была еще парочка других — имен не помню. Не могу не признаться, хотя в той жизни не призналась бы нипочем, что вела себя как порядочная стерва. Возможно, царственная стерва — и все равно грязная стерва».
«Сдается мне, — заметил ученый, — что все идет, как было задумано. Вероятно, немного медленнее, чем планировалось. Но еще какая-нибудь тысяча лет — и мы, кажется, сумеем стать тем, что задумано. Мы честны с собой и друг с другом, и, по-моему, это часть задуманного. Мы не могли полностью сбросить с себя старую человечью кожу за столь короткий срок. Человечество затратило два миллиона лет на то, чтобы выработать свои повадки, и их нельзя сбросить с такой же легкостью, как старую одежду».
«А вы сами, сэр ученый?»
«Что я?»
«Как насчет вас? Двое из нас наконец-то честны с собой. А вы?»
«Я? Никогда не задумывался об этом. У меня не было никаких сомнений. Любой ученый, и в особенности астроном, как я, продал бы душу за право участия в таком предприятии. В образном смысле, коль на то пошло, я ее, пожалуй, и продал. Я способствовал тому, чтобы меня включили в этот конгломерат индивидуальностей — называйте его как хотите. Я добивался, чтобы меня включили. Если понадобилось бы, я пустил бы в ход кулаки и зубы. Исподтишка, тайком я умолял влиятельных друзей поддержать мою кандидатуру. Я пустился бы во все тяжкие. Причем я не смотрел на свое участие в экспедиции как на особую честь. И не страх руководил мной, не то что вами двоими, — а впрочем, может, и страх, только иного рода. Понимаете, я старел, и мной овладевало безумное чувство, что времени почти не осталось, что оно утекает меж пальцев как песок. Да, если разобраться, какой-то страх, подсознательный страх, мог иметь место. Но прежде всего мной владела уверенность, что нельзя бесповоротно уйти во тьму, когда столько еще не сделано. Хотя ни одно из нынешних моих наблюдений, ни один из нынешних моих выводов не будут иметь для землян никакого значения — ведь я больше не землянин.
Однако, в конечном счете, не думаю, что эта оговорка могла бы повлиять на мое решение, осознай я ее заранее. Я всегда работал не для Земли, не для соотечественников, а для себя, для собственного удовлетворения. Я не гонялся за аплодисментами. Не в пример вам, дорогая леди, я предпочитал скрываться от людей. Я избегал известности, не давал интервью и не выпускал книг. Разумеется, я писал статьи для профессионалов, способных оценить достигнутые мной результаты, но ни строки, понятной широкой публике. Если подытожить сказанное, я, наверное, законченный эгоист — или был эгоистом. Я не заботился ни о ком, кроме себя самого. А ныне я рад сообщить вам, что нахожу свое положение рядом с вами очень для себя удобным. Словно мы давние друзья, хотя никогда прежде друзьями не были и, вероятно, ни одного из нас нельзя назвать другом двух других в классическом понимании слова „дружба“. Но если мы можем поладить друг с другом, то при создавшихся обстоятельствах этого довольно, чтобы говорить о дружбе».
«Ну и компания подобралась, — съязвил монах. — Самовлюбленный ученый, дамочка, жаждущая славы, и монах, который боялся всего и вся».
«Боялся? Или боится по-прежнему?»
«Больше я ничего не боюсь. Нет ничего на свете, что могло бы затронуть меня или любого из вас. Этого мы добились».
«До цели еще долгий путь, — объявил ученый. — Рано торжествовать победу. Скромнее, скромнее!»
«Я скромничал в течение всей моей земной жизни, — ответил монах. — Мне надоело скромничать».
Глава 18
— Что-то не так, — сказала Элейн. — Что-то не сходится. Нет, я не нахожу слов. Но на этой планете есть какая-то необычность, которой мы пока не обнаружили. Здесь что-то зреет, ждет своего часа — мы тут, может, и ни при чем, но что-то зреет…
Она напряглась, почти оцепенела и вдруг напомнила Хортону сеттера, с которым он, бывало, охотился на перепелок. Тот так же сосредоточенно замирал, едва учуяв что-то, но не сразу разобравшись, что именно, и принимал стойку на всякий случай, демонстрируя острую готовность. Хортон просто выждал не шевелясь, и в конце концов женщина, хоть и с заметным усилием, заставила себя расслабиться. И взглянула на него умоляющими глазами, видимо, опасаясь недоверия.
— Не смейтесь надо мной, — попросила Элейн. — Я знаю, здесь что-то есть, что-то необыкновенное. И не знаю что.
— Я не собираюсь смеяться, — ответил он. — Верю вам на слово. Но каким образом…
— Тоже не знаю. Однажды в подобной же ситуации я переступила через предчувствие. Больше не стану. Это случалось со мной и раньше, случалось много раз. Почти как внутренний голос. Как предостережение свыше.
— По-вашему, это «что-то» может быть опасным?
— Не берусь определить. Просто ощущение необычности, и все.
— Пока что мы ничего не нашли, — сказал он.
И это было, в общем, справедливо. Они обследовали три здания и нигде не нашли ничего, кроме пыли, подгнившей мебели, керамики и стекла. Для археолога, сказал себе Хортон, во всем этом, наверное, открылся бы некий смысл, но им двоим открывалась только дряхлость, пыльная, заплесневелая, назойливая дряхлость, бесполезная и угнетающая. Когда-то, в далеком прошлом, здесь обитали разумные существа, но его неподготовленное зрение не распознавало никакого намека на то, что им понадобилось здесь, на планете.
— Я часто спрашивала себя, — сказала Элейн. — Удивлялась и спрашивала. Я ведь не единственная, кому это дано. Есть и другие. То ли новая способность, то ли заново обретенный инстинкт — кто разберется? Когда люди проникли в космос и высадились на иных планетах, им пришлось приспосабливаться — как бы выразиться получше, — пожалуй, к неправдоподобному. Им пришлось развить в себе новые навыки выживания, новые привычки в мышлении, новые чувства, новую интуицию. Может, это именно чувство нового типа, новая догадливость, новый нюх. У земных пионеров, когда они продвигались в неведомые края, вырабатывалось что-то в таком роде. Допускаю, что подобной интуицией обладали и первобытные люди. Но потом настали иные времена. На устроенной и цивилизованной Земле люди перестали нуждаться в интуиции и утратили ее. Цивилизованная среда почти не оставляет места неожиданностям. Каждый знает, чего ждать. Но как только человек отправился к звездам, нужда в прежней интуиции возникла опять.
— Не оглядывайтесь на меня, — ответил Хортон. — Я ведь как раз представитель той Земли, которую вы назвали цивилизованной.
— А она в ваше время была цивилизованной?
— Чтобы ответить, надо договориться о терминах. Что, по-вашему, значит «цивилизованный»?
— Не знаю. Не встречала ни одной полностью цивилизованной планеты — в том смысле, в каком говорят о цивилизованной Земле. Или, точнее, не думаю, что встречала. В наши дни ни в чем нельзя быть уверенной. Я и вы, Картер Хортон, — люди разных эпох. Может случиться, что каждому из нас, чтобы понять другого, придется призвать на помощь все свое терпение.
— Судя по вашим словам, вы видели множество миров.
— Видела, — подтвердила она. — На нынешней своей работе. Когда попадаешь на планету, то остаешься там на день-другой, иногда чуть больше, но надолго все равно не задерживаешься. Ровно на столько, сколько нужно, чтобы провести начальные наблюдения и вкратце записать их, составить себе какое-то впечатление о том, что это за планета. Короче, чтоб узнать ее без ошибки, если окажешься там повторно. Потому что важно понять, может ли система туннелей вывести куда-то, где ты уже был. На некоторых планетах хочется побыть подольше. В кои-то веки случается попасть в действительно приятное место. Но это редкость. Чаще всего испытываешь облегчение при мысли, что можно удрать.
— Скажите мне одно, — произнес Хортон. — Я, признаться, в недоумении. Вы участвуете в этой, как вы ее называете, картографической экспедиции. А по мне она похожа на стрельбу наобум по кустам. Ваши шансы на успех — не больше одного на миллион, и тем не менее…
— Я же говорила вам, что я в экспедиции не одна, есть и другие.
— Но если б вас был даже миллион, лишь одному выпадет шанс вернуться в мир, который он уже посещал. И если лишь один человек найдет путь домой, вся затея сведется к пустой трате времени. Нужно, чтоб успеха добились минимум человек десять, прежде чем возникнет статистическая вероятность, что туннели можно нанести на карту или хотя бы начать наносить на карту.
Она смерила его холодным взглядом:
— Там, откуда вы прибыли, вы, конечно, слышали о вере.
— Разумеется, я слышал о вере. Вера в самого себя, вера в свою страну, вера в свою религию. Но какое это имеет отношение к делу?
— Вера — зачастую единственное, что нам остается.
— Вера, — сказал он, — означает, что вы допускаете возможность чего-либо, несмотря на то что вам прекрасно известно, что оно невозможно.
— Зачем так цинично? — спросила она. — И так недальновидно? И так материалистично?
— Я ничуть не циничен. Просто беру в расчет теорию вероятности. И нас никак нельзя упрекнуть в недальновидности. Напоминаю, мы были первыми, кто полетел к звездам, кто оказался способен полететь к звездам или убедил себя в том, что способен полететь, именно исходя из материалистических воззрений, которые вы, по-видимому, так презираете.
— Это правда, — согласилась она, — но я говорила вовсе не о том. Земля — одно, а звезды — совсем другое. Когда вы оказываетесь среди звезд, ценности изменяются, углы зрения тоже. Есть старое выражение: игра идет по другим правилам — кстати, вы не могли бы объяснить мне, что оно значит?
— Вероятно, это намек на какие-то спортивные соревнования.
— Вы имеете в виду дурацкие упражнения, которые когда-то были в моде на Земле?
— А что, у вас их больше нет? Никаких спортивных соревнований вообще?
— Слишком многое надо сделать, слишком многое познать. Мы не испытываем больше нужды в том, чтоб изобретать искусственные развлечения. У нас нет на них времени, а если б и было, они бы никого не заинтересовали. — Вдруг Элейн показала на строение, почти поглощенное кустами и деревьями. — Я думаю, это оно.
— Что «оно»?
— Дом, где гнездится странность. Та самая необычность, о которой я говорила.
— Войдем и посмотрим?
— Не вполне уверена, стоит ли. Сказать вам по правде, я немного боюсь. Понимаете, боюсь того, что мы там найдем.
— А что найдем, вы не догадываетесь? Вы сказали, что чувствуете необычность. Но ваше восприятие не настолько развито, чтобы по крайней мере намекнуть, что именно?
Элейн покачала головой:
— Нет, я знаю лишь, что там нечто странное. Нечто за пределами обыденности. Может быть, и страшное, хоть я не ощущаю настоящего страха. Просто какой-то толчок в мозгу и следом опасение необычного и непредвиденного. Мной владеет неприятное чувство странности, только и всего.
— Туда будет нелегко проникнуть, — заметил Хортон. — Заросли очень густые. Могу вернуться в лагерь и захватить мачете. По-моему, у нас в багаже оно было.
— Не беспокойтесь, — сказала она и расчехлила оружие, свисающее с пояса. — Это прожжет нам дорогу.
Оружие оказалось массивнее, чем выглядело в кобуре, — остроносое и довольно громоздкое оружие. Он присмотрелся внимательнее.
— Лазер?
— Вероятно, да. Точно не знаю. Не только оружие, но и инструмент. На моей родной планете это стандартная вещь. Каждый житель носит его с собой. Его можно отрегулировать, видите? — Она показала на диск, встроенный в рукоятку. — Можно собрать лучи режущим острием, можно пустить веером, как хотите. Но почему вы спрашиваете? Ведь у вас есть собственное оружие…
— Мое оружие другое, — ответил Хортон. — Довольно грубое, но эффективное, если умеешь с ним обращаться. Оно выбрасывает снаряд. Пулю. Сорок пятый калибр. Это оружие, но никак не инструмент.
— Я слышала о таком принципе, — нахмурилась Элейн. — Концепция восходит к глубокой древности.
— Может, и так, но когда я вылетал с Земли, у нас не было ничего лучшего. В руках человека умелого оружие действует точно и весьма смертоносно. Высокая начальная скорость, огромная убойная сила. Патроны заряжаются взрывчатым веществом, кажется нитроглицерином, а может, кордитом. Я не знаток химической стороны дела.
— Но никакое взрывчатое вещество, никакая химическая смесь не могли сохраниться в течение такого срока, что вы провели на корабле. Все они со временем распадаются.
Хортон взглянул на нее внимательно, удивленный ее познаниями, и согласился:
— Я не подумал об этом. Но вы правы. Разумеется, тут не обошлось без конвертора материи…
— У вас есть конвертор?
— По словам Никодимуса, да. Я сам его не видел. И вообще, честно говоря, не видел ни одного конвертора в глаза. Когда нас загнали в холодный сон, никаких конверторов материи еще не было. Их изобрели позднее.
— Еще одна легенда, — сказала она. — Утраченное искусство…
— Вовсе не искусство, а технология.
Она пожала плечами:
— Так или иначе, это утрачено. У нас нет конверторов материи. Как я и сказала — еще одна легенда.
— Ладно, — прервал ее Хортон, — так мы собираемся выяснить, что это за необычность? Или мы просто…
— Нет, мы пойдем и посмотрим, — сказала она. — Я устанавливаю самый низкий уровень излучения.
Она опустила свое устройство — из дула вырвалось бледно-голубое сияние. Заросли задымились с жутковатым шорохом, в воздухе поплыла пыль.
— Осторожнее, — предостерег он.
— Не тревожьтесь, я умею обращаться с этой штукой, — отрезала она. И было очевидно, что действительно умеет, — в кустах открылась ровная узкая тропинка, аккуратно обогнувшая попавшееся на пути дерево. — Незачем его жечь, — пояснила Элейн. — Не будем расточительны сверх необходимости.
— Все еще ощущаете это? — поинтересовался Хортон. — Эту вашу странность? И все еще не разобрались, что она такое?
— Она по-прежнему там. А что это, я не догадываюсь, точно так же как и прежде.
Женщина убрала оружие в кобуру. Засветив фонарик, Хортон вступил в здание первым.
Внутри было темно и пыльно. Вдоль стен торчала полуразвалившаяся мебель. Какая-то мелкая зверюшка пискнула, объятая ужасом, и метнулась через комнату, ускользнув смазанной тенью во тьму.
— Мышь, — предположил Хортон.
— По всей вероятности, нет, — спокойно ответила Элейн. — Мыши — это принадлежность Земли, по крайней мере так нас уверяют старые детские стишки. Например, такой: «Побежала мышка-мать, стала кошку в няньки звать…»[5].
— Выходит, детские стишки дожили до вашей эпохи?
— Некоторые дожили. Подозреваю, что далеко не все…
Перед ними была запертая дверь. Но едва Хортон толкнул ее рукой, она обрушилась за порог грудой хлама. Подняв фонарик, он осветил следующую комнату. И комната словно вспыхнула. Ослепительный золотой блеск ударил им в лица — они поневоле отступили на шаг-другой. Хортон опустил фонарик, потом стал медленно поднимать снова. Блеск появился опять, но на этот раз они сумели разобрать, что именно блестит. В центре комнаты, занимая ее почти целиком, стоял куб.
Отражение было все еще слишком ярким — пришлось снова опустить фонарик. Затем Хортон осторожно переступил порог. Теперь куб больше не отражал лучи, а, напротив, словно поглощал их, впитывал и рассеивал по всему своему объему. Казалось, что куб осветили изнутри.
В освещенном пространстве лежало, как бы ни на что не опираясь, некое существо. Существо — вот и все, что можно было сказать, более подробное описание не приходило в голову. Оно было огромным, заполняло собою куб почти без остатка, тело уходило за пределы видимости. На мгновение возникло ощущение глыбы, но не просто аморфной глыбы. В ней ощущалась жизнь, что-то в изгибе линий тела безотчетно подсказывало: глыба живая. То, что казалось головой, склонялось на то, что казалось грудью. А тело, все тело — но тело ли? — было покрыто замысловатым, будто выгравированным узором. Как рыцарские латы, мелькнула мысль, как драгоценный образчик кузнечного искусства.
Элейн, подойдя вплотную к Хортону, выдохнула восхищенно:
— Что за красота!
Хортон замер, парализованный удивлением пополам с испугом, но наконец выговорил:
— У него есть голова. Чертова бестия живая…
— Она не шевелится, — сказала Элейн. — А была бы живая, должна бы шевельнуться. Как только на нее упал свет, она бы шевельнулась.
— А может, спит?
— Не похоже, что спит.
— Она наверняка живая, — настаивал Хортон. — Вы ее чувствовали. Это и есть та странность, которую вы чувствовали. И вам по-прежнему непонятно, что это такое?
— Совершенно непонятно. Ни о чем подобном я никогда не слышала. Ни легенд, ни старых сказок. Вообще ничего. И оно такое красивое. Ужасное и одновременно красивое. Взгляните на эти изящные, сложные узоры. Это его одежда — нет, теперь я понимаю, что не одежда. Узоры на чешуе…
Хортон попытался хотя бы представить себе общие контуры тела, но потерпел неудачу. Раз за разом он начинал прослеживать какую-нибудь линию, и до поры все шло хорошо, но затем линия неизменно терялась, растворяясь в заполняющем куб золотом сиянии и путанице перевитых форм самого существа.
Тогда он попробовал подступиться к кубу на шаг ближе для более пристального осмотра — и его вдруг остановило. Остановила сама пустота. Не было совершенно ничего, что могло бы его застопорить, и все-таки он словно налетел на невидимую и неощущаемую стену. Нет, не на стену, поправил он себя. Память отчаянно забилась, стараясь подыскать сравнение, пригодное для такого случая. Но сравнение не отыскивалось, потому что остановила его сама пустота. Свободной рукой он ощупал все перед собой. Рука не обнаружила ничего, но продвинуться не смогла. Никакого физического ощущения, никакого препятствия, доступного чувствам. Будто — наконец-то сравнение пришло на ум — он натолкнулся на конец реальности и достиг точки, откуда нет дальнейшего пути. Будто некто прочертил линию и сказал: мир кончается здесь, никто и ничто не вправе превзойти сей предел. Однако, если это было так, что-то осталось недодуманным: ведь заглянуть за дозволенный предел он мог по-прежнему!
— Тут ничего нет, — заметила Элейн, — и все-таки что-то есть. Мы же видим куб и существо в кубе…
Хортон отступил на шаг, и в тот же самый момент золотистость, объявшая куб, как бы выпрыгнула из него и охватила их обоих. Они как бы сделались частью куба и существа, весь мир уплыл куда-то в золотой дымке, и на мгновение они остались вдвоем, только вдвоем, отрешенные от времени и от пространства. Элейн стояла совсем, совсем близко, и довольно было опустить глаза, чтобы увидеть заново розу, вытатуированную у нее на груди. Он потянулся к розе рукой и произнес:
— Красиво…
— Спасибо, сэр, — сказала она.
— Вы не против, что я обратил внимание на розу?
Она покачала головой.
— Я уже была почти разочарована тем, что ты ее упорно не замечаешь. Следовало бы догадаться, что она там специально для того, чтобы привлекать внимание. Роза задумана как магнит, притягивающий взгляды…
Глава 19
— Вот, полюбуйтесь, — пригласил Никодимус.
Наклонившись, Хортон различил слабенький след, выбитый зубилом по периметру контрольной панели.
— На что любоваться? Не вижу ничего особенного. Разве то, что ты ухитрился почти не сдвинуться с места.
— В том-то вся и загвоздка. Я ничего не могу сделать. Зубило вгрызается в камень на два-три миллиметра, а потом он твердеет. Будто это не камень, а металл, только самый внешний слой подъела ржавчина.
— Но это вовсе не металл!
— Совершенно верно, это камень. Я проверял и другие участки скальной поверхности. — Он показал на скалу: там и сям на ней виднелись царапины. — Повсюду то же самое. Самый верхний слой немного выветрен, а глубже, куда выветривание не добралось, камень неправдоподобно тверд. Словно молекулы связаны куда прочнее, чем положено по законам природы.
— Где Плотояд? — осведомилась Элейн. — А вдруг он знает что-нибудь на этот счет?
— Весьма сомневаюсь, — сказал Хортон.