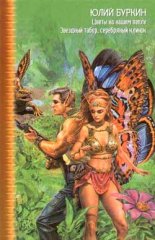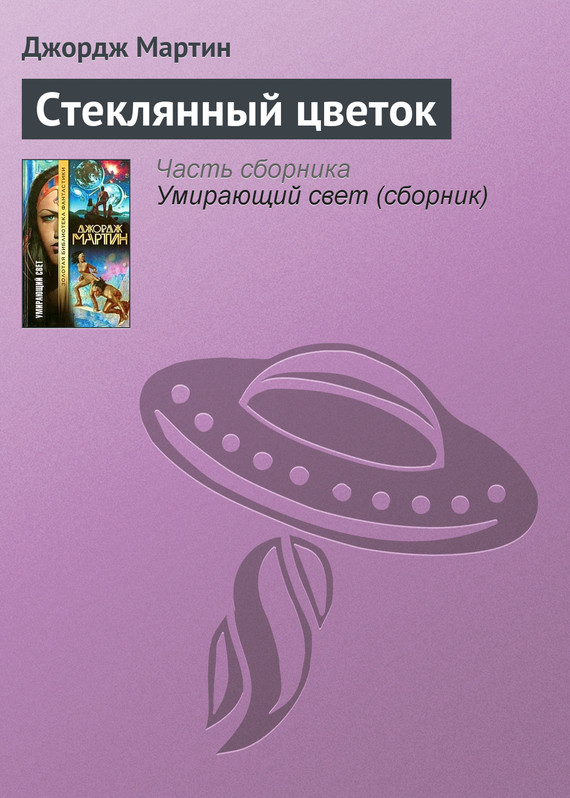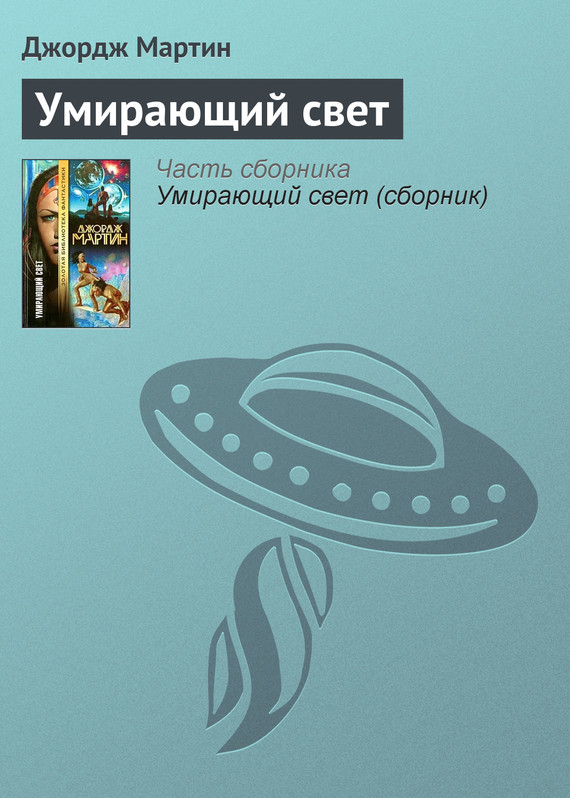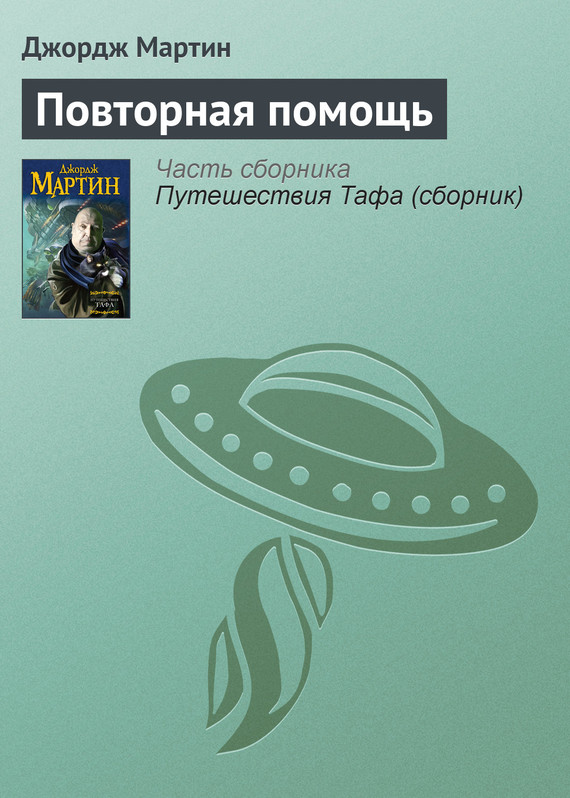Квентин Дорвард Скотт Вальтер
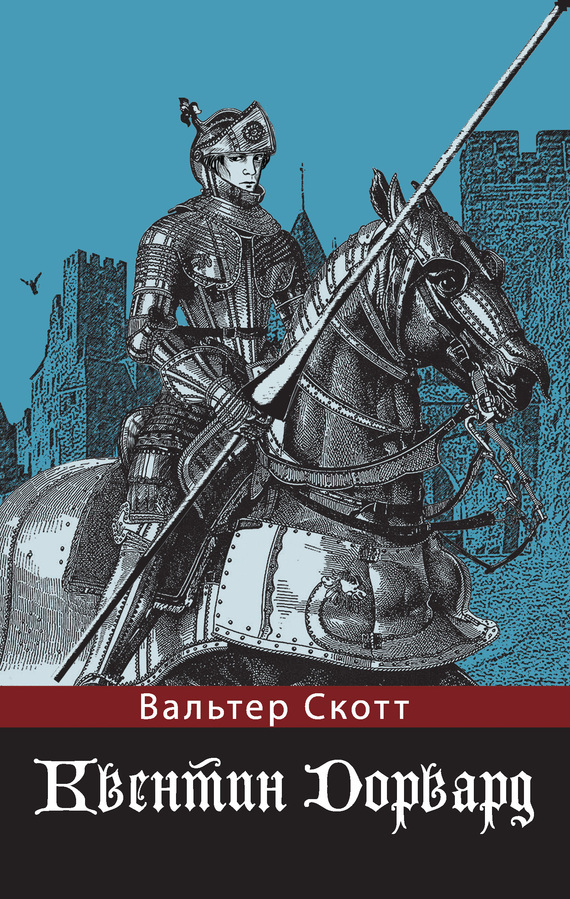
Четыре или пять огромных собак, вроде тех, которые изображены на охотничьих картинах работы Рубенса и Снайдерса189, услышав знакомые слова, которыми герцог закончил свою речь, громко залаяли, как будто в самом деле подняли вепря из логовища.
— Клянусь святым крестом, — воскликнул король Людовик, стараясь попасть в тон своему опасному родственнику, — уж если осел нарядился в кабанью шкуру, я спустил бы собак, чтобы они стянули ее с его плеч!
— Правда, правда! — закричал герцог Карл, которому это предложение пришлось как нельзя больше по вкусу. — Так мы и сделаем!.. Спустим собак!.. Иси, Тол-бот! Иси, Бомон!.. Мы погоним его от дверей замка к восточным воротам, — Надеюсь по крайней мере, что ваша светлость поступите со мной как с красным зверем и дадите мне сколько-нибудь форы? — сказал несчастный герольд, стараясь сохранить присутствие духа.
— Ты всего лишь гад и по охотничьим законам не имеешь права ни на какие льготы, — ответил герцог. — Но так и быть, я прикажу дать тебе шестьдесят ярдов вперед, хотя бы за твою беспримерную дерзость… Скорее, господа, идем смотреть травлю!
Заседание совета было неожиданно прервано; все с шумом поднялись с мест и устремились вслед за двумя государями, спешившими насладиться «человеколюбивой» забавой, придуманной королем Людовиком. Охота удалась на славу. Подгоняемый страхом и десятком разъяренных собак, которые неслись за ним по пятам под звуки рогов и крики охотников. Красный Вепрь летел как ветер, и, если бы ему не мешала герольдская мантия, самая неудобная для бега одежда, очень возможно, что ему удалось бы спастись. Раза два он очень ловко увернулся от собак, чем заслужил громкое одобрение зрителей. Но никому, даже самому Карлу, эта травля не доставила такого удовольствия, как королю Людовику, который, отчасти из политических соображений, отчасти потому, что всегда любил смотреть на человеческие страдания, если они выражались в смешной форме, хохотал до слез и даже схватился за горностаевую мантию своего врага, словно совсем обессилел от смеха. А герцог, не менее его восхищенный интересным зрелищем, в забывчивости положил руку ему на плечо, выказывая этим доверие и расположение, которое резко противоречило отношениям, установившимся между ними в последние дни.
Наконец настала минута, когда быстрые ноги герольда-самозванца уже не могли спасти его от зубов преследователей: псы нагнали его, повалили и непременно разорвали бы на куски, если бы герцог не крикнул, чтоб их отозвали.
— Убрать собак, взять на свору! Он так славно бежал, что я дарую ему жизнь!
Доезжачие бросились исполнять это приказание. Спустя минуту часть собак была сосворена, и люди погнались за остальными псами, разбежавшимися по улицам и с торжеством уносившими в зубах клочки герольдской мантии, которую не в добрый час нацепил на себя несчастный посланец.
В то время как герцог был слишком поглощен тем, что происходило перед его глазами, чтобы замечать, что делалось у него за спиной, Оливье проскользнул к королю Людовику и шепнул ему на ухо:
— Это цыган Хайраддин Мограбин… Его нельзя допускать говорить с герцогом.
— Он должен умереть, — ответил Людовик также шепотом, — мертвецы не говорят.
Минуту спустя Тристан Отшельник, которому Оливье что-то шепнул мимоходом, выступил вперед и, отвесив низкий поклон королю и герцогу, сказал своим обычным грубым тоном:
— С позволения вашего величества и вашей светлости, эта дичь по праву принадлежит мне, и я ее требую… Негодяй отмечен моей печатью: на плече у него выжжена лилия, как вы сами можете убедиться. Это известный разбойник, убивавший подданных его величества, грабивший церкви, насиловавший девушек, стрелявший дичь в королевских парках…
— Довольно, довольно! — перебил герцог Карл. — Он по праву принадлежит моему царственному кузену… Что прикажете с ним делать, ваше величество?
— Если вы отдаете его в мое распоряжение, — ответил король, — я дам ему урок геральдики, в которой он оказался таким круглым невеждой. Я объясню ему на практике значение креста с привешенной к нему петлей.
— Не того креста, который висит, но того, на котором висят?.. Хорошо, пусть пройдет этот урок под руководством вашего кума Тристана Отшельника, он ведь у вас на этот счет настоящий профессор! — подхватил герцог и разразился резким хохотом, довольный своей остротой.
Людовик так искренне ему вторил, что его противник не мог удержаться, ласково взглянул на него и сказал:
— Ах, Людовик, Людовик, какой ты веселый собеседник! Если бы бог сделал тебя таким же честным монархом! Я до сих пор не могу забыть того времени, когда мы, бывало, так веселились вдвоем.
— От вас вполне зависит вернуть то время, — ответил Людовик. — Я готов согласиться на все условия, какие вы сочтете возможным поставить мне в моем теперешнем положении, не позоря себя перед всем христианским миром, и поклянусь соблюдать их над священной реликвией, которую я всегда ношу на себе: это кусочек животворящего креста господня.
С этими словами он достал из-за пазухи маленький золотой ковчежец на цепочке того же металла, который он носил на груди, благоговейно приложился к нему и продолжал:
— Никогда еще никто не произносил безнаказанно ложной клятвы над этой святыней. Справедливая рука провидения всегда карала такой грех до истечения одного года.
— И, однако, над этой самой реликвией вы поклялись мне в дружбе, покидая Бургундию, и вскоре после того подослали ко мне этого бастарда Рюбампре, чтобы убить меня или похитить, — заметил герцог.
— Охота вам, любезный кузен, вспоминать старые ссоры! — проговорил Людовик. — К тому же даю вам слово, что вы ошибаетесь! Тогда я клялся вам совсем не на этом, а на другом куске животворящего креста, который был прислан мне турецким султаном и, вероятно, потерял часть своей силы вследствие долгого пребывания у неверных. Да, наконец, разве тогда, меньше чем через год, не разразилась междоусобная война? Разве бургундская армия в союзе со всеми великими вассалами Франции не стояла лагерем в Сен-Дени и разве я не был принужден уступить Нормандию моему брату? Нет, храни меня господь впредь от ложных клятв!
— Хорошо, любезный кузен, — сказал герцог, — я и сам думаю, что вы получили хороший урок и будете впредь лучше держать свое слово. А теперь ответьте мне прямо, без уверток: исполните вы ваше обещание и пойдете со мной, чтобы наказать этого убийцу, де ла Марка, и жителей Льежа?
— Я пойду на них со всем рыцарством Франции и с развернутой орифламмой! — ответил Людовик.
— Нет, нет, это уже лишнее и было бы даже неблагоразумно, — возразил герцог. — Достаточно будет присутствия в моем войске вашей шотландской гвардии и сотен двух отборных копий, чтобы доказать, что вы действуете вполне свободно. Слишком большая армия могла бы…
— Сделать меня действительно свободным, хотите вы сказать? — заметил король. — Пусть так. Назначьте сами число моих солдат.
— И, чтоб уж раз навсегда покончить с одним из поводов нашей распри, вы дадите ваше согласие на брак графини Изабеллы де Круа с герцогом Орлеанским?
— Любезный кузен, — ответил король, — вы подвергаете мою уступчивость слишком сильному испытанию. Герцог — объявленный жених моей дочери Жанны. Будьте великодушны, не настаивайте на этом требовании! Поговорим лучше о городах на Сомме.
— Этот вопрос ваше величество будете обсуждать с моим советом, — сказал Карл. — Я же, со своей стороны, не столько хлопочу об увеличении своих владений, сколько о возмещении нанесенных мне обид. Вы сами вмешивались в дела моих вассалов, вот теперь и улаживайте дело бургундской подданной. Ваше величество пожелали распорядиться ее судьбой — так выдайте ее замуж за члена вашей собственной королевской фамилии, иначе всякие переговоры между нами будут прерваны.
— Скажи я, что делаю это охотно, никто мне не поверит, — сказал король. — Судите же сами, кузен, как велико мое желание угодить вам, когда я скажу, что не буду ничего иметь против этого брака, если на него будет дано разрешение папы и если обе стороны будут согласны.
— А все остальное уладят между собой наши советники, — сказал герцог. — Итак, мы с вами опять друзья и кузены!
— Да будет благословенно имя господне! — ответил Людовик. — Он держит в руках своих сердца государей и в своем милосердии склоняет их к миру и великодушию, предотвращая пролитие человеческой крови!.. Оливье, — добавил он вполголоса, обращаясь к своему фавориту, который ходил за ним по пятам как завороженный, — ступай шепни Тристану, чтоб он скорее покончил с этим предателем цыганом.
Глава XXXIV. КАЗНЬ
Сведу в зеленый лес тебя,
Сам дерево укажешь нам.
Старинная баллада
«Хвала господу богу, давшему нам способность смеяться и смешить других, и срам глупцу, презирающему звание шута! Простая шутка, и притом далеко не из самых блестящих — хотя, видно, и не плохая, коли она позабавила двух монархов, — сделала больше целой тысячи политических доводов для предотвращения войны между Францией и Бургундией».
Вот к какому выводу пришел ле Глорье, когда после примирения между двумя государями, подробно описанного в предыдущей главе, бургундская стража была выведена из Пероннского замка, король выпущен из зловещей башни Герберта и, к великой радости как французов, так и бургундцев, между герцогом Карлом и его сюзереном, казалось, восстановились дружба и доверие. Но несмотря на то что королю оказывались все внешние знаки почтения, он прекрасно понимал, что продолжает быть под подозрением, хотя благоразумно притворялся, будто ничего не замечает, и держал себя совершенно непринужденно.
Между тем, как это часто бывает в подобных случаях, когда главные действующие лица уже почти закончили свои старые счеты, одна из мелких сошек, замешанных в их интригах, испытала на собственной шкуре горькую правду того политического закона, что, если великие мира сего часто пользуются низкими орудиями, они отплачивают им тем, что предоставляют их собственной участи, как только перестают в них нуждаться.
Таким орудием был Хайраддин Мограбин, которого приближенные герцога передали королевскому великому прево и которого тот, в свою очередь, сдал с рук на руки своим верным помощникам Труазешелю и Птит-Андре, приказав покончить с ним, не откладывая дела в долгий ящик. Достойные исполнители повелений прево, один как бы изображая Аллегро, другой — Пенсерозо [Аллегро — весело, Пенсерозо — грустно (итальянские слова — музыкальные термины).], в сопровождении небольшого конвоя и многолюдной толпы любопытных повели свою жертву (шествовавшую, подобно Гаррику [Гарри к Давид — великий английский актер XVIII века; памятник на его могиле изображает его между фигурами двух муз — Мельпомены (трагедии) и Талии (комедии).], в сопровождении Трагедии и Комедии) к соседнему лесу, где, во избежание лишних хлопот, решили повесить его на первом подходящем дереве.
Искать пришлось недолго. Они скоро увидели дуб, который, как шутливо заметил Птит-Андре, был вполне достоин такого желудя. Оставив преступника под охраной конвоя, палачи приступили к приготовлениям для заключительного акта драмы.
В эту минуту Хайраддин, смотревший на толпу, встретился взглядом с Квентином Дорвардом, который, как ему показалось, узнал в уличенном самозванце своего изменника-проводника и последовал за ним к месту казни, чтобы убедиться в верности своей догадки.
Когда палачи объявили осужденному, что все готово, он спокойно попросил оказать ему последнюю милость.
— Все, что угодно, сын мой, лишь бы это не противоречило нашим обязанностям, — сказал Труазешель.
— То есть все, кроме жизни? — спросил Хайраддин.
— Именно, — ответил Труазешель, — и даже больше, так как ты, по-видимому, решил сделать честь нашему ремеслу и умереть не ломаясь, как подобает мужчине… Я даже готов подарить тебе десять минут, хотя нам и приказано не мешкать.
— Вы безмерно великодушны! — сказал Хайраддин.
— Еще бы! — подхватил Птит-Андре. — Мы даже можем получить нагоняй за такое ослушание. Ну, да уж, видно, ничего не поделаешь! Я, кажется, был бы готов отдать жизнь за такого проворного, стойкого молодца, который притом же собирается спокойно выполнить последний прыжок, как и подобает честному парню.
— Так что, если тебе нужен исповедник… — сказал Труазешель.
— Или стаканчик винца… — подхватил его игривый товарищ.
— Или псалом… — сказала Трагедия.
— Или веселая песенка… — сказала Комедия.
— Ни то, ни другое, ни третье, мои добрые, сострадательные и в высшей степени расторопные друзья, — ответил цыган. — Я попросил бы вас только подарить мне несколько минут, чтобы переговорить вон с тем молодым стрелком шотландской гвардии.
Палачи были в нерешительности; но потом Труазешель вспомнил, что Квентин Дорвард, как говорили, пользовался в последнее время особой милостью короля Людовика, и разрешение было дано.
Когда Квентин подошел поближе, он содрогнулся от ужаса и жалости к несчастному, хотя ему было известно, что тот вполне заслужил свою участь. Остатки блестящего наряда герольда, изорванного в клочья зубами четвероногих и цепкими лапами двуногих, избавивших беднягу от свирепых собак, чтобы вслед за тем отправить его на виселицу, придавали ему смешной и в то же время жалкий вид. На лице его еще виднелись следы румян и остатки накладной бороды, которую он прицепил, чтобы его не узнали; смертельная бледность покрывала его щеки и губы, но в быстром взгляде блестящих глаз сквозила свойственная его племени спокойная решимость, а страдальческая улыбка выражала презрение к ожидавшей его ужасной смерти. Охваченный ужасом и горячим состраданием, Квентин медленно приближался к преступнику, и, вероятно, его чувства выразились в движениях, потому что Птит-Андре крикнул ему:
— Нельзя ли поживей, прекрасный стрелок! Этому сеньору некогда, а вы двигаетесь так, словно ступаете не по твердой земле, а по яйцам, которые боитесь раздавить!
— Я должен говорить с ним наедине, — сказал преступник, и в его хриплом голосе прозвучало отчаяние.
— Эта просьба едва ли совместима с нашим долгом, дружок мой, — ответил ему Птит-Андре. — Ведь мы с тобой старые знакомые и знаем по опыту, какой ты скользкий угорь.
— Но вы ведь связали меня по рукам и ногам, — сказал преступник. — Расставьте вокруг стражу, но только на таком расстоянии, чтоб она не могла нас услышать… Этот стрелок — слуга вашего короля, и если бы я дал вам десять золотых…
— Которые можно было бы употребить на обедни для спасения его бедной души, — вставил Труазешель.
— Или на покупку вина для подкрепления моего бедного тела, — подхватил Птит-Андре. — Ну что ж, мы согласны… Давай сюда твои золотые, приятель!
— Заткни глотки этим кровожадным псам! — сказал Хайраддин Дорварду. — Меня дочиста обобрали, когда схватили… Заплати им, ты не прогадаешь.
Квентин отсчитал палачам обещанную взятку, и оба, словно люди, привыкшие держать свое слово, удалились на приличное расстояние, продолжая, однако, внимательно следить за каждым движением преступника. Выждав минуту, чтобы дать несчастному время собраться с мыслями, и видя, что он молчит, Квентин сказал:
— Так вот к какому концу ты пришел!
— Да, — ответил Хайраддин, — не надо быть ни астрологом, ни физиономистом, ни хиромантом, чтобы предсказать, что меня постигнет общая участь моей семьи.
— Но не ты ли сам довел себя до этого целым рядом преступлений и обманов? — заметил шотландец.
— Нет, клянусь светлым Альдебараном и всеми звездами! — воскликнул цыган.
— Всему виною моя глупость: я вообразил, что кровожадная жестокость франков не распространяется на то, что, по их словам, они считают самым священным. Ряса священника спасла бы меня не больше мантии герольда. Вот оно, ваше хваленое благочестие и рыцарская честь!
— Уличенный обманщик не имеет никаких прав на неприкосновенность, даваемую званием, которое он присвоил, — заметил Дорвард.
— «Обманщик»! — повторил цыган. — Да чем же моя речь была хуже речей того старого дурака герольда? Но оставим это. Раньше ли, позже ли — не все ли равно?
— Время идет, — сказал Квентин. — Если ты хочешь что-нибудь сказать, говори скорей, а затем подумай о своей душе.
— О душе? — воскликнул цыган с резким смехом. — Неужели ты думаешь, что двадцатилетнюю проказу можно излечить в одну минуту? Если даже у меня и есть душа, она с десятилетнего возраста, а то и раньше успела пройти такие мытарства, что мне понадобился бы целый месяц, чтобы припомнить все мои грехи, да еще один, чтобы рассказать их попу! А если бы мне дали такой длинный срок, то клянусь, что я употребил бы его на другое.
— Несчастный нераскаянный грешник, перестань богохульствовать! — воскликнул Квентин с ужасом и жалостью. — Говори, что тебе от меня надо, и пусть участь твоя свершится!
— Я хочу просить тебя об одной милости, — сказал Хайраддин. — Но сперва я заплачу тебе за нее, ибо ваше племя, несмотря на свое хваленое милосердие, ничего не делает даром.
— Я бы ответил тебе — пропади ты со своими дарами, если бы ты не стоял на краю могилы, — сказал Квентин. — Говори же, что тебе надо, и оставь свои дары при себе. Я и так не забыл твоих прежних добрых услуг.
— А между тем я искренне полюбил тебя за то дело на берегу Шера, — проговорил цыган, — и хотел помочь тебе жениться на богатой. Ты носил ее цвета — это-то и ввело меня в заблуждение… И, кроме того, мне казалось, что Амелина с ее денежками была бы тебе больше под стать, чем та молоденькая куропатка с ее старым Бракемонтским гнездом, которое Карл захватил в свои когти и вряд ли выпустит теперь.
— Время уходит, несчастный! — сказал Квентин. — Торопись, они уже теряют терпение!
— Дай им еще десять золотых за десять лишних минут, — сказал преступник, который, как большинство людей в его положении, несмотря на всю свою твердость, старался оттянуть роковую минуту. — Повторяю: сколько бы ты им ни заплатил, ты ничего не потеряешь.
— Смотри же, постарайся лучше воспользоваться теми минутами, которые мне удастся купить для тебя, — сказал Квентин и отправился заключать новый торг с помощниками великого прево.
Когда дело было улажено, Хайраддин продолжал:
— Да, поверь, я желал тебе только добра, и, право, Амелина была бы тебе самой подходящей женой. Она поладила даже с таким мужем, как Арденнский Вепрь, — хотя его способ сватовства был не из деликатных, — а теперь хозяйничает в его хлеву, как будто всю жизнь питалась желудями.
— Брось эти грубые, неуместные шутки, — воскликнул Квентин, — или, повторяю, я уйду от тебя, и пусть твоя участь свершится!
— Ты прав, — ответил Хайраддин после минутного молчания, — надо уметь мужественно встречать неизбежное. Итак, знай: я явился сюда в этом проклятом наряде за большую награду от де ла Марка и надеялся получить еще большую от короля Людовика; явился не только за тем, чтобы принести Карлу вызов, который ты слышал, но чтобы сообщить королю важную тайну.
— Это был большой риск с твоей стороны — заметил Дорвард.
— Зато мне хорошо и заплатили… Что делать, не выгорело! — сказал цыган.
— Де ла Марк еще раньше пытался войти в сношения с Людовиком через Марту; но, кажется, ей удалось добиться только свидания с астрологом, которому она и рассказала все, что произошло во время нашего пути в Шонвальде. Но я думаю, эти сведения вряд ли дойдут до ушей Людовика иначе, как в виде пророчеств… Теперь выслушай мою тайну: ока важнее всего того, что могла сообщить Марта. Гийом де ла Марк собрал в стенах Льежа многочисленное и сильное войско и ежедневно увеличивает его с помощью сокровищ старого попа. Но он не намерен рисковать ни сражаясь в открытом поле с бургундскими войсками, ни, тем более, выдерживая осаду в полуразрушенном городе. Вот его план: он выждет, пока этот горячка Карл Бургундский явится под стены Льежа, беспрепятственно даст ему расположиться лагерем, а ночью сделает вылазку и ударит на него со всеми своими силами. Часть его войска будет одета во французскую форму и бросится вперед с военным кличем: «Франция, святой Людовик, Дени Монжуа!», как будто в городе находится сильный французский отряд, присланный на помощь мятежникам. Все это неизбежно вызовет замешательство в рядах бургундцев, и, если только король Людовик со своей гвардией, свитой и теми войсками, какие будут при нем, захочет ему помочь, Арденнский Вепрь не сомневается, что ему удастся наголову разбить бургундскую армию. Вот моя тайна, я дарю ее тебе. Распоряжайся ею как хочешь. Помоги или помешай осуществлению этого плана, продай секрет королю Людовику или герцогу, спасай или губи кого хочешь — мне все равно. Я жалею только об одном, что не могу сам подложить им эту бочку с порохом и погубить их всех!
— Это действительно очень важная тайна, — сказал Квентин, мгновенно понявший, как легко можно было возбудить национальную вражду в войске, состоявшем из бургундцев и французов.
— Да, очень важная, — повторил Хайраддин. — И теперь, когда она тебе известна, ты хотел бы сбежать от меня, не выслушав той просьбы, за исполнение которой я тебе заплатил.
— Говори, что тебе надо, — сказал Квентин, — и даю тебе слово сделать все, что только в моей власти.
— О, это такая просьба, что не может тебя затруднить., дело идет только о моем коне, о моем бедном Клеппере, единственном живом существе, которое почувствует мою смерть. Он пасется в двух милях к югу отсюда, у заброшенной хижины угольщика; ты легко найдешь его. Свистни только вот так, — и он свистнул особым образом, — кликни его по имени: «Клеппер!» — и он к тебе сам прибежит. Вот и его уздечка, я спрятал ее под камзолом. Счастье еще, что собаки не тронули ее, потому что Клеппер не слушается другой узды. Возьми его себе и заботься о нем… я не говорю — в память об его хозяине, но хотя бы за то, что я отдал в твои руки судьбу великой войны. Он никогда не покинет тебя в нужде: ночь или день, ведро или ненастье, овес или солома, теплое стойло или зимнее небо — Клепперу все равно… Если б только мне удалось выбраться за ворота Перонны, я бы не оказался в этом положении!.. Обещай мне, что не будешь обижать Клеппера!
— Обещаю и клянусь! — торжественно ответил Квентин, тронутый этим проблеском нежности в зачерствевшей душе.
— Так прощай! — сказал преступник. — Или нет, погоди… Я не хочу умереть невежей, не исполнив поручения дамы. Вот тебе записка от этой высокорожденной дуры, супруги Дикого Арденнского Вепря, к ее черноглазой племяннице. Вижу по глазам, что это поручение пришлось тебе по душе. Еще одно слово… чуть было не забыл тебе сказать: в моем седле ты найдешь кошелек, набитый золотом, ради которого я поставил на карту мою жизнь. Возьми его; оно сторицей вознаградит тебя за те монеты, которые ты отдал этим кровожадным псам… Я делаю тебя своим наследником!
— Я истрачу твое золото на добрые дела и на панихиды за упокой твоей души, — сказал Квентин.
— Не повторяй этого слова! — воскликнул Хайраддин, и лицо его сделалось страшным. — Души нет! Не может, не должно быть! Все это выдумки попов!
— Несчастный… несчастный грешник! — воскликнул Квентин. — Подумай, есть еще время покаяться! Позволь мне сходить за священником… Я подкуплю… я заставлю этих людей дать тебе новую отсрочку. На что ты можешь надеяться, умирая с такими мыслями… без покаяния?..
— Я хочу слиться с природой, — ответил закоренелый безбожник, прижимая к груди свои связанные руки. — Я верю, надеюсь и жду, что моя таинственная человеческая оболочка растворится в общей массе элементов, из которой природа ежечасно черпает то, что ей нужно, и возродится в новых разнообразных формах, чтобы и они, в свою очередь, исчезли и возродились. Водяные частицы моей плоти вольются в ручьи и источники; частицы земли обогатят мать свою, землю, воздушные — рассеются ветром, а огненные — поддержат блеск светлого Альдебарана и его собратий… В этой вере я жил, в ней и умру!.. Прочь! Уходи! Оставь меня в покое. Это мои последние слова. Ни один смертный не услышит больше ни звука!
Охваченный горячей жалостью к этому человеку, Квентин, однако, понимал, что не было ни малейшей надежды заставить его понять всю глубину его заблуждения. Он простился с ним, и преступник ответил ему молчаливым и угрюмым поклоном с рассеянным видом человека, углубленного в свои мысли.
Тогда Квентин направился к лесу и вскоре наткнулся на Клеппера, который действительно пасся у какой-то заброшенной хижины. Животное сейчас же подбежало на его зов, но долго не давалось в руки, фыркая и отскакивая при каждой попытке незнакомого человека приблизиться к нему. Наконец, благодаря ли умению Квентина обращаться с лошадьми или потому, что он был уже знаком с повадками Клеппера, которым часто любовался во время поездки с Хайраддином, ему все же удалось завладеть завещанной ему собственностью. Задолго до того, как он вернулся в Перонну, цыган отправился туда, где суетность его ужасной веры должна была подвергнуться последнему испытанию, страшному для человека, в душе которого нет ни раскаяния за прошлое, ни страха перед будущим!
Глава XXXV. НАГРАДА ЗА ДОБЛЕСТЬ
Во власти храбрых быть красе почетно.
«Граф Палатин»
Когда Квентин возвратился в Перонну, там заседал совет, результат совещаний которого касался его ближе, чем он, мог предполагать; хотя совет состоял из лиц такого высокого звания, что трудно было допустить, чтобы какой-то шотландский дворянин мог привлечь его внимание, тем не менее исход этого совещания имел самое неожиданное влияние на его судьбу.
После случая с послом де ла Марка король Людовик, воспользовавшись счастливой случайностью, так неожиданно возвратившей ему доброе расположение герцога, не упускал ни одной возможности закрепить восстановившиеся между ними дружбу и согласие. Теперь он совещался с Карлом или, вернее, выслушивал его приказания относительно количества и состава французского войска, которое должно было участвовать в их общем походе против Льежа. По упорству, с каким Карл настаивал на незначительном количестве и избранном составе его дружины, Людовик прекрасно видел, что этот могущественный вассал поставил себе целью заручиться со стороны Франции не столько союзниками, сколько заложниками; но, помня советы Кревкера, он соглашался на все требования герцога с такой готовностью, как будто они вполне совпадали с его собственным желанием.
Король не преминул, однако, вознаградить себя за такую уступчивость, выместив злобу на виновнике всех своих бед — кардинале де Балю, чьи советы убедили его так слепо довериться герцогу Бургундскому. Тристан, который должен был отвезти французским войскам приказ о выступлении, получил еще и другую инструкцию — препроводить кардинала в замок Лош и посадить его в одну из тех железных клеток, которые, как говорили, он сам изобрел.
— Пусть-ка испробует собственную выдумку, — сказал король. Он принадлежит к святой церкви, и мы не имеем права пролить его кровь. Но, клянусь богом, мы дадим ему лет на десять епархию с такими неприступными границами, что это вполне окупит ему недостаток простора! Смотри же распорядись, чтобы войска выступали немедленно.
Очень возможно, что своей уступчивостью в этом деле Людовик надеялся увильнуть от исполнения более неприятного для него требования, которым герцог желал скрепить состоявшееся примирение. Но если он питал такую надежду, то плохо знал характер своего родственника: не было на свете человека более упрямого, чем Карл Бургундский, особенно в тех случаях, когда он считал себя оскорбленным и действовал, побуждаемый желанием отомстить.
Едва был отправлен гонец во Францию с приказом войскам выступать, как Карл потребовал от своего гостя официального согласия на брак герцога Орлеанского с Изабеллой де Круа. С тяжелым вздохом король согласился на это требование, удовольствовавшись скромным заявлением, что, прежде чем решать дело, не мешало бы справиться, каковы на этот счет желания самого герцога Орлеанского.
— Об этом уже позаботились, — ответил Карл. — Кревкер говорил с герцогом Орлеанским. И, как это ни странно, герцог совершенно равнодушен к чести получить руку дочери короля, а на брак с графиней де Круа смотрит как на величайшее счастье и считает, что родной отец не мог бы сделать ему лучшего предложения.
— Это только доказывает его черствость и неблагодарность, — ответил Людовик. — Впрочем, делайте как хотите, любезный кузен, лишь бы вам удалось получить согласие сторон.
— О, об этом не беспокойтесь! — сказал Карл. И минуту спустя после этого разговора герцог Орлеанский и графиня де Круа (как и в первый раз, в сопровождении аббатисы монастыря урсулинок и графини де Кревкер) были призваны перед лицо двух монархов и выслушали из уст герцога Карла (которому Людовик, сидевший в глубокой задумчивости, не возразил ни слова), что союз их решен с общего согласия обоих государей, чтобы скрепить вечную дружбу, которая должна соединять Францию и Бургундию.
Выслушав эту речь, герцог Орлеанский едва мог сдержать охвативший его восторг, открытое проявление которого было бы неприлично в присутствии Людовика. И только страх, который он с детства питал к королю, заставил его ограничиться простым ответом, что он «считает своим долгом исполнить волю его величества».
— Любезный кузен мой, герцог Орлеанский, — сказал Людовик с мрачной торжественностью, — раз уж я принужден говорить о столь неприятном для меня деле, я могу сказать только следующее: мне нет надобности напоминать вам, что, высоко ценя ваши достоинства, я намеревался дать вам супругу из моей собственной семьи. Но мой родич, герцог Бургундский, полагает, что, устраивая иначе вашу судьбу, мы тем самым положим начало вечной дружбе и благоденствию наших держав. А я слишком дорожу тем и другим, чтобы не пожертвовать ради них личными надеждами и желаниями.
Герцог Орлеанский опустился на колени и поцеловал — на этот раз с искренней признательностью — руку, которую король протянул ему отвернувшись. Он, как и все присутствующие, видел, что согласие дано Людовиком против воли. Впрочем, этот хитрый лицемер на сей раз и не старался скрыть свое неудовольствие; напротив, он хотел показать, что, как король, он готов пожертвовать излюбленными планами и отеческими чувствами ради нужд и интересов своего государства. Сам Карл был искренне тронут, а в душе герцога Орлеанского шевельнулось угрызение совести за ту радость, которую он невольно испытывал при мысли, что свободен от обязательства, связывавшего его с принцессой Жанной. Если б он знал, как проклинал его мысленно король в эту минуту и какие планы мщения роились в его голове, он, вероятно, не стал бы упрекать себя за свой эгоизм.
Затем Карл обратился к молодой графине и объявил ей напрямик, что этот брак — дело решенное, не допускающее ни отсрочек, ни колебаний, хотя она и не заслужила такой милости своим прежним упорством.
— Мой герцог и сюзерен, — сказала Изабелла, призывая на помощь все свое мужество, — вы мой законный государь, и я обязана вам повиноваться…
— Довольно, довольно! — перебил ее герцог. — Все остальное мы сами беремся уладить… Ваше величество, — продолжал он, обращаясь к Людовику, — изволили сегодня принимать участие в охоте на вепря. А что вы скажете, если я предложу вам после обеда поднять волка?
Молодая графиня увидела, что ей надо на что-то решиться.
— Ваша светлость не так меня поняли, — начала она робко, но достаточно громко и твердо, чтобы заставить герцога обратить на себя внимание, в котором он охотно бы ей отказал, предвидя, что она скажет. — Долг повиновения, о котором я говорила, относится только к моим землям и замкам, пожалованным предками вашей светлости моим предкам; и я возвращаю их бургундскому дому, если мой сюзерен полагает, что отказ повиноваться ему делает меня недостойной владеть ими.
— Святой Георгий! Да знает ли эта дура, с кем она говорит?! — воскликнул герцог, с бешенством топнув ногой. — Понимаете ли вы, кто перед вами?
— Ваша светлость, — ответила Изабелла с прежней твердостью, — я знаю, что нахожусь в присутствии моего законного и, надеюсь, справедливого государя. Если вы лишите меня владений, которыми мой род обязан великодушию ваших предков, вы разорвете единственные узы, связывающие нас. Не вы дали мне это бедное тело, не вы вдохнули в него живую душу… То и другое я намерена посвятить богу в монастыре урсулинок, под руководством святой матери аббатисы.
Ярость и бешенство герцога не имели границ, а его изумление можно было бы сравнить лишь с удивлением сокола при виде голубки, машущей на него своими крылышками, чтобы защитить себя.
— Еще неизвестно, примет ли вас святая мать без всякого вклада! — проговорил он презрительным тоном.
— Если бы, приняв меня, она нанесла ущерб своей обители, — ответила Изабелла, — я надеюсь, что в числе друзей моей семьи найдутся сострадательные люди, которые вознаградят ее за доброе дело и не оставят без поддержки сироту из дома де Круа.
— Все это ложь, низкий предлог, чтобы прикрыть какую-то тайную и недостойную страсть! — сказал Карл. — Герцог Орлеанский, она будет ваша, хотя бы мне пришлось собственноручно тащить ее к алтарю!
Но тут графиня де Кревкер, женщина смелая и решительная и притом твердо уверенная в заслугах своего мужа и в благосклонности к нему герцога, не могла больше сдерживаться.
— Государь, — сказала она, — гнев заставляет вас произносить недостойные речи. Рукою дворянки нельзя распоряжаться против ее воли.
— И кроме того, вам, как христианскому государю, не подобает противиться стремлению благочестивой души, желающей покинуть грешный мир и стать невестой Христа, — добавила, со своей стороны, аббатиса.
— Да и мой кузен, герцог Орлеанский, не может с честью настаивать на своем предложении, после того как он получил формальный отказ, — заметил Дюнуа.
— Если бы мне дали время… — начал герцог Орлеанский, ветреное сердце которого было сильно задето красотой Изабеллы, — если бы мне дали время убедить графиню и показать себя в более благоприятном свете…
— Ваше высочество, — перебила его Изабелла, решимость которой поддерживало общее сочувствие, — это совершенно бесполезно. Я твердо решила отказаться от этого брака, хотя и сознаю, какая это была бы для меня великая честь.
— Да и мне, сударыня, некогда ждать, пока переменится ваш каприз вместе со следующей фазой луны, — сказал герцог Карл. — Людовик Орлеанский, ручаюсь вам, что не дальше как через час Изабелла даст свое согласие.
— Только не в мою пользу, государь, — ответил французский принц, понимавший, что он уже не может воспользоваться настойчивостью Карла, не унижая своего достоинства. — Для сына Франции достаточно один раз получить формальный отказ; он не может больше настаивать.
Карл свирепо взглянул сперва на герцога Орлеанского, потом на Людовика и, прочитав на лице последнего выражение скрытого торжества, пришел в неистовую ярость.
— Пиши! — крикнул он своему секретарю. — Пиши наш приговор о конфискации владений и заключении в тюрьму этой дерзкой ослушницы! В Цухтхауз ее, в исправительный дом, в общество разгульных женщин, которые не уступят ей в наглости!
Поднялся общий ропот.
— Ваша светлость, — сказал наконец граф де Кревкер, решившись выразить общее мнение, — такой приговор требует более зрелого размышления. Мы ваши верные слуги, но мы не можем допустить, чтобы вы запятнали подобным бесчестьем бургундское дворянство и рыцарство. Если графиня провинилась — накажите ее, но пусть это наказание не позорит ее и наше звание и не заставляет нас краснеть за кровное родство и дружеские связи с ее домом.
Герцог с минуту молчал и глядел прямо в лицо говорившему, как бык, которого пастух заставляет свернуть с избранной им дороги и который стоит, размышляя, покориться ли ему или поднять дерзкого на рога. Однако благоразумие на этот раз пересилило гнев. Карл видел, что де Кревкер выразил общее мнение, и боялся дать в руки Людовику те выгоды, которые он, несомненно, мог бы извлечь из недовольства бургундских вассалов; к тому же очень возможно, что он и сам устыдился своего неблагородного поступка, так как, несмотря на всю свою грубость и вспыльчивость, был вовсе не зол.
— Ты прав, Кревкер, — сказал он, — я поступил необдуманно. Мы назначим ей наказание согласно рыцарским законам. Ее побег в Льеж был сигналом к убийству епископа — так пусть же тот, кто отомстит за его смерть, кто принесет нам голову Дикого Арденнского Вепря, получит право просить у нас ее руки! Если же она и на этот раз откажется нам повиноваться, мы отдадим победителю ее земли и все ее имущество, и уж тогда будет зависеть от его великодушия уделить ей сколько он захочет для поступления в монастырь.
— Ваша светлость, — сказала графиня, — вспомните, что я дочь графа Рейнольда, старого, верного друга вашего покойного отца. Неужели же вы сделаете из меня приз для того, кто лучше владеет мечом?
— Ваша прабабка была завоевана на турнире, — ответил герцог, — а из-за вас будут драться в настоящем бою. Из уважения к памяти покойного графа Рейнольда я объявляю: чтобы получить приз, победитель должен быть непременно дворянином хорошего рода и незапятнанной репутации, но, будь он хоть беднейшим воином, когда-либо носившим меч, он получит по крайней мере право просить вашей руки. Клянусь в этом святым Георгием, моей герцогской короной и орденом, который я ношу!.. Ну что, господа, — добавил он, — надеюсь, что теперь мое решение соответствует законам рыцарства?
Возражения Изабеллы потонули в громких возгласах одобрения, между которыми особенно выделялся голос старого лорда Кроуфорда, сожалевшего, что годы его не позволяют ему преломить копье за такой прекрасный приз. Герцог был очень польщен всеобщим одобрением, и гнев его постепенно улегся, как река, которая после разлива снова вступает в свое русло.
— Но неужели мы, которым судьба уже дала жен, должны оставаться праздными зрителями этой славной борьбы? — сказал де Кревкер. — Это было бы противно моей чести: я дал обет снести голову этому зубастому зверю де ла Марку!
— Не унывай, Кревкер, — сказал ему герцог. — Коли и руби, выигрывай награду и, если сам не можешь ею владеть, уступи ее кому хочешь… ну, хоть своему племяннику.
— Благодарю, государь, — ответил де Кревкер. — Я постараюсь сделать все, что в моих силах, и, если мне посчастливится, тогда уж пусть Стефан побеждает своим красноречием мать аббатису.
— Надеюсь, что французские рыцари не будут устранены от участия в этом состязании? — спросил Дюнуа.
— Сохрани бог, храбрый Дюнуа, — ответил герцог, — хотя бы уже ради удовольствия видеть, как они умеют драться. Я ничего не имею против того, чтобы графиня Изабелла вышла за француза, но, разумеется, с условием, чтобы будущий граф де Круа сделался подданным Бургундии.
— В таком случае я отступаю, — сказал Дюнуа. — Мой герб никогда не украсится короной графов де Круа: я француз, французом и умру. Но, если я отказываюсь от награды за славное дело, я не откажусь от самого дела.
Разумеется, Меченый не посмел подать свой голос в таком блестящем собрании, но и он пробормотал себе под нос:
— Ну, Сондерс Суплджо, вывози, брат, своих! Ты всегда говорил, что женитьба доставит благоденствие нашей семье; пользуйся же случаем сдержать свое слово — лучшего тебе никогда не дождаться.
— А обо мне никто и не вспомнит, — ввернул свое слово ле Глорье, — а между тем я убежден, что отобью приз.
— Верно, мой мудрый друг, — сказал ему Людовик. — Там, где замешана женщина, величайший дурак имеет больше всего шансов на победу.
Пока государи и их приближенные забавлялись шутками по поводу судьбы Изабеллы, аббатиса и графиня де Кревкер, с которыми она вышла из зала, тщетно пытались утешить ее. Аббатиса старалась ее убедить, что пречистая дева никогда не допустит помехи в исполнении искреннего обета, данного святой Урсуле; а графиня де Кревкер нашептывала ей более земные утешения, уверяя, что ни один истинный рыцарь, став победителем, никогда не воспользуется своим правом на ее руку против ее воли и что, наконец, он может заслужить ее расположение и она добровольно покорится желанию герцога. Любовь, как и отчаяние, хватается за соломинку; и как ни далека, как ни слаба была надежда, подсказанная Изабелле графиней де Кревкер, она стала рыдать не так горько, когда вдумалась в ее слова.
Глава XXXVI. ВЫЛАЗКА
На смерть несчастный
Обречен,
Но верит он надежде.
Мечтает о спасенье он
Еще сильней, чем прежде.
Горит она, огнем свечи
Дорогу озаряя,
И тем ясней ее лучи,
Чем гуще мгла ночная.
Голдсмит
Прошло несколько дней, и наконец Людовик с улыбкой удовлетворенной мстительности выслушал известие, что его любимец и советник кардинал де Балю уже стонет в железной клетке, устроенной таким образом, что он не может даже выпрямиться и не находит отдыха ни в каком положении, и где, кстати сказать, он провел около двенадцати мучительных лет. Вспомогательные французские войска, вызванные по желанию герцога, пришли, и Людовик утешался мыслью, что хоть они и слишком малочисленны, чтобы противостоять огромной бургундской армии, но все-таки достаточно сильны, чтобы защитить его особу от насилия. Кроме того, он с радостью видел, что может со временем воскресить свой излюбленный план брака дочери с герцогом Орлеанским; хотя он и чувствовал всю унизительность своего положения как сюзерена, вынужденного, вместе со своими знатнейшими вельможами, стать под знамена собственного вассала и идти против людей, которых он сам подстрекал к мятежу, однако это мало смущало его, ибо он возлагал все надежды на будущее.
— Удача может взять одну ставку, — говорил он верному Оливье, — но только терпение и мудрость выигрывают игру.
С такими мыслями в один прекрасный день в конце лета король сел на коня и, равнодушный к тому, что участвует в торжественном шествии войск скорее в качестве трофея победителя, чем в качестве самостоятельного государя, выехал, окруженный своей гвардией и рыцарством, из готических ворот Перонны, чтобы присоединиться к бургундской армии, которая готовилась выступить в поход против Льежа…
Множество знатных дам, бывших в то время в Перонне, разодетых в пышные наряды, теснились на наружных укреплениях замка, чтобы взглянуть на воинов, выступавших в поход. Сюда же графиня Кревкер привела Изабеллу, несмотря на все ее отговорки: Карл настоятельно потребовал, чтобы та, чья рука была назначена наградой победителю сражения, показалась рыцарям, желавшим участвовать в нем.
Когда блестящие ряды войск выходили из-под арки ворот, можно было видеть множество рыцарских знамен и щитов, украшенных новыми девизами, свидетельствующими о намерении их обладателей сразиться за столь драгоценную награду. На одном ратный конь несся как ветер к призовому столбу; на другом пущенная стрела летела к цели; у одного рыцаря на щите было сердце, истекающее кровью, что должно было изображать его страсть; у другого — череп, увенчанный лавровым венком, говорившим о твердом решении рыцаря победить или умереть. Было тут и еще множество разных девизов, до того замысловатых и хитроумных, что они могли поставить в тупик самого искусного толкователя. Нечего, я думаю, и говорить, что каждый рыцарь заставлял гарцевать своего коня и принимал самую молодецкую позу, проезжая мимо пестрой толпы прелестных дам и девиц, приветствовавших воинов улыбками и махавших им платками и покрывалами. Шотландские стрелки, набранные в большинстве из цвета шотландского народа, вызвали всеобщий восторг своей красотой и пышным нарядом.
И вот один из этих чужеземцев осмелился публично заявить о своем знакомстве с графиней Изабеллой, чего не решился сделать ни один из самых знатных французских рыцарей. Это был Квентин Дорвард. Проезжая мимо дам, он подал Изабелле на конце своего копья письмо от ее тетки — Клянусь честью, — воскликнул граф де Кревкер, — дерзость этого выскочки переходит всякие границы!
— Вы несправедливы к нему, Кревкер, — сказал Дюнуа. — Я свидетель, что он проявил благородство и храбрость, защищая графиню.
— Вы поднимаете слишком много шуму из-за пустяков, — проговорила Изабелла, краснея от смущения и досады. — Это письмо от моей бедной тетушки; письмо довольно веселое, хотя положение ее должно быть ужасно.
— Поделитесь же с нами новостями, которые вам сообщает супруга Дикого Вепря, — сказал Кревкер.
Графиня Изабелла прочла письмо, в котором ее тетка, совершившая столь необдуманный шаг, старалась, по-видимому, утешить себя и оправдать свой сумасбродный поступок в глазах других, уверяя, что она совершенно счастлива быть женой одного из храбрейших людей своего века, завоевавшего княжество личной отвагой. Она умоляла племянницу не судить ее Гийома (как она его называла) по слухам, но подождать, пока она лично с ним не познакомится. Конечно, и у него есть свои недостатки, но недостатки, свойственные всем мужественным характерам, которые она всегда обожала. Гийом любит выпить лишнее, но и один из ее собственных предков, благородный граф Годфруа, имел эту же слабость. Гийом немного вспыльчив и суров, но разве не таким же был ее блаженной памяти брат, граф Рейнольд? Он резок на язык, но таковы и все немцы; немного самовластен и крут, но разве это не общий недостаток всех мужчин? Все они любят приказывать… и так далее в том же роде. Графиня заканчивала письмо советом племяннице вырваться из-под ига бургундского тирана и выражала надежду скоро увидеть ее в Льеже, при дворе любящей родственницы, где существующие между ними маленькие разногласия по вопросу о наследовании графства де Круа могут быть легко и скоро улажены браком между нею, Изабеллой, и графом Эберсоном; он, правда, моложе своей будущей невесты, но это неравенство (как утверждала графиня Амелина по собственному опыту) — вовсе не такая ужасная вещь, как, может быть, думает Изабелла…190 Здесь графиня Изабелла прервала чтение, так как аббатиса заметила строгим тоном, что все это суета сует, а Кревкер воскликнул:
— Лживая ведьма! Все ее приманки отдают гнилью, как испорченный сыр в крысоловке. Стыд и срам старой дуре!
Графиня де Кревкер с достоинством сделала замечание мужу по поводу его несдержанности.
— Очень возможно, — сказала она, — что графиня Амелина была введена в заблуждение напускной любезностью де л а Марка.
— «Любезностью де ла Марка»! — воскликнул граф. — Нет, я снимаю с него всякое обвинение в подобном притворстве. От него можно ждать любезности не больше, чем от настоящего дикого вепря, так же как можно надеяться отполировать до блеска кусок старого, перержавленного железа. Нет, хоть она и дура, но все же не такая гусыня, чтобы влюбиться в поймавшую ее лису, да еще в ее же собственной норе. Но вы, женщины, все на один лад, вам бы только высокопарные фразы… Вот и теперь я убежден, что моя прелестная кузина уже горит нетерпением попасть в рай своей полоумной тетки и выскочить замуж за это отродье вепря.
— Я не только не способна на такую глупость, — возразила Изабелла, — но теперь вдвойне хотела бы отомстить убийце почтенного епископа: это освободило бы бедную тетушку из рук негодяя!
— Вот теперь я слышу голос настоящей де Круа! — воскликнул герцог, и о письме больше не было речи.
Но мы должны заметить, что, читая друзьям письмо своей тетки, Изабелла не сочла нужным поделиться с ними содержанием постскриптума, в котором графиня Амелина, чисто по-женски описывая свои занятия, сообщала племяннице, что начала вышивать мужу прелестный камзол с соединенными гербами де Круа и де ла Марка, разделенными вертикально, но что теперь принуждена на время оставить эту работу, так как ее Гийом из политических соображений намерен в предстоящей битве уступить свою одежду и вооружение кому-нибудь из своих приближенных, а надеть герб Дюнуа с полосой на правой стороне. Кроме того, в письмо был вложен небольшой клочок бумаги с несколькими строчками, написанными другой рукой; о нем графиня также не сочла нужным упомянуть, ибо в нем стояли только следующие слова: «Если вам вскоре не возвестит обо мне труба славы, считайте меня мертвым, но не недостойным».
Мысль, которую Изабелла гнала до сих пор от себя, как дикую и нелепую, овладела ею теперь с удвоенной силой. Женский ум всегда найдет способы действовать, и Изабелла распорядилась так ловко, что, прежде чем войска выступили в поход, Квентин Дорвард получил обратно письмо графини Амелины с отмеченными тремя крестами постскриптумом и следующей припиской: «Тот, кто не испугался герба Дюнуа, когда он украшал своего доблестного владельца, не отступит перед ним, увидев его на груди тирана и убийцы».
Тысячи раз молодой шотландец осыпал поцелуями и прижимал к груди драгоценные строки, указывавшие ему путь к счастью и славе, открывавшие ему тайну, не известную никому, кроме него одного, и дававшие ему возможность узнать того, чья смерть — и только она одна — могла дать жизнь его надеждам. Разумеется, он принял благоразумное решение скрыть от всех эту драгоценную тайну в своей груди.
Но он считал необходимым поступить совершенно иначе с сообщением Хайраддина о предполагаемой вылазке де ла Марка, ибо, если бы против нее не были вовремя приняты меры, она могла бы погубить всю осаждающую армию — так трудно было войску в те времена, когда война велась еще очень беспорядочно, оправиться от неожиданного ночного нападения. Итак, поразмыслив хорошенько, Квентин решил передать это известие не иначе, как лично, и непременно обоим государям вместе. Быть может, он понимал, как опасно было выдать тайну одному Людовику, для шаткой совести которого она могла бы представить слишком сильный соблазн и побудить его помочь осуществлению предательского замысла, вместо того чтобы предотвратить его. Как бы то ни было, Квентин решил сообщить свою тайну обоим государям и для этого выждать первого случая, когда они будут вместе, что могло произойти и не особенно скоро, так как ни тот, ни другой не находили большого удовольствия в стеснявшем их обществе друг друга.
Между тем войска продолжали двигаться вперед и вскоре вступили в Льежский округ. Здесь бургундская армия или по крайней мере та ее часть, которая состояла из беспорядочных отрядов, получивших от населения кличку «головорезы», доказала своим обращением с жителями, действуя под предлогом мести за смерть епископа, что она вполне заслужила свое славное прозвище. Такое поведение сильно повредило делу Карла: мирные жители, которые, вероятно, не стали бы вмешиваться в эту войну, принуждены были взяться за оружие ради собственного спасения. Они сильно затрудняли движение армии, нападая на отдельные отряды, и наконец, отступая перед ее главными силами, достигли Льежа и присоединились к его мятежным горожанам, увеличив ряды защитников города, твердо решивших отстаивать его. Напротив, немногочисленное французское войско, состоявшее из отборных солдат, все время держалось своих знамен по приказанию короля и соблюдало самую строгую дисциплину. Такой резкий контраст не мог не броситься в глаза Карлу, который решил, что французские солдаты ведут себя скорее как друзья Льежа, чем как союзники Бургундии, и это усилило его подозрительность.
Наконец, не встретив на пути серьезных препятствий, союзная армия достигла богатой долины Мааса, расстилающейся вокруг большого и многолюдного города Льежа. Здесь союзники убедились, что Шонвальдский замок снесен до основания, и узнали, что Гийом де ла Марк, которому нельзя было отказать в знании военного дела, сосредоточил в городе все свои силы и намерен избегать встречи с врагом в открытом поле. Вскоре осаждавшим пришлось на опыте убедиться, как опасна осада большого, хотя бы и не укрепленного города, когда жители его решили мужественно защищаться.
Часть бургундского авангарда при виде огромных проломов в стенах города вообразила, что взять его не представит никакого труда, стоит только войти в него и, ворвалась в одно из предместий с криком: «Бургундия! Бургундия! Бей их!.. Все наше!.. Будете помнить Людовика де Бурбона!» Но когда солдаты в беспорядке рассыпались по узким улицам, собираясь начать грабеж, из города неожиданно вышел большой вооруженный отряд и яростно напал на грабителей. Войско де ла Марка, воспользовавшись проломами в стенах, вышло из города в нескольких пунктах одновременно, вошло в предместье с разных сторон и напало на врагов и с фронта, и с флангов, и с тыла. Ошеломленные внезапным и сильным нападением, бургундцы почти не защищались, а наступившая ночь произвела еще большее смятение в их рядах.
Когда весть о случившемся дошла до герцога Карла, он пришел в неистовую ярость, которую нимало не смягчило предложение Людовика послать в предместье французов на помощь бургундскому авангарду. Резко отклонив это предложение. Карл решил идти сам во главе своей гвардии выручать передовой отряд; но д'Эмберкуру и Кревкеру удалось уговорить его предоставить это дело им. Два знаменитых военачальника немедленно двинулись к месту действия с двух противоположных сторон в должном боевом порядке и вскоре отбросили льежцев и освободили свой авангард, потерявший, не считая пленных, восемьсот человек убитыми и ранеными, в том числе до ста рыцарей. Впрочем, пленных оказалось очень немного: д'Эмберкуру удалось освободить большую их часть и овладеть предместьем, где он немедленно расставил сильные караулы против города, от которого предместье отделялось открытой, несколько наклонной площадью, или эспланадой, в пятьсот — шестьсот ярдов шириной, служившей для целей обороны. Так как почва в этом месте была очень камениста, то между предместьем и городом не было рва и городские ворота выходили прямо на площадь, а неподалеку в стенах были две большие бреши, пробитые после Сен-Тронской битвы по приказанию герцога Карла. Теперь они были только наскоро забаррикадированы мятежниками. Как ворота, так и эти бреши были очень удобны для вылазки; поэтому д'Эмберкур распорядился поставить против тех и других по две пушки, а затем вернулся к бургундцам, которых нашел в полнейшем беспорядке.
Дело в том, что главный корпус и арьергард многочисленной армии герцога продолжали двигаться вперед, тогда как разбитый авангард бросился назад; беглецы столкнулись со своими и произвели в их рядах сильное замешательство. Отсутствие д'Эмберкура, исполнявшего при армии обязанности генерал-квартирмейстера, еще усилило беспорядок; в довершение всех этих бед настала черная, непроглядная ночь, пошел крупный дождь, а место, на котором должна была расположиться лагерем союзная армия, было болотистое и все перерезано каналами. Трудно представить себе хаос, царивший в бургундской армии, где начальники не могли найти своих солдат, а солдаты тщетно разыскивали своих начальников и знамена. Каждый, от самого знатного рыцаря до последнего воина, искал себе пристанища где только мог; израненные и измученные беглецы тщетно взывали о помощи, а те, что шли в арьергарде, не подозревая о бедствии, постигшем их товарищей, спешили вперед, чтобы успеть принять участие в разграблении города.
Возвратившись, д'Эмберкур увидел, что ему предстоит нелегкая задача, которая оказалась для него еще более трудной из-за несправедливых упреков его господина, не хотевшего считаться с тем, что он был занят более неотложным делом. Наконец грубость герцога вывела благородного рыцаря из терпения.
— Я отправился на выручку авангарда, — сказал он, — и оставил армию под предводительством вашей светлости. А теперь, вернувшись, нахожу ее в таком беспорядке, что и фронт, и, фланги, и арьергард — все смешалось в одну кучу.
— Что ж… значит, мы похожи на бочонок с сельдями, — сказал ле Глорье. — Сходство вполне естественное для фламандской армии.
Эта шутка рассмешила герцога и, быть может, предотвратила ссору между ним и его лучшим военачальником.
С большим трудом удалось наконец занять небольшую виллу, или загородный дом, какого-то богатого льежского горожанина и очистить его от жильцов для герцога и его свиты. Д'Эмберкур и Кревкер распорядились выставить у дома почетный караул из сорока человек, которые, разрушив надворные постройки, развели из них огромный костер.
Влево от этого дома, между ним и предместьем, стоял другой загородный дом, окруженный двором и садом, позади которого находились два или три небольших огороженных участка. Здесь французский король расположился со своей главной квартирой. Сам он никогда не претендовал на знание военного дела и считал себя воином лишь в той мере, в какой ему давали на то право его проницательный ум и презрение к опасности; но он удивительно умел выбирать людей и знал, когда и в чем можно было на них положиться. Итак, этот второй дом был занят Людовиком и его свитой; часть его шотландской гвардии разместилась во дворе, в надворных строениях и под навесами, защищавшими людей от непогоды; остальные расположились прямо в саду. Прочие французские войска были расставлены поблизости, в полном боевом порядке.
Дюнуа и Кроуфорду с помощью нескольких старых офицеров и солдат, среди которых Меченый выделялся своим усердием, удалось, засыпав рвы, разрушив стены и проломив изгороди, установить сообщение между всеми частями войск на случай тревоги.
Между тем король счел необходимым отправиться без долгих церемоний в главную квартиру герцога Бургундского, чтобы выяснить дальнейший план кампании и узнать, какого содействия ожидает Карл от французских войск.
Прибытие короля подало мысль созвать нечто вроде военного совета, о чем бы он по всей вероятности, и не подумал.
Тут-то Квентин Дорвард и потребовал, чтобы ему разрешили предстать перед лицом государей, заявив, что он должен сообщить им весьма важную тайну. Разрешение было получено без особого труда, и каково же было удивление Людовика, когда он выслушал краткий, но вполне ясный рассказ Квентина о намерении де ла Марка сделать вылазку и напасть на осаждающих под французскими знаменами и под видом французских солдат. По всей вероятности, Людовику было бы гораздо приятнее выслушать это важное сообщение наедине, но, так как тайна была открыта перед герцогом и его свитой, он мог только заметить, что «верно или ложно это известие, оно, во всяком случае, заслуживает серьезного внимания».
— Ничуть не бывало! — проговорил герцог небрежно. — Если бы подобный план действительно существовал, я бы узнал о нем не от шотландского стрелка.
— Как бы то ни было, — ответил на это Людовик, — прошу вас, любезный брат, и ваших начальников помнить, что, во избежание печальных последствий подобной атаки, я прикажу моим солдатам на всякий случай перевязать обе руки белыми шарфами… Дюнуа, присмотри, чтобы мое приказание было немедленно исполнено… Разумеется, — добавил он, — если наш брат и предводитель не имеет ничего против.
— Ровно ничего, если только французское рыцарство не побоится получить прозвище рыцарей ордена «Женской Рубашки».
— Что ж, прозвище вполне подходящее, друг Карл, — сказал ле Глорье, — если принять во внимание, что наградой за храбрость назначена женщина.