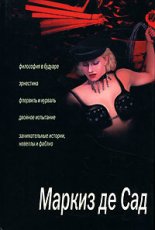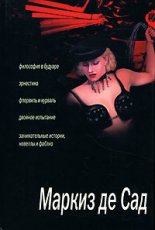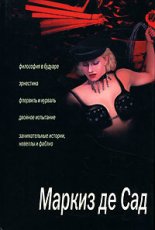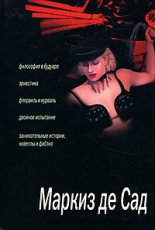Вместо любви Колочкова Вера
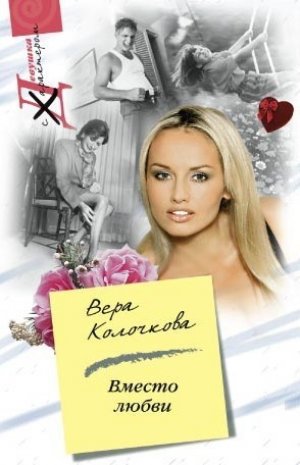
– Мам, а он теперь всегда с нами будет жить, да?
– С чего ты взяла? Нет, конечно. Мы с дядей Родионом просто друзья, он меня выручает так. Тебя вот встретил…
– Да? Жаль. Жаль, что просто друзья. Ладно, передаю ему трубку…
– Ин, ты держись там как-то, ладно? Я понимаю, что тяжело, но ты держись. И ни о чем не беспокойся – здесь все у тебя идет своим чередом.
– Так уж и своим? Что-то не верится даже. Анька вон чудеса какие-то рассказывает…
– Да никаких чудес нет. Все обычно. Как и должно быть. Я так понял, ты послезавтра приедешь?
– Ага. Постараюсь. Очень домой хочу.
– Давай. Я тебя встречу. Как сядешь в поезд, позвони. Ну, пока?
– Пока, Родька. Спасибо тебе.
– Да не за что. Чего уж там. Мы ж друзья, как ты изволила выразиться. Все, отбой, подруга.
Нажав кнопку отбоя, Инга долго еще сидела на своем диване, беспорядочно всхлипывая. Выходить из комнаты не хотелось. Не хотелось выползать из теплого и мягкого облака разговора с дочерью и Родькой, хотелось сидеть в нем и греться остатками их слов и интонаций, будто плавающих вокруг нее невидимой защитой. Говорят – все хорошее в твоей жизни видится на расстоянии. Как и плохое тоже. Она вот всегда любовь свою школьную за некую алмазную драгоценность почитала, за то самое хорошее, что подарила судьба. Грелась от него. И носила в себе, заперев на три замка, и лелеяла бережно. Доставала иногда, чтоб пылинки сдуть, полюбоваться да снова убрать-закрыть в потаенное местечко. А теперь что? Куда оно делось-то, это хорошее? Увидело живьем предмет, из которого проистекало, – Севку Вольского – и тут же завяло-скукожилось? Странно как. Вроде наоборот должно быть. Или мы сами себя так умело обманываем, придумывая ложные драгоценности? Думаем – бриллиант в душе носим, думаем, что именно им напитываемся для тепла и света, а потом выходит, что это и не бриллиант вовсе, а обычная стекляшка. И тепло твое, выходит, тоже обманно-стеклянное, и свет ты даешь стеклянный…
Вздохнув глубоко, Инга опустила плечи, повертела в руках теплую телефонную трубку. Захотелось лечь, укрыться с головой одеялом, не выходить больше из комнаты. Не видеть никого. А еще лучше – выскользнуть потихоньку из дома и сбежать на вокзал, сесть в поезд и – домой… Но выйти все-таки надо, наверное. А то нехорошо как-то. Надо помочь со стола убрать, посуду помыть… Да и Бориса надо к отцу в кабинет отправить – Люба же просила…
С сожалением выпустив из рук мобильник, Инга поднялась с дивана, вышла из комнаты в коридор, пошла на слабый звук едва различимых снизу голосов. На кухне застала Веру с Надей – сестры сиротливо сидели за большим кухонным столом, подперев щеки ладонями, говорили о чем-то вполголоса. Увидев ее в дверях, замолчали. Потом Надя проговорила заботливо, обращаясь к Вере:
– Иди, Верочка, ложись. Я сейчас чаю попью и тоже приду. Инга, выпьешь со мной чаю?
– Давай… – опускаясь на Верино место, покладисто пожала плечами Инга. – Только мне надо сначала Бориса найти. Люба просила его в кабинет к отцу отправить. Она там решила ночь провести.
– Да ушел он уже туда. Сам ушел, – недовольно проговорила Надя. – Проводил этого… как его, ну… Хахаля твоего детского…
– Вольского?
– Ну да. Вольского проводил и сам ушел. Сидят теперь там… Господи, да если б не папина воля, я б их и на пушечный выстрел к нашему дому не подпустила! Да еще и в отцовский кабинет… Святая святых…
– Почему?
– Да потому! Кто они нам? Чужие люди! Из-за этой Любы мама раньше времени состарилась! Да и брат этот теперь мне что есть, что его нет…
– Отец любил эту женщину, Надя.
– Да неправда! Он нас любил! Нас! И мы его любили! Преданно и верно! И до конца! А эта Люба – так, недоразумение. Она никакого права на отцовскую любовь не имеет! Прямо как подумаю, что она там сидит, в его кабинете, так трясти меня начинает. Ненавижу, до дрожи ненавижу…
– Надь, не надо… Не надо, а то мне страшно становится! Ну, пожалуйста… Ну отчего ты злая такая, Надь? – тихо проговорила Инга, закрывая лицо ладонью.
– Кто – злая? Я злая?! – тихо и возмущенно переспросила Надя и даже слегка подалась корпусом в Ингину сторону. – А ты что у нас, добрая, значит? И тут ты самая добрая, выходит? С какой стороны на тебя ни глянешь, прям светишься вся! И на что тебе твоего добра хватает, интересно? С моим мужем спать? Исключительно доброты ради? Не успел мужик в дом к ней войти, уже в койку его потащила…
– Я его к себе в дом не звала.
– Ой! Вы посмотрите на нее, честная какая! Не виноватая я, он сам пришел! – ернически всплеснула Надя ладонями.
– Я не говорю, Надь, что я не виноватая. Виноватая, конечно. Я понимаю. Ты прости меня, Надь, пожалуйста. Если хочешь, я объясню…
– Да фиг тебе – прости!
– Ну, фиг так фиг… Я и на фиг согласна. Пусть будет так, как ты хочешь. Я сволочь последняя, а ты порядочная.
– Да! Я – порядочная! Я не сплю с чужими мужьями, я никого не обманываю, я честно живу! И муж у меня порядочный! Да если б не такие, как ты…
– Надь, а ты любишь его? – перебила ее Инга. – Мужа своего, Вадима, любишь?
– А твое-то какое дело? Но если уж интересует тебя этот вопрос – то да! Представь себе, да! Очень люблю!
– А он тебя?
– А вот это уже и в самом деле не твое дело, дорогая! Да и не понять тебе этого. Потому что ты в слово «любовь» другое понятие вкладываешь.
– Как это? – опешила Инга. – Чего я в него такое вкладываю? Любовь, она и есть любовь…
– Ну да… Для тебя ж трахнуться по-быстрому – это тоже любовь! Ведь так?
– Да с чего ты взяла?!
– Ой, с чего взяла… Да из жизненного опыта, дорогая сестренка. Причем из твоего опыта! Ты ведь думаешь, наверное, что мой муж к тебе и впрямь от большой любви помчался?
– А отчего, Надь? Как ты сама считаешь? Для чего он бросил все и, как ты говоришь, помчался? Ни с того ни с сего, что ли? Он что, в вашем городе не нашел с кем ему по-быстрому трахнуться?
– Слушай, заткнись, а?
– Да ты не обижайся… Я и сама, может, понять хочу, как это все тогда получилось. Я же тоже мучаюсь этим, я и правда не понимаю! Зачем он приехал? А главное – как я-то могла сотворить такое? Правда, есть у меня всей этой истории одно объяснение…
– Ну? И какое же? – скептически подняла на Ингу ледяные глаза Надя.
Инга взглянула в сестринские глаза и будто поежилась от подувшего из них ледяного ветра обиды. Даже объяснять что-то вмиг расхотелось. А может, и не нужно? Все равно ей не проломиться через этот упругий холодный ураган. Снесет, как сухую былку-травинку, вместе со всеми объяснениями, и звать как не спросит. Редко кому удается через него проломиться. Обида и непрощение, они особенную силу имеют. Держат человека на тяжелом вдохе да выдохнуть себя наружу так вот запросто и не позволяют. Хоть напополам тресни она сейчас, рассказывая, как в тот день плохо ей было, как сошлись в одну точку боль, обида, безысходность да холодный страх перед будущим – вся эта черная душевная чертовщина, в общем, – все равно Надя ее не услышит. Еще только хуже будет. Холодный ветер обиды – он жалости к покаянному не знает. И понимания никакого не хочет. Наоборот – подстегивает только. Еще больше хочется смять, скукожить, изничтожить, с корнем из земли вырвать обидчика…
– Ну? И чего замолчала? – требовательно переспросила Надя – Давай, объясняй! Чего ты?
– Да я вот думаю, не стоит…
– Это почему это? Боишься, что не пойму?
– Ага. Боюсь.
– А ты не бойся. Не такая уж я тупая, чтоб не понять. Тем более я ж сестра тебе. От этого факта тоже, знаешь ли, никуда не денешься…
– Ну что, попробую… – безнадежно вздохнула Инга. – Только ты не перебивай меня, ладно?
– Да ладно…
– Понимаешь, Надь… – тихо проговорила Инга и снова замолчала, взглянула на сестру с недоверием, будто решая, стоит ли ей продолжать иль остановиться на полуслове, махнув на все рукой. Потом тихо заговорила: – Бывают такие мутные состояния человеческие, когда из тебя будто сама жизнь уходит. Будто давит что-то с неба и замирает все в тебе, как в лесу перед грозой. Холодно, душно и никакого движения внутри. Ты умер, и все. Полное отчаяние. Жить не хочется. И душа будто стекленеет абсолютно ровной поверхностью – только маета сверху плавает, как мазутное пятно. Кажется, немножко еще – и впрямь умрешь. Вроде и понимаешь, что жить так нельзя, и все равно живешь дальше и тянешь эту лямку…
– А что это за состояние? Депрессия, что ли? – пожала плечами Надя.
– Нет. Еще хуже. Депрессия – это ж медицинский диагноз, это ж как-то лечится… А тут – не диагноз, тут – состояние. Черная чертовщина какая-то. Нет, правда – чертовщина! Такое ощущение странное накатывает, что надо обязательно от себя чего-то отдать… добропорядочное. Поступиться им. Иначе черт этот никогда из тебя не уйдет, так внутри и останется. Ты сам, только сам должен его из себя изгнать. Свой откуп найти. А какой – это уж никого не волнует. И когда этот откуп в твоей двери живьем появляется, тут уж ни о чем не думаешь. Все мысли добропорядочные исчезают куда-то, будто и не было их в тебе никогда. Будто ты всю свою жизнь до этого сволочью жила. Один только инстинкт самосохранения тобой в этот момент руководит. И черт манит. Давай, мол, совершай свое похотливое прелюбодеяние, и я уйду из тебя сразу, дальше жить будешь. Вот так и со мной было…
– Ну, знаешь! Так под любую пакость можно оправдательную философию подвести! Черт велел, да и все тут!
– А чаще всего так и происходит, Надь. Вот спроси у многих людей – чего это они вдруг тот или иной поступок совершили? Вроде как потом стыдно бывает, а дело-то сделано! Многие на алкоголь все списывают, но алкоголь тут совсем ни при чем!
– А черт, значит, при чем? И что, он правда потом уходит?
– Правда. И впрямь жить сначала начинаешь. И даже – грех сказать – душа будто очищается. Прозрачной становится, как стеклышко. Так что наши бесовские поступки иногда имеют другое совсем значение. Не общепринятое. Они как бы за скобки поведенческие выходят. Поэтому их и надо оценивать там, за скобками. И прощать тоже надо за скобками… Ты прости меня, Надь. Просто в тот день – это не я была. Так время сошлось – в одну только черную точку. Ты мне просто поверь, и все. Я понимаю, конечно, что это принять на честное слово очень трудно. И простить трудно.
– Да, Инга, трудно. Практически невозможно.
– А ты знаешь, я бы простила… Вот правда! По крайней мере, попыталась бы простить. Всегда легче виноватого камнями закидать да заклеймить позором, чем понять его. Но ты ж не чужая, ты же моя сестра! Ты попытайся, Надь…
– Ну что ж, я и впрямь попробую… Раз сестра, то оно конечно… Хм, как интересно! Черт в тебе селится, говоришь? А я ведь тоже часто бываю в таком состоянии, знаешь. Именно черт селится, именно холод кругом, именно пакости за выкуп какой-то требует! Один раз ни за что ни про что женщину из своего отдела уволила… Она такая безответная была, одинокая тихая мышка, ей два года до пенсии оставалось. Она плакала, чуть не на коленях стояла, а я все равно на своем настояла… А один раз… Эх, да чего вспоминать…
Надя вдруг скривила губы жалкой скобочкой, закрыла лицо руками. Сидела так минут пять, тихо, не шелохнувшись. Потом резко отняла ладони, взглянула сестре в глаза и словно отчаянием своим ей в лицо плеснула:
– А Вадим меня и правда не любит, Инга! И никогда не любил! Ты знаешь, я уж как-то и попривыкла к тому, что он меня не любит! И к состояниям этим чертовым привыкла. То входишь в него, в это состояние, то выходишь… Ничего, жить можно. И даже когда тебя не любят, жить можно. И радоваться можно. Бывает, иду рядом с ним по улице и радуюсь тихо. И все смотрят нам вслед – красивая пара. Оба высокие, статные, будто один для другого природой для полной гармонии созданные. Мне это важно, очень важно, понимаешь?
– Что важно, Надь? Чтоб полная гармония? Или чтоб вслед смотрели?
– Ну, раз с настоящей гармонией не задалось, то пусть хотя бы вслед смотрят! Хуже, когда ни того ни другого нет. Мне иногда кажется, что я бы ни с кем, кроме Вадима, по улице пройтись не смогла. А на работе у нас вообще все у окон собираются, когда мы утром с ним из машины выходим. Прямо спектакль настоящий устраивают! Говорят, нигде такой цельной и красивой пары не видели, даже в кино голливудском…
– Да. Я понимаю, Надь. Я и сама пыталась так жить. Заменить любовь удобством. Только ничего у меня не вышло из того. Удобство мое возмутилось и нашло себе таки свою собственную любовь! А мне взамен оставило вредную мать-старуху. И так мне и надо – в наказание за обман. Так что будь осторожна, Надя.
– Ничего. Мое удобство как раз от меня никуда и не денется. Эк мне как в жизни-то свезло с удобством этим, правда? Оно, мое удобство, как оказалось, не чужую бабу любит, а родную мою сестру, у которой рука не поднимется… Ведь не поднимется, Инга?
– Нет, Надя, не поднимется.
– Вот и хорошо. Но если даже и поднимется – ничего у тебя не выйдет. Ты это помни, Инга. Потому что я сильная и гордая, как мой отец. И ничего своего я никому не отдам. Ни за что не отдам. Не позволю себя посмешищем сделать. Я твердокаменная – и телом и душой. И генами.
– Нет, Надь, не права ты. У отца душа очень нежной была. Просто мы не знали. Но я всегда это чувствовала, я догадывалась! А он нам этой нежности не показал ни разу. Побоялся, что мы его не поймем. И не примем его такого – с нежностью. Он нам не поверил, Надь… Потому и уйти решил – сильным. От одиночества этого решил. Надо было уговорить его, убедить…
– Отца – убедить? О чем ты, Инга?
– Да о том! Мне показалось даже, что он ждал этого…
– Нет. Нет и нет! Я даже и слушать об этом не хочу! И давай не будем больше об этом! Он был сильный, он так сам решил… И чтоб не плакали, и чтоб на могилу не ходили…
– Это гордыня, Надь, а не сила. Сила – это когда детям своим веришь.
– Замолчи! Замолчи, Инга! – громко и неожиданно резко проговорила Надя. Так громко, что голос ее будто отскочил от кухонных стен и промчался болезненным нервным эхом по тихому дому. – Опять ты за старое! Я очень прошу тебя – не надо так об отце! Если тебе ничего не свято, то наши чувства с Верочкой хотя бы не трогай!
– Тихо, Надя. Не кричи. Чего ты кричишь на меня все время?
– Да потому что ты ерунду говоришь! И делаешь все назло! Просил же папа – не плакать на похоронах! А ты от слез не просыхала! Или это что – тоже пакости ради? Черт велел?
– Нет. Это не от пакости. Это от горя. Слезы – они всегда от горя, Надя. Я завтра утром и на кладбище пойду. И потом буду приезжать к отцу на могилу.
– Нет, Инга. Ты не посмеешь…
– Посмею, Надя.
– Но он так велел – не ходить к нему на могилу… Он так хотел, понимаешь? Это его воля была! Последняя воля! Последний нам, его дочерям, отцовский наказ!
– Ну и исполняй его волю, Надя, если хочешь. Будь послушной дочерью. А я все равно пойду. И буду там плакать, и сопли пускать, и выть, и поминать его по-настоящему – с водкой и закуской. И прощения просить, что не выполнила свой дочерний долг, не настояла на своем, не долюбила, как должна была…
– Но… Но это будет нечестно, Инга! Ну зачем ты так? Он же наш отец, мы все его дочери! Он же так сам хотел… А получается, что ты одна его любишь? Да? А мы с Верочкой что? Не любим, что ли?
– Нет. Не любите. Любить и исполнять волю – вещи разные. Хочется вам исполнять – исполняйте. А я не буду. Все, Надь. Поговорили, и хватит. Спасибо, что выслушала, что вроде как даже простить обещала. Пойду я. Скоро утро, проговорили с тобой до первых петухов. Впервые в жизни, кстати. Аж голова с непривычки кружится. Я рано встану, зайду попрощаться…
Надя молча проводила ее взглядом до двери. Встала резко со стула, постояла, оперев руки о стол, потом снова села. Уронив голову в руки, заплакала горько. И отчаянно. И сладко. Весь день ей именно так хотелось заплакать, огромных усилий стоило держать себя в каменном состоянии. А сейчас – будто рассыпался камень, будто вспорхнула вверх душа, отпущенная на свободу.
Плакала она долго – до самого почти рассвета. Потом уснула крепко, положив твердую щеку на согнутую в локте руку, всхлипывала во сне по-детски. И не слышала, как тихо открылась дверь отцовского кабинета, как в мутной серости, льющейся из раннего и влажного утра через оконные стекла, спустились по лестнице две тени, мужская и женская, как заглянули на кухню, как постояли над Надей немного и, не решившись будить, исчезли за входной дверью – скорее всего, навсегда…
День шестой
Разбудила Надю Инга. Тихо тронула за плечо, извинилась будто. Надя подняла голову, уставилась на нее испуганно, часто моргая опухшими веками:
– Ой… А я что, прямо здесь уснула? А который час?
– Уже восемь часов, Надь. Я попрощаться зашла. Домой уезжаю – у меня там проблемы, сама знаешь. Верочку будить не стала – у нее лицо такое измученное… Пусть поспит, ага?
– Погоди, Инга… Позавтракай хоть! Кофе попей…
– Не могу, Надя. На поезд боюсь опоздать. Там поезд проходящий есть, двухчасовой. И на кладбище надо успеть зайти…
– Пойдешь все-таки?
– Ага. Пойду. Ну, пока…
Инга наклонилась, поцеловала сестру в смятую от неудобного спанья щеку, прижалась к ней на секунду своей щекой и быстро пошла к двери, унося с собой непролитые, но уже подкравшиеся к глазам слезы. Выйдя за чугунную калитку усадьбы, обернулась к дому, улыбнулась ему жалко дрожащими губами. Дом без отца. Дом-сирота. Дом Веры, Надежды и… Инги. Любовь ушла из него ночью – кабинет отцовский был пуст, она успела туда заглянуть, уходя. Ушла и сына своего, так отца и не узнавшего, увела. Даже сестер своих тоже толком не узнавшего. Вот и дружи с ними теперь, как хочешь. Исполняй отцовскую волю…
Вздохнув напоследок и смахнув со щек тяжелые капли слез, она развернулась и быстро пошла прочь, огибая зеркальные лужи с плавающими поверху мокрыми листьями. Дождь перестал, и даже утреннее солнце проглядывало робко сквозь рваные серые облака – день обещал распогодиться. Да и то – не должно же быть так, чтоб все дождь да дождь! Солнца и в конце октября никто не отменял. А вот и скверик – тот самый, со скамейкой. А возле скверика – машина, красивый мощный джип. А из джипа вдруг выпрыгнул ей навстречу Севка в черном модном плаще – как черт из табакерки. Обошел быстро машину, встал перед ней немым изваянием. Глаза горят синевой, лицо бледное. Не выспался, наверное, или, может, с похмелья утреннего. Протянул руку, впился ей цепко в локоть, подтолкнул слегка на переднее сиденье. Она даже ослушаться не посмела, села, посмотрела на него не то чтобы удивленно, а с насмешливым интересом – давай-давай, мол, посмотрим, что дальше будет…
– Так. Давай-ка поговорим с тобой, подруга! – развернулся он к ней всем корпусом, усевшись на свое водительское сиденье. – Расскажи-ка мне о свой жизни во всех подробностях. А то чего только вчера я о тебе не наслушался – и про мужа твоего, и про его мать, которую он на твою хрупкую шею повесил… Это что, все правда?
– Правда, Севка. Просто звучит это из твоих уст несколько… вульгарно, а так все правда. И муж мой тут ни при чем. Я сама на это пошла. Вернее, согласилась. Договор у нас такой получился, понимаешь? Джентльменское соглашение.
– Какой договор? О чем?
– Да ну… Тебе-то какое дело? Зачем это все тебе?
– Надо, значит, раз спрашиваю!
– Да не буду я ничего рассказывать! Ты что, в духовники мои записался? Или в психоаналитики? Расскажи ему, видишь ли… Чего это ради?
– Да уж… Узнаю, узнаю своего Ёжика. Ладно, хватит меня иголками колоть, чего ты… Рассказывай давай.
– Ну буду.
– Ну что тебе, жалко? Другие вон бешеные деньги психоаналитикам платят, чтоб их со вниманием выслушали, а ты…
– А я – это я. Отстань. И вообще – тороплюсь я.
– Куда?
– К отцу. На кладбище. А потом сразу на вокзал – домой поеду.
– Успеешь, Инга. Везде ты успеешь. Не хочешь рассказывать – не надо. Я и так все про тебя знаю. И про развод твой знаю, и про договор с мужем догадываюсь… Тоже, нашла тайну… Ваш договор на жилплощади построен, да? Он уходит, ты остаешься. Он отдает тебе квадратные метры, а ты за его мамой-инвалидом до конца жизни ухаживаешь. И заметь – неизвестно еще, до конца чьей жизни! Потому что мама-инвалид тебя изводит так, что жить в таких условиях тебе хочется все меньше и меньше. Потому что это и не жизнь вовсе. Я знаю. Сам через это прошел. Проклятые эти квадратные метры! Я знаю, как они могут отнять у человека желание жить…
– Ты? Через это прошел? Да ну… Неужели тоже за чьей-нибудь мамой-инвалидом ухаживал?
– Нет, Инга, у меня все гораздо хуже было. Я ж, пока в этой жизни не пробился, бог знает как существовал… Да иначе и быть не могло! Ну кто, кто я был такой? Провинциальный мальчишка, приехавший покорять столицу своим парикмахерским талантом… Ноль без палочки! Там таких талантливых – по рублю в базарный день. Так что всяко-разно пожить пришлось. И на вокзалах ночевать, и жилье снимать за бешеные деньги, и фиктивный брак регистрировать за прописку… И я на своей шкуре испытал, каких унижений эти проклятые квадратные метры требуют. Они так просто не даются, если ты нищ, и гол, и совсем один в большом городе, и никто тебе вечером стакана чаю не нальет и не размажет по твоей черствой булке кусок сливочного масла…
– Ага… Значит, тебе ради этих квадратных метров жениться пришлось, я так поняла?
– Да. Пришлось. Другого выхода просто не было. И даже жить пришлось не фиктивно, а по-настоящему, как того условия брачного договора требовали. Жить с женщиной, от присутствия которой в твоей жизни не только скулы, но и все остальные части тела сводило. И спать с ней. Нет, ты не подумай, она вовсе не уродка была и не монстр какой. Просто старая и нелюбимая…
– А куда она потом делась? Ты ж говорил вчера, что уже не женат!
– Да. Не женат. Я теперь вдовец, Инга. Бездетный, состоятельный, молодой и для новых отношений совершенно открытый. И тем более – для старой любви, которая, как выяснилось, никуда и не делась. Вот она, передо мной сидит, насмешничать пытается. Не надоело меня иглами своими колоть, Инга?
Он замолчал, сидел опустив глаза, словно ждал ответа на четко поставленный вопрос. Потом обиженно поднял на нее глаза, взглянул вопросительно и коротко – что молчишь, мол? Такой поворот событий в жизни твоей идет, а ты молчишь? Рада ты ему иль нет? И отчего бы тебе не порадоваться этому повороту? Это ж вроде шанс твой, жизнь свою поменять – одинокую, бедно-многотрудную, практически безысходную. Так что давай, не молчи, подхватывай быстренько конец веревочки, которую я тебе бросил, тяни ее на себя…
Инга и впрямь чувствовала – молчит она сейчас совершенно по-дурацки. Следовало, ой следовало ей подхватить эту ниточку порванных отношений, связать ее ловко-проворно в узелок, а там и посмотреть, что из всего это получится! Тем более что она столько об этом думала, столько мечтала. Все годы разлуки только и грелась мечтами этими. Слово-то какое красиво-безысходное – разлука… И романтическое очень. Была разлука, а теперь, стало быть, счастливая встреча происходит. И полный хеппи-энд прямо на глазах разворачивается. Радуйся, дурочка. Радуйся, однолюбка. Мечты сбываются. Только мешало ей что-то сейчас радоваться, будто сковало всю легким параличом напряжения. Веяло от Севки напряжением этим неприятным. Чужим, незнакомым, из нынешней его жизни пришедшим. И еще – глаза. Мешали ей его глаза, и все тут! То ли лишку в них было, то ли наоборот – недоставало чего…
– Опять молчишь, Ёжик? – ласково дотронулся он до ее щеки. – Скажи хоть что-нибудь, не молчи…
– Я не знаю, что сказать, Сев… – дернула испуганно и некрасиво головой Инга, отстраняясь от протянутой к ней руки.
– Да я понимаю, Ёж… Я все понимаю, ты не думай. Это в тебе обида сейчас говорит. Та, детская еще. Наверное, я и впрямь тогда поступил по-свински… Но я всегда тебя любил, ты поверь мне! Просто я тогда на твоего отца обиделся очень. И помнил всегда эту обиду. Заглушила она любовь, вытеснила на время. Но не убила же! Просто память на обиду, она бывает иногда более сильной, чем память на любовь. И побеждает в какой-то момент. Но все равно – ты всегда стояла за этой памятью. Как в театре – за тяжелым занавесом.
– А теперь, стало быть, занавес открылся? Пора настоящий спектакль играть? Занавес открылся – вот она я, да? Здрасте, Всеволод Вольский! Это я, Ёжик-Инга, ваша давняя любовь!
– Ну зачем ты так, Ёжик… Ты поверь – я сейчас искренен, открыт и честен перед тобой, как в день своего рождения. Я за эту ночь всю жизнь свою прежнюю пересмотрел, может быть…
– И что ты там увидел?
– А то. Самую главную ошибку свою увидел. Может, даже смысл жизни как таковой для себя осознал…
– Ух ты! Здорово как! И в чем он, интересно, смысл твоей жизни?
– А в том, что пробиваться в одиночку через тернии к звездам – глупо. Самоутверждаться среди людей – глупо. Стараться изо всех сил кем-то стать – глупо! Глупо и неинтересно это делать только себя одного ради, понимаешь? Тут звено какое-то важное рвется… Звено обратной отдачи, что ли… Ты меня понимаешь?
– Не-а. Нисколько не понимаю.
– Ну, как бы тебе сказать… Нельзя хотеть всего только для себя одного. Потому что самое страшное наступает тогда, когда у тебя уже всё есть, а отдать это некому… Хотя, конечно, найдутся вожделенные и желающие, только свистни, да только им-то как раз и не хочется. А хочется тому, кто стоит за занавесом твоей души, и ему стоять там давно уже и холодно, и страшно…
– То есть осчастливить обязательно кого-то надо, да? Чтоб не просто так взяли твое, а еще и прочувствовали в полной мере?
– Ну почему – осчастливить? Почему – прочувствовали? Зачем ты меня все время пытаешься уколоть, Инга? И что в этом плохого, если и прочувствуют? И осчастливятся? Ты что, совсем не хочешь быть счастливой?
– Хочу, конечно. Я же не законченная дура, в конце концов. И что? И как счастливить будешь, расскажи?
– Да все очень просто. Сейчас мы поедем в твой город, ты заберешь дочь, уволишься с работы… Ты ведь работаешь где-то?
– Ну конечно… Куда ж я денусь? А уволиться что – прямо сразу надо?
– Господи, да много ли времени нужно, чтоб разом свернуть прошлую жизнь? Полдня от силы! Ну, может, день… Документы в сумку кинуть, фотографии, с дочкой поговорить, объяснить ей все…
– Так… – с интересом протянула Инга, внимательно на него глядя. – Один день, говоришь? А куда я за этот один день Светлану Ивановну дену? Свекровь свою, которая и одного этого дня без моей помощи прожить не может?
– Ну, это не вопрос… Позвонишь своему бывшему, объяснишь все. Так и так, мол, расторгаю я наш договор. Забирай назад и квартиру свою и маму.
– А если он не согласится?
– Что значит – не согласится? Это ж его мама, в конце концов! Вот пусть он о ней сам и думает!
– Ну, а если он не захочет о ней думать? Тогда как?
– О господи, Инга… Да это уже будут не твои проблемы, как он в этом случае поступит! Как-то устроит это дело, наверное. И без тебя. Ты-то тут при чем?
– Ну да. Вроде как ни при чем… А если он ее в интернат сдаст?
– Ну, и сдаст… Тебе-то что? Это на его сыновней совести будет числиться, а не на твоей! Так ведь?
– Ну, допустим…
– А тут и допускать нечего. Говорю же – за один день можно со своей прошлой жизнью рассчитаться. А потом мы уедем ко мне. Я все тебе отдам, Инга! У тебя все будет! И квартира хорошая, и дом за городом… Живи, радуйся! Все двери лучших тусовок для тебя будут открыты! Я очень люблю тебя, я вчера это понял… Вот увидел тебя – и понял! Только тогда имеет смысл жить и чего-то добиваться, когда все добытое можно бросить к ногам любимой женщины. Может, и звучит это несколько пафосно, смешно даже, но это действительно так…
– Не знаю, не знаю, Севка… Гожусь ли я для такой красивой жизни? С моей пресной рожей – и сразу в калашный ряд? Вот уж не знаю, что получится…
– А почему не получится? И почему ты так о себе говоришь – рожа пресная? Ничего она у тебя не пресная. Очень даже хорошая рожа. Просто ты – как чистый нетронутый холст сейчас. А положи на него первые краски, вложи душу – и нате вам, настоящий шедевр. Одеть-обуть, причесать красиво, брюликом сверкнуть, где положено… Доверься мне, Инга! Ты будешь у меня самой красивой женщиной! Все у тебя будет! И все мое – твое! И учти – это только начало. Когда есть смысл работать для кого-то – можно ж на этом пути горы свернуть! Я и сейчас мужик далеко не бедный, а уж если развернусь… Я очень, очень люблю тебя, Инга… Поверь мне! Никого нет для меня больше, только одна ты… И всегда так будет…
Он снова потянул к ней руки, и снова она шарахнулась, как испуганная молодая лань, вжалась спиной в закрытую дверцу машины. Даже неловко стало за свою пугливость – тоже, недотрога нашлась. Человек к ней с чувствами, а она шарахается…
Смешно. Тем более смешно, что чувства эти самые, точно такие же, столько лет и в ней страстным огнем горели. Или не горели? Придумывала она их себе, что ли? Но такого же быть не может! Нет, точно они были, чувства эти… И обида была разлучная, и боль, и переживания самые горькие…
Она с опаской подняла голову, глянула в Севкины глаза – они и впрямь сияли «огнем любви», если верить страстному его монологу. Столько любви сразу на ее бедную голову. Вот и ей бы теперь собрать воедино свои страдания, разбросанные по капельке в тоскующих днях, в ночных слезах, в дурацком и ненужном ей обманном замужестве, сконцентрировать их в единый комок и отправить ему навстречу… Что бы получилось? Страшно подумать даже. Страшно и… нелепо как-то. И не знаешь, как вести себя правильно. Надо бы тайм-аут взять, вывести себя из этой обескураженности на волю…
– Ладно. Не бойся. Я все понимаю, Инга, – тихо и грустно произнес Севка, неуклюже убирая на место протянутые к ней руки. – Я все понимаю. Ты не из тех, чтоб вот так, чтоб просто радоваться навстречу… Как была Ёжиком, так им и осталась. Ладно, посиди, подумай.
– Сев, ты отвези меня к отцу, а? Я ж на кладбище вообще-то шла… А я по пути в себя приду. Может, осознаю чего. Сам понимаешь – не ко времени сейчас разговор этот. Не пробивается ничего через горе. Сердце будто параличом сковало, и голова пустая, как барабан.
– Хорошо. Поехали.
– Только давай по дороге в магазин заскочим. Надо ж водки купить, закуски – все как полагается…
– Хорошо, заскочим.
Он рывком дернул машину с места, молча вырулил на главную городскую улицу. Лицо его было серьезным и сосредоточенным, но Инга чувствовала, как волнами шла от него в ее сторону обида. А может, это было разочарование. А может, неловкость просто. Такая неловкость бывает обычно у человека, вывернувшего в порыве всю душу на обозрение, а ее и обозревать не стали. Пожали плечами и отвернулись вежливо. Или отложили в сторону, как бесполезный подарок ко дню рождения. Вроде пусть так и лежит красиво запакованным. Вроде каши не просит, но и нет в нем особой надобности. А могли бы и более себя тактично повести, то есть от радости подпрыгнуть да взвизгнуть, как полагается. А так – неловкость сплошная. Метание бисера перед свиньями…
Севка тем временем, пока она терзалась за него и за себя неловкостью, въехал на стоянку перед большим супермаркетом, повернулся к ней деловито:
– Говори, чего купить!
– Ой, да не надо, я сама…
– Здрасте, сама! Ты меня вообще за кого держишь, женщина? – улыбнулся он ей полушутя-полусердито. – Я, конечно, понял, что ты у нас сильно самостоятельная, но и я тоже мужик, знаешь ли…
Он ловко выпрыгнул из машины, зашагал решительно к стеклянным дверям супермаркета. Походка энергичная, плечи прямые, полы черного стильного плаща развеваются, как крылья. Красиво… Инга вздохнула, пригорюнившись, потом встрепенулась, торопливо отыскала пудреницу в сумке, взглянула на себя испуганно-критически. Да уж. Действительно – чистый холст, точнее и не скажешь. Серый и бледный. И ни грамма косметики. Да чего там косметики – ни грамма женщины на этом холсте не просматривается. Забитая жизнью серая моль. Еще и кочевряжится чего-то… Надо лететь радостно в руки художнику, сиять глазами, за счастье благодаря, а она… Но почему? Что за гордыня на нее напала дурацкая? Сидит внутри и тычет в сердце иголкой. Даже марафет торопливый наводить не хочется…
Прихлопнув сердито крышку пудреницы, она бросила ее обратно в сумку, поежилась, сунула руки в карманы куртки. В ладонь тут же услужливо скользнула трубка мобильника, она вытащила ее на свободу, автоматически, ни о чем не думая, нажала нужные кнопки…
– Ну, как вы там? Анька в школу пошла? Или проспала?
– Да с чего это ради – проспала… – пробурчал в ухо спокойный Родькин голос. – Ну, похныкала с утра, конечно…
– А Светлана Ивановна как?
– Да нормально. Тебя ждет, беспокоится… Спрашивала, в какой ты куртке уехала. Там, говорит, холоднее намного, чем здесь. Якобы она прогноз погоды по телевизору слышала.
– Да, здесь намного холоднее, Родь… А ты сейчас где?
– В автобусе. На работу еду. А что?
– Да так. Ничего. Спасибо тебе за все, Родь… Возишься там с моими…
– Да за что спасибо-то? За что ты меня благодаришь все время, окаянная моя женщина? Я же просто люблю тебя, и все. А за любовь не благодарят. Она ж не подарок.
– А что тогда?
– Да просто жизнь… Ин, ты чего вообще? Еще что-нибудь случилось плохое, да? Голос у тебя такой… Странный какой-то…
– Да нет. Все нормально.
– Ты билет на поезд купила? Когда тебя встречать?
– Билет? Нет… Нет еще, не купила.
– Позвони, как в поезд сядешь. Я тут уже на месте сориентируюсь. Я тебя обязательно встречу, Ин…
– Хорошо…
Она торопливо нажала на кнопку отбоя, потом вздохнула глубоко и свободно, будто только что дошел до нее теплый ветер их короткого и ни о чем, в общем-то, разговора. Дунул ветер в лицо ласково, вошел внутрь вместе с Родькиной любовью. И вдруг легко стало, и захотелось встрепенуться и сбросить с себя побыстрее неловкость от прежнего разговора. С Севкой. Хотя почему разговора? Разговора с ним как раз и не получилось. Просто она выслушала его монолог-предложение, и все. И ничего еще не решила. Не возмутилась, не отказала, не согласилась… Есть еще время подумать, не поддаваться теплым ветрам всяким…
Севка вернулся довольно быстро. Бросил на заднее сиденье шуршащий пакет, стал деловито выруливать со стоянки. На нее и не взглянул даже. Будто стала она уже частью этой дорогой машины. Или еще больше – частью его жизни. Потому что он так решил. И теперь несет за свое решение полную ответственность. О, эта мужская самоуверенность, как часто ты любишь обмануть, но и сама себя обманываешь еще чаще…
Молча подъехали к воротам кладбища. Севка взглянул осторожно и уважительно, спросил тихо:
– Мне с тобой можно?
– Нет. Нельзя. Я одна пойду.
– Хорошо… Я здесь тебя буду ждать. Держи… – протянул ей тяжелый шуршащий пакет.
– Ой, ну зачем так много-то?
– Ничего. Оставишь. Говорят, положено так.
– Да? Ну ладно…
Инга приняла из его рук пакет, выпрыгнула из машины, огляделась. Потом тихо пошла за кладбищенские ворота, чувствуя, как глаза ожгло близким присутствием слез. Вдруг солнце, выскочившее из-за березовых стволов, с силой ударило по глазам, налетевший ветер зашелестел остатками маленьких золотых листьев – день и впрямь решил разгуляться напропалую, как и обещало теплое сухое утро. А что делать? Жизнь продолжается. Даже на кладбище. А может, это отец таким вот образом не велит ей плакать… А вот и могила – гора цветов с овалом отцовской фотографии в центре. Правда, гора эта повяла чуть, осела немного, но все равно живая еще. И розовые бутоны вовсю сопротивляются увяданию, и гвоздики торчат из венков упруго, и лилии умирать не собираются, горделиво отражая солнечные лучи белой нежностью лепестков. Инга постояла немного, оглядывая все это хозяйство, потом подумала – надо бы денег кладбищенскому сторожу оставить. Чтоб за могилой ухаживал. Вера, послушная дочь, и впрямь сюда может не прийти… А цветы повянут, и что здесь будет? Нехорошо, некрасиво…
Она вздохнула, подняла на отцовскую фотографию глаза, вздрогнула тихо. Показалось, что они улыбаются ей снисходительно – пришла, мол, все-таки… Вчера такими строгими были эти глаза, будто недовольными всеобщим горестным вниманием да пышными поминальными речами. А сейчас – ничего, добрые такие, довольные… Или солнечный луч сквозь ее слезы преломляется и ей только кажется так…
– Да вот, пришла! – проговорила она довольно громко и растянула в улыбке задрожавшие губы. – И плакать сейчас буду, и водку пить, и еду есть! И тебя поминать, любимый мой папа… Ты уж прости. Не выполнила твою волю…
Она огляделась с пристрастием, придумывая, как бы ей устроиться со своими поминками, потом поставила пакет на землю, пошла по дорожке мимо мраморных плит. Около одной из них обнаружила два спиленных чурбачка и толстую доску – оставил кто-то для себя временную скамеечку. Поклонившись неизвестному покойнику и перекрестившись, она подхватила доску, отнесла ее к отцовской могиле. Потом вернулась за чурбачками, еще раз перекрестилась, проговорила тихо:
– Я ненадолго… Я верну… Вот ей-богу, верну. Помяну отца и принесу обратно… Не на земле ж мне сидеть, правда?
Устроившись на одолженной на время скамеечке, она открыла пакет, достала бутылку водки, хлеб, запакованные в вакуум картонки с нарезной деликатесной снедью. Обнаружились в пакете и пластиковые крепкие стаканчики, и тоже пластиковые ножи с вилками. Заботливый Севка-то. Все предусмотрел. Молодец… И тут же проговорила свои мысли вслух, обращаясь к отцовской фотографии:
– Видишь, какой заботливый! А ты – цирюльник, цирюльник… А он сейчас, пап, мне замуж за него предложил выйти… Говорит – ради меня теперь жить будет… А я не знаю, что ему и ответить! А сын-то твой, Борис, тоже цирюльник, кстати! А ты не знал? Ну, не знал и не знал… Ладно. Не важно, в общем. Ну, пусть земля тебе пухом будет… И решение твое для тебя пусть правильным остается, раз ты сам так захотел…
Она деловито налила водки в стакан, подцепила на хлеб кусок копченой колбасы из красивой нарезки, посидела, глядя на отцовскую фотографию, пока та не поплыла в ее горячих слезах. Выдохнув с силой воздух, опрокинула в себя водку, вся сжалась на миг и передернулась, потом откусила от бутерброда, стала жевать торопливо. Вскоре тяжелый слезный комок в груди размяк, снова вздохнулось легко, как давеча после разговора с Родькой. И снова заговорила громко, обращаясь к отцовской фотографии:
– Ну в самом деле не знаю, что мне делать, пап! Растерялась я как-то со всем этим. Я же просто женщина, в конце концов. Самая обыкновенная, с трудной жизнью. Ну, не без характера, я знаю! Досталось и мне с избытком от твоего характера, тут уж ни убавишь ни прибавишь… А все равно растерялась! С одной стороны – вот он, Севка Вольский, бери его да будь счастлива, как хотела. Он говорит – за полдня я могу свою жизнь поменять. Говорит, все у меня будет. Дом, наряды, богатство всякое… А с другой стороны – двенадцать лет прошлой жизни куда я дену? Их же тоже так просто не спихнешь, не отменишь! Там тоже всякого было много… Да и сейчас… Там и Анька, и Родька, и Светлана Ивановна со своей беспомощностью… Нет, все не то, не то! Не о том я тебя сейчас спрашиваю, папочка… Совсем не о том…
Она всхлипнула сладко и расплакалась наконец по-настоящему, не стесняясь. И даже подвывать пыталась сквозь рыдания, как настоящая плакальщица, выплескивала из себя горе в коротких фразах:
– Ой… Да на кого ж… Покинул… Да что ж ты наделал… папочка… дорогой! Да зачем же… не поверил! Да как же я… Как же жить теперь со всем этим… папочка…
Плакала она долго, пока не иссякла. Потом вытерла лицо ладошками, снова плеснула себе водки в стакан, подняла его перед отцовской фотографией, вздохнула:
– Ну вот и поплакала… И мне, и тебе легче стало. А проблему эту дурацкую я решу, конечно. Вот сейчас посижу, подумаю и решу. Может, и ты чего мне подскажешь… Севка, он хороший, конечно, и говорил вроде искренне, но… Что-то не так стало на сердце, и все тут! Шарахнулась от него, как от прокаженного… Нет, это не от гордыни, нет! Не потому, что он цирюльник… Помнишь хоть, как ты его тогда цирюльником обозвал? А он обиделся и уехал. И бросил меня…
– … Да потому что он и правда цирюльник! – раздался у Инги над головой Надин голос.
Вздрогнув, она подскочила, схватившись за грудь, уставилась на сестру расширенными от ужаса глазами. Потом обмякла, снова опустилась на ватных ногах на скамеечку:
– Ну, знаешь… Так и до инфаркта человека довести можно… Чего пугаешь-то? Подкралась, главное…