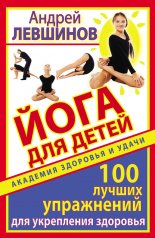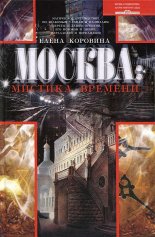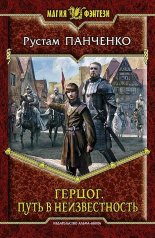Поднебесная Кей Гай Гэвриел

— Что это за озеро? Как оно называется на вашем языке?
Она смотрит на человека, стоящего перед ней. Другие двое к тому времени уже подъехали к ним, оставаясь на конях — они явно не знают, как себя вести. Ли-Мэй продолжает:
— Если мне предстоит жить среди богю, я должна знать такие вещи. Приведите ко мне того, кто может ответить!
Удивительно, но стоящий перед ней человек прочищает горло и отвечает:
— Мы называем его озером Сурка. Их тут много. Сурки, их норы на холмах, на другом берегу.
Он говорит по-катайски. Ли-Мэй приподнимает брови и одаривает его улыбкой, опять недолгой:
— Почему ты не сказал мне, что говоришь на нашем языке?
Богю отводит взгляд в сторону, пытается презрительно пожать плечами, но ему это не удается.
— Ты его выучил во время торгов у излучины реки?
Он бросает на нее быстрый взгляд, пораженный, хотя догадаться было нетрудно.
— Да, — отвечает он.
— В таком случае, — уже холодно говорит она, — если тебе есть что мне сказать, в том числе если у тебя есть просьбы, на которые я могу согласиться, а могу и не согласиться, с этой поры ты будешь говорить со мной на том языке, который я знаю. Ты меня понимаешь?
И, к ее ликованию, после кроткой паузы он кивает.
— Скажи им, — бросает она и поворачивается к ним спиной, чтобы смотреть на восток, на озеро и на птиц. Ветер треплет ее волосы, стараясь вытащить пряди из-под длинных шпилек.
Об этом есть стихотворение, в котором ветер — это нетерпеливый любовник.
Она снова слышит, как богю откашлялся и начинает говорить на своем языке с всадниками, которые собрались вокруг.
Ли-Мэй ждет, пока он закончит, потом поворачивается и к ним, и теперь она кое-что сообщает ему, им всем:
— Отныне я буду стараться выучить ваш язык. У меня будут вопросы. Ты должен показать мне всадников, которые знают катайский язык. Ты понимаешь?
Он снова кивает. Но, что важнее, один из сидящих верхом поднимает руку, словно просит позволения говорить (так и должно быть!), и говорит:
— Я тоже говорю на вашем языке, принцесса. Лучше, чем он, — богю усмехается, обнажая кривые зубы. Здесь видна конкуренция. Он старше по положению.
И Ли-Мэй с удовольствием отмечает, что тот, кто стоит перед ней, сердито смотрит на нового претендента. На этот раз она улыбается тому, кто сидит на коне:
— Я тебя слышала, но я сама буду решать, кто из вас говорит лучше. Я дам вам всем знать, после того как у меня будет время рассудить.
Она думает, что им нужно заплатить, удержать этих людей в равновесии. Любая женщина из Да-Мина кое-что знает о том, как это сделать. Всю жизнь Ли-Мэй славилась тем, что задает вопросы, и теперь, здесь, она может узнать кое-какие ответы.
Ей нужно узнать как можно больше о мужчине, за которого она выходит замуж, и о жизни женщин в степи. Если существование станет мрачным кошмаром, она сама его прекратит. Но если дни и ночи можно хоть как-то прожить здесь, за пределами Стены и известного мира, она решила попытаться. Она пытается уже сейчас.
Ли-Мэй смотрит на стоящего перед ней мужчину.
— Твое имя? — Она продолжает говорить повелительным тоном и держаться надменно.
— Сибир, — отвечает он. Потом прибавляет: — Принцесса. — И склоняет голову.
— Пойдем со мной, — приказывает она, и тем самым делает ему подарок, чтобы другие видели и завидовали, — пока они поставят юрты. Расскажи мне, где мы находимся, как далеко нам еще ехать. Научи меня названиям вещей.
Не дожидаясь его, она идет к воде, прочь от этой сгрудившейся толпы всадников, от носилок и разобранных юрт. От косых лучей солнца впереди нее лежит длинная тень. Держись величественно, напоминает она себе, высоко поднимая голову. Небо, думает она, огромное, в горизонт (тот горизонт, за который ее выдали замуж) поразительно далеко… Сибир энергично шагает вслед за ней, быстрым шагом.
Ей нравится, что он не идет рядом с ней, а держится на полшага сзади. Это хорошо. Еще хорошо то, что ее сердце уже не бьется так быстро. Правая рука все еще горит после той пощечины, которую она ему дала. Ей не верится, что она это сделала.
Почва неровная: в ней кроличьи норы и норы других животных. Сурков. Трава у озера удивительно высокая, она почти достает Ли-Мэй до талии. Кузнечики прыгают, когда она идет сквозь нее. Ей понадобятся туфли получше, понимает она. Она не знает, какую одежду ей упаковали с собой во дворце. Она намеренно игнорировала все это в то время, охваченная гневом. Сегодня она прикажет одной из своих женщин открыть сундуки и ящики, которые они везут на север, и посмотреть.
— Я собираюсь делать это каждое утро перед отправлением и каждый вечер, когда мы разбиваем лагерь, — говорит она, оглядываясь. — И еще в полдень, когда мы останавливаемся поесть, если ты не предупредишь меня об опасности. Я хочу, чтобы ты мне прислуживал. Ты понимаешь?
«Ты понимаешь?» Она говорит, как брат Лю. Да, в этом есть ирония.
Человек по имени Сибир не отвечает, это неожиданно. Она встревоженно оглядывается на него. Она вовсе не чувствует той уверенности, с которой говорит. Как она может быть уверена? Он остановился, и она тоже.
Он смотрит не на нее.
Произносит что-то на своем языке. Проклятие, молитву, заклинание? У них за спиной, в колонне всадников, все тоже замолчали. Никто не шевелится. Эта неподвижность неестественна. Они все смотрят в одном направлении — в сторону озера, но дальше него, выше, на холмы, где должны находиться норы сурков.
Ли-Мэй поворачивается и смотрит туда.
Еще одно дуновение ветра. Ли-Мэй поднимает обе руки и складывает их на груди, будто защищаясь, а потом снова, со всей силой, ощущает, как она одинока, как далеко от дома.
— Ох, отец! — шепчет она, удивляя себя. — Зачем ты покинул меня в этом испытании?
Из всех живых созданий катайцы больше всего боятся волков. Они всегда их боялись — крестьяне, занимающиеся выращиванием риса и другого зерна, орошением и терпеливой обработкой земли.
На вершине холма, за озером, на открытом месте, стоит дюжина волков, неподвижных на фоне неба, освещенных поздним солнцем. И они смотрят вниз на них, на нее.
Сибир наконец начинает говорить напряженным, низким голосом:
— Принцесса, возвращаемся обратно. Быстро! Это неестественно. Они позволяют себя видеть! Волки так никогда не делают. И…
Его голос прерывается, словно он потерял дар речи, на любом языке.
Ли-Мэй все еще смотрит на восток. Она видит то, что видят все они.
На вершине холма, среди волков, появился человек.
Звери расступаются перед ним. Они действительно это делают.
И Шэнь Ли-Мэй с внезапной, ужасающей уверенностью понимает, что путешествие ее жизни вот-вот снова изменится. Ни один человек не может понять, как пути могут разветвляться, и как разветвляются, и отчего это происходит. Потому что так устроен мир.
Глава 10
В тот самый вечер, во дворце Да-Мин, у северной стены Синаня, с обширным Оленьим парком внутри, который виден сквозь открытые балконные двери, одна женщина играет на струнном инструменте в палате приемов на верхнем уровне, развлекая музыкой императора и компанию избранных придворных. Наследник императора, Шиньцзу, тоже здесь. Принц держит в руке чашку с вином, которое ему постоянно подливают.
Император Тайцзу, Светлейший повелитель пяти добродетелей, правящий с благословения небес, не отрывает глаз от играющей женщины. То же самое можно сказать обо всех людях в комнате. (Один мандарин, сидящий рядом с императором, необычайно крупный мужчина, также наблюдает краем глаза, безуспешно пытаясь проникнуть в его сердце.)
Вэнь Цзянь, Драгоценная Наложница, привыкла быть объектом всеобщего внимания. Так уж повелось, такая она сама. Это всегда так, играет ли она на музыкальном инструменте, как сейчас, или просто входит в комнату, или едет на коне через город, или по паркам дворца среди воды или деревьев. Все признают, что так и должно быть. Ее уже причислили к самым легендарным красавицам Катая.
Ей двадцать один год.
При виде нее у человека захватывает дух и меняется ритм биения сердца. При первой встрече с ней и каждый раз после: словно память стирается, а затем возрождается. При виде Вэнь Цзянь человек думает о невозможной спелости, затем о фарфоре или слоновой кости, а затем пытается примирить эти образы. И терпит неудачу.
В этот вечер в руках Вэнь Цзянь инструмент западного происхождения, вариант пипы, на котором играют пальцами, а не медиатором. До этого она пела, но сейчас умолкла; только звуки струн волнами перетекают через комнату, где стоят колонны из нефрита и алебастра; некоторые из последних так искусно обточены, что вставленные внутрь фонари излучают свет.
Слепой мужчина с флейтой сидит на плетеной циновке рядом с женщиной. В выбранную ею секунду она берет последнюю ноту, флейтист узнает этот сигнал и начнет играть. Вэнь Цзянь встает — все видят, что она босая, — проходит по розовому мраморному полу и останавливается перед троном, который раньше принесли в эту комнату.
Сын Неба улыбается под прикрытием своей узкой, седой бородки. Он одет в белое, с желтым — цвет императора — поясом. Он носит мягкую серую шляпу, приколотую шпильками к прическе, черные шелковые туфли, расшитые золотом, и по три кольца на каждой руке. Одно кольцо сделано из зеленого нефрита в виде дракона. Только император имеет право носить такое. Сорок лет назад, или немного больше, он убил свою тетку и двух братьев, а еще шестьдесят тысяч человек погибло в следующие недели и месяцы, когда он предъявил свои права на Трон Феникса и захватил его после кончины своего отца.
Император уже не молод. Теперь, после многих десятков лет усердной заботы, его легко утомляют государственные дела и правление. Он строит себе гробницу к северо-западу от Синаня, рядом с гробницами отца и деда, только гораздо больших размеров, — но хочет жить вечно.
Вместе с ней. Вместе с Цзянь, с ее музыкой и юностью, с ее красотой. С этим невероятным открытием, сокровищем, что дороже нефрита, которое досталось ему недавно, в седовласой старости.
Сейчас она движется перед ними по высокой комнате, начиная танец под тихую игру слепца. Среди присутствующих проносится вздох, они все вместе вдыхают воздух, как смертные, которым вдалеке открылось девятое небо — намек на то, какой может быть жизнь среди богов.
Император молчит, глядя на нее. Цзянь смотрит ему в глаза. Она почти всегда смотрит в его глаза, когда он в комнате. Музыка флейты, это тихое дыхание предвкушения, когда начинается ее танец, а потом один голос кричит, вызывая шок, подобно нападению:
— О, как хорошо! Теперь ты для нас станцуешь! Хорошо!
Он радостно смеется. У него странно высокий голос для ошеломляюще массивного тела. Мужчина такой большой, что его ягодицы и бедра вываливаются за пределы циновки, постеленной для него рядом с троном. Ему позволили сидеть, откинувшись на подушки, признавая такую необходимость и оказывая ему честь. Никто другой не имеет права сидеть, кроме императора и слепого музыканта, даже наследник. Шиньцзу стоит рядом с отцом, пьет вино и осторожно молчит.
Осторожность — разумная предосторожность для принца в Катае.
Тот очень большой человек, напрочь лишенный осторожности, родился варваром на северо-западе. В молодости его арестовали за кражу овец, но позволили вступить в катайскую армию, чтобы избежать казни.
Сейчас он достиг такого могущества, что это внушает ужас большинству из находящихся в этой комнате. Он — военный губернатор трех округов, занимающих огромную территорию на северо-западе. Командующий очень большой армии.
Такого никогда раньше не случалось — один губернатор всех трех округов. Такого не допускали.
Толстые ноги этого человека вытянуты прямо вперед перед ним — он никак не смог бы их скрестить. Глаза-щелки почти спрятаны среди складок его гладко выбритого лица. Его волосы под черной шляпой редеют; их осталось слишком мало, чтобы сделать узел. Когда он прибывает с Синань или когда покидает имперский город, возвращаясь в северные округа, двенадцать человек несут его паланкин. Прошли те дни, когда его могла нести лошадь — в битву или куда-нибудь еще.
Его зовут Ань Ли, но уже давно все знают его как Рошаня.
Его ненавидят многие. Но есть и те, кто его обожает, так же сильно и страстно.
Среди тех, кто любит генерала, — император, а Вэнь Цзянь, Драгоценная Наложница, даже усыновила его, сделала своим сыном, — хотя он в два раза старше нее, устроив детскую игру, шутливую церемонию, которую некоторые сочли отвратительной.
В начале этой весны женщины из ее свиты, тридцать или сорок, хихикая среди облаков благовоний и смеси ароматов духов, сняли с Рошаня одежду, пока он лежал на полу в женских покоях, а потом присыпали его пудрой, спеленали и закутали, словно новорожденного, в широкие простыни. Цзянь вошла, смеясь и хлопая в ладоши от восторга, и напоила его молоком, делая вид — некоторые говорили, что из обнаженной груди, — что это ее собственное молоко.
Император, говорили шепотом, пришел в тот день на женскую половину, где толстяк, который некогда был — и во многих смыслах до сих пор им оставался — самым грозным генералом империи, вопил и плакал, как новорожденный младенец, лежа на спине, и тер кулаками маленькие глазки, а холеные, надушенные женщины дворца Да-Мин хохотали до колик, глядя, как Цзянь и Рошань весело играют в центре мира.
Все в Синане знали эту историю. Об этих двоих ходили и другие легенды, которые рассказывали шепотом: произносить их вслух в неподходящей компании было невыразимо опасно. По правде говоря, это было опасно в любой компании.
Высказываться так, как это делает Рошань сегодня вечером, когда Вэнь Цзянь начинает танцевать, является грубым нарушением протокола. Для тех, кто разбирается в таких вещах, это также является ужасно агрессивной демонстрацией самоуверенности.
Генерал неотесанный и необразованный — и сам гордо провозглашает себя таковым, — он родился в одном племени в приграничных дюнах пустыни, среди людей, которые научились выживать, выращивая овец и коней, а потом грабя купцов на Шелковом пути.
Его отец служил в катайской армии на границе, один из многих варваров, заполнивших кавалерию по мере роста имперской армии. Отец поднялся до среднего ранга, прокладывая дорогу для сына, который не всегда был таким тучным.
Ань Ли, в свою очередь, был солдатом, офицером, а затем и старшим офицером. Его солдаты оставили горы вражеских черепов на полях сражений для волков и грифов, завоевывая территории для Катая. После этих завоеваний Рошаня сделали генералом, а затем, очень скоро, — военным губернатором северо-запада, оказав почести большие, чем другим губернаторам.
Поэтому он считает, что ему позволено вести себя так, как не посмел бы ни один человек, даже наследник. Возможно — особенно наследник. Он забавляет Тайцзу. По мнению некоторых из присутствующих в этой комнате, он намеренно ведет себя так, грубо вмешивается, чтобы показать остальным, что ему это можно. Что это можно ему одному.
Среди тех, кто считает так, — новый первый министр Вэнь Чжоу, любимый двоюродный брат Драгоценной Наложницы, занявший этот пост благодаря ее протекции.
Его предшественник, тощий, недремлющий министр, который умер осенью, — к облегчению многих, к горю и ужасу других — был единственным из живых людей, которых заметно боялся Рошань.
Цинь Хай, который упорно продвигал по службе толстого варвара и держал его в узде, ушел к предкам, и дворец Да-Мин стал другим, а это значит — другой стала империя.
Евнухи и мандарины, принцы и военачальники, аристократы, последователи как Священного Пути, так и Учителя Чо, — все они наблюдают за первым министром и самым сильным из военных губернаторов. И никто не совершает быстрых движений и не привлекает к себе внимания. Не всегда полезно быть замеченным.
Из тех, кто следит за первыми медленными, чувственными движениями Цзянь, — ее кремовая с золотом шелковая юбка метет пол, потом начинает подниматься и плыть по воздуху по мере того, как движения становятся все быстрее и размашистее — самый подозрительный взгляд на Рошаня разделяет главный советник первого министра.
Этот человек стоит за спиной Чжоу в черной одежде (красный пояс, золотой ключ, висящий у пояса) мандарина наивысшей, девятой степени.
Его зовут Шэнь Лю, и его сестра — его единственная сестра — к настоящему моменту уже находится далеко на севере, за Длинной стеной, и очень хорошо служит его целям.
Как образованный и культурный человек, он ценит подобные танцы, поэзию, хорошее вино и еду, живопись и каллиграфию, драгоценные камни и шитый золотом шелк «ляо», даже архитектуру и изысканную планировку городских садов. Он ценит все это даже больше, чем первый министр.
В его натуре есть и чувственная сторона, хотя и тщательно скрываемая. Но глядя на эту женщину, Лю с трудом пытается сопротивляться своему воображению. Он сам себя пугает. Одно то, что он не может сдержаться и представляет себя в комнате с ней наедине, как она стоит с поднятыми изящными руками, — широкие рукава соскользнули к плечам и открыли длинные, гладкие руки — и вынимает шпильки из черных, как ночь, волос, вызывает у него дрожь. Словно какой-нибудь враг может заглянуть в тайные уголки его мыслей и ввергнуть в пучину опасности.
Невозмутимый, внешне сдержанный Лю стоит позади первого министра Вэня, рядом с главным дворцовым евнухом, и смотрит на танец женщины. Случайный наблюдатель мог бы подумать, что он скучает.
Шэнь Лю не скучает. Он прячет желание и боится Рошаня. Он не может понять, каковы амбиции именно этого человека. Лю терпеть не может не знать что-то наверняка, он всегда был таким.
Первый министр тоже боится, и они полагают, что у него есть на то причины. Они обсудили несколько вероятных действий, в том числе возможность спровоцировать Рошаня на какой-нибудь безрассудный поступок, а потом арестовать его за государственную измену. Но этот человек управляет тремя армиями, его любит император, а Цзянь, которая играет в этом большую роль, занимает двойственную позицию.
Один из сыновей Рошаня находится здесь, во дворце. Он придворный, но еще и заложник в каком-то смысле, если до этого дойдет. Лично Лю считает, что Рошань не позволит этому факту помешать ему сделать то, что он решил. Двое из советников генерала были задержаны в городе три недели назад по наущению первого министра: их обвинили в консультации с астрологами после наступления темноты, что является серьезным преступлением. Разумеется, оба отрицали свою вину. И все же они остаются под стражей. Рошаню, кажется, это совершенно безразлично.
Обсуждения будут продолжаться.
Раздается шелест. Худой алхимик, священнослужитель Пути, появляется рядом с троном, держа нефритовую с золотом чашу на круглом золотом подносе. Император, не отрывая глаз от танцовщицы, которая не сводит глаз с него, выпивает эликсир, предписанный ему на этот час. Она выпьет свой позже.
Ему, может быть, никогда не понадобится гробница. Может быть, он будет жить вечно, есть золотистые персики в павильонах из сандалового дерева, окруженных ухоженными лаковыми деревьями и бамбуковыми рощами, садами хризантем рядом с прудами, в которых плавают лилии и цветы лотоса дрейфуют среди фонариков и светлячков, как воспоминания о смертности людей.
Тай посмотрел через возвышение на поэта, а потом перевел взгляд на лампу и тень от нее на стене. Глаза его были открыты, но не видели ничего, кроме смутных очертаний.
Сыма Цянь закончил свой рассказ о том, что он знал. Он сказал, что это постепенно становится известным людям со связями при дворе или среди чиновников.
Это была история, о которой легко могли узнать ждущие экзамена студенты. Стало быть, она могла дойти до ушей друзей Тая: двух принцесс отправили в качестве жен в племя богю в обмен на срочно понадобившихся племенных коней для разведения и для кавалерии, так как все большее количество кочевников приходит служить за деньги в армию Катая. Одна из принцесс — настоящая дочь императорской семьи, другая, в результате старого, хитрого трюка…
«Это касается твоей сестры», сказал поэт.
Многое стало понятным в этой залитой мягким светом приемной в доме куртизанок, поздно ночью, в провинциальном городе вдали от центра власти. Откуда старший брат Тая, доверенное лицо и главный советник первого министра Вэнь Чжоу сделал шаг, который люди посчитали бы блестящим, эффектным подарком для всей их семьи, а не только для него самого.
Тай, глядя на тень, внезапно увидел маленькую девочку, сидящую у него на плечах и тянущую руку, чтобы сорвать абрикос…
Нет. Он отогнал прочь этот образ. Он не мог позволить себе такую дешевую сентиментальность. Подобные мысли свойственны слабым поэтам, импровизирующим на пиршестве у сельского префекта, или студентам, с трудом пытающимся сложить заданные стихи на экзамене.
Вместо этого он вызовет в памяти картинки тех дней, когда генерал Шэнь Гао уже вернулся домой из походов: образ своенравной девочки, подслушивающей у дверей, — она позволяла увидеть или услышать себя, чтобы они могли прогнать ее, если захотят, — когда Тай по утрам беседовал с отцом о мире.
Или, позднее, когда генерал ушел в отставку и поселился в своем поместье, ловил рыбу в реке и печалился, когда сам Тай возвращался домой: с далекого севера, с горы Каменный Барабан, или на каникулы по праздникам с учебы в Синане.
Ли-Мэй была уже не той серьезной, круглолицей малышкой. Она побывала вдали от дома, три года служила императрице при дворе, готовилась к замужеству перед смертью отца.
Еще одна картинка: северное озеро, дом в огне, пылающие костры. Запах горящей плоти, люди, которые делали ужасные вещи с другими людьми — с мертвыми и с еще живыми.
Воспоминания, от которых ему хотелось бы избавиться.
Тай поймал себя на том, что сжимает кулаки. Заставил себя прекратить. Он терпеть не мог быть понятным и прозрачным, это делает человека уязвимым. Собственно говоря, именно старший брат Лю научил его этому.
Он увидел, что Сыма Цянь смотрит на него, на его руки, и на его лице читается сочувствие.
— Мне хочется кого-нибудь убить, — признался Тай.
Пауза, чтобы это обдумать.
— Мне знакомо это желание. Иногда это эффективно. Но не всегда.
— Мой брат… ее брат сделал это, — произнес Тай.
Женщины ушли, они остались одни на возвышении.
Поэт кивнул:
— Это очевидно. Он ждет, что ты его за это похвалишь?
Тай уставился на него:
— Нет.
— Правда? Возможно, он этого ждал. Учитывая то, что это дает вашей семье.
— Нет, — повторил Тай и отвел глаза. — Он устроил это через первого министра. Должен был.
Сыма Цянь кивнул:
— Конечно, — он налил себе еще вина, показал на чашку Тая.
Тот покачал головой и произнес… слова сами вырвались у него:
— Я также узнал, что первый министр Вэнь взял к себе женщину, которую я… мою любимую куртизанку из Северного квартала.
Его собеседник улыбнулся:
— Все переплелось, как ткань правильного стиха. Это еще один человек, которого ты хочешь убить?
Тай вспыхнул, понимая, каким банальным это должно казаться такому искушенному человеку, как поэт. Теперь дуэль за куртизанку. Студент и высокий правительственный чиновник! До смертельного исхода! Такую несерьезную сказку разыгрывали на базарной площади в кукольном театре на потеху глазеющих крестьян.
Он слишком сердился и понимал это.
Тай протянул руку и все-таки налил себе еще вина. Снова оглядел комнату. Всего человек десять еще не спали. Было уже очень поздно. Он ехал верхом с рассвета этого дня.
Его сестра уехала. Янь лежит мертвый у озера. Его отец умер. Его брат… его брат…
— Есть много людей в Синане и в других местах, — мрачно произнес Сыма Цянь, — которые желали бы не видеть первого министра… среди живых. Он должен принимать меры предосторожности. Имперский город сейчас убийственно опасен, Шэнь Тай.
— Тогда я хорошо в него впишусь, правда?
Поэт не улыбнулся:
— Не думаю. Я думаю, что ты встревожишь людей и сместишь равновесие. Кто-то не хочет твоего приезда. Это очевидно.
Очевидно…
Трудно, несмотря ни на что, представить себе брата, выбирающего убийцу. Это причиняло боль, как удар. Это было трещиной, пропастью в привычном мире.
Тай медленно покачал головой.
— Возможно, это сделал не твой брат, — сказал поэт, словно читая его мысли. Женщина-воин Каньлиня, Вэй Сун, несколько дней тому назад, ночью, тоже их прочла. Таю это не понравилось.
— Конечно, это сделал он! — резко ответил он. За его словами скрывалось нечто темное. — Лю должен был предвидеть мою реакцию на то, как он поступил с Ли-Мэй.
— Он мог ожидать, что ты убьешь его за это?
Тай подавил в себе мрачный бой барабанов. Поэт удерживал его взгляд своими широко расставленными глазами.
В конце концов Тай пожал плечами:
— Нет, не мог.
Сыма Цянь улыбнулся:
— Я так и думал. Между прочим, на крыльце какой-то человек ходит взад и вперед и смотрит на нас. Маленького роста. В черном. Может быть, это еще один воин Каньлиня, посланный за тобой…
Тай даже не взглянул.
— Нет. Это мой воин. Да, из Каньлиня. Я нанял телохранителя в крепости у Железных Ворот. Этого воина послал из Синаня один человек, чтобы остановить убийцу.
— Ты ему доверяешь?
Тай вспомнил Вэй Сун сегодня ночью в переулке, когда за ним пришли люди губернатора. Он ей действительно доверяет, понял он.
Раньше то, что кто-то так явно охраняет его, вызвало бы у него раздражение: потеря самостоятельности, предположение, что он не в состоянии позаботиться о себе сам. Теперь, после того, что он узнал, — другое дело. Ему надо будет обдумать и это тоже.
Но только не сегодня. Он слишком устал и не мог перестать думать о Ли-Мэй. А потом — о Лю. Первый сын, старший брат. Они много лет жили в одной комнате…
Тай отбросил и эту мысль. Снова сентиментальность. Они уже не дети.
— Это женщина, — уточнил он. — Из воинов Каньлиня. Она видела, как солдаты губернатора ушли с арестованными, и решила, что кому-то нужно остаться на страже. С ней бывает трудно.
— С ними всеми бывает трудно. Женщины, воины Каньлиня. А уж в одном лице… — поэт рассмеялся. Потом спросил, как почти ожидал Тай: — Кто тот человек в Синане, который послал ее?
Он ведь уже решил доверять и этому человеку, не так ли?
— Та куртизанка, о которой я упомянул. Наложница Вэнь Чжоу.
На этот раз поэт заморгал и сказал через несколько секунд:
— Она пошла на такой риск? Ради мужчины, который отсутствовал два года? Шэнь Тай, ты… — Он не закончил эту мысль. — Но если твоей смерти хочет первый министр, даже риск потерять твоих коней для империи, возможно, не заставит его передумать.
Тай покачал головой:
— Если убить меня сейчас, после того как пришло сообщение о конях, Чжоу или мой брат рискуют, что кто-нибудь — вы, Сюй Бихай, даже комендант у Железных Ворот — свяжут это с ними. Потеря такого большого количества сардийских коней придала бы значение моей смерти. Враги Вэнь Чжоу могут использовать это и свалить его.
Поэт задумался.
— Тогда о чем речь? Ты ничего не мог бы сделать для сестры у Куала Нора, правда? Ты был слишком далеко, было уже слишком поздно, но убийцу все равно послали. Для того чтобы устранить нового врага раньше, чем он вернется? — Он поколебался. — Или, может быть, соперника?
Это было похоже на правду.
Ее волосы при свете лампы…
«А если один человек заберет меня отсюда, когда ты уедешь?»
— Это возможно, — согласился Тай.
— Ты поедешь дальше в Синань?
Тай улыбнулся, в первый раз после того, как вернулся сверху. И сказал невесело:
— Я ведь должен это сделать? Я отправил сообщение. Меня будут ждать с нетерпением!
На этот раз ответной улыбки не последовало:
— Или будут ждать на дороге, это тоже возможно. Шэнь Тай, ты примешь в попутчики недостойного друга?
Тай сглотнул. Этого он не ожидал.
— Зачем? С вашей стороны было бы глупо и опасно подвергать себя…
— Ты помог мне вспомнить поэму, — ответил тот, кого называли Изгнанным Бессмертным.
— Нет смысла…
— И ты два года хоронил мертвых у Куала Нора.
Снова молчание. В этом человеке много пауз, подумал Тай. Пространства между словами, не менее важного, чем сами слова.
В другом конце комнаты кто-то начал тихо перебирать струны пипы, и звуки поплыли сквозь свет ламп и тени, как листья по освещенному луной потоку.
— Синань изменился. Тебе понадобится человек, знающий тот город, которым он стал с тех пор, как ты уехал. Знающий лучше, чем некоторые воины Каньлиня, вышагивающие взад и вперед, — Сыма Цянь ухмыльнулся, а потом рассмеялся, забавляясь какой-то мыслью, которой не захотел поделиться.
Рука поэта, заметил Тай, потянулась к мечу и прикоснулась к нему.
«Друг» — вот слово, которое он произнес.
Путешествие не кончается тогда, когда кончается.
Эта избитая мысль приходит ей в голову в холоде ночи, пока она ждет одна в своей юрте. Ли-Мэй не спит и не ложится под овечьи шкуры, которые ей приготовили на ночь — в степи под звездами может стать еще холоднее. Когда опущен клапан, внутри юрты темно, как в гробнице. Она не видит даже собственных рук. Ли-Мэй сидит на тюфяке, полностью одетая, сжимая в руке маленький кинжал.
Она дрожит, и ей это не нравится, хотя никого здесь нет и никто не видит ее слабости.
Учение о священном Пути использует фразу о путешествии и месте назначения, чтобы проповедовать, в том числе, что путешествие человека по времени и мирам не заканчивается смертью.
Она не знает, — да и откуда ей знать? — но вера богю включает ту же мысль. Душа возвращается к Небесному Отцу, а тело уходит в землю и продолжает существовать в иной форме, потом в иной, и еще в иной, пока не сломается колесо.
Ли-Мэй поняла сегодня еще кое-что. Точнее, кое-что узнала. И это случилось в тот момент, когда она увидела волков на склоне и человека с ними и наблюдала, как возник хаос. Кочевников за ее спиной охватила паника — этих жестких, свирепых мужчин степей, само существо которых требует не показывать страха никому, и самим себе — тоже.
Что-то должно произойти. Путешествие, одно путешествие, закончится. Возможно, прямо здесь.
Поэтому Ли-Мэй не спит. Она одета и ждет. С кинжалом.
Поэтому когда раздается вой первого волка, она не удивляется. Но все равно не может удержаться от того, чтобы судорожно не вздрогнуть, услышав этот тоскливый, дикий вой, и не может заставить руки не дрожать еще сильнее. Можно быть храброй и бояться. Она, например, боится, что порежется кинжалом, поэтому откладывает его в сторону.
Вожак волков начинает сам, потом подхватывают другие, наполняя простор ночи своими голосами. Но собаки кочевников — крупные волкодавы — молчат, как молчали с тех пор, когда увидели первого волка на закате.
Вот почему, прежде всего, она так уверена, что происходит нечто странное. Собаки должны были взбеситься при виде волков и раньше, и услышав их сейчас.
Ни звука. Они не издают ни звука.
Ли-Мэй слышит движение снаружи: всадники вскакивают на коней. Им спокойнее верхом, она это уже поняла. Но не слышно выкриков, приказов, воинственных кличей и лая собак. Это неестественно.
Снова волки, еще ближе. Худшие звуки на свете — так кто-то назвал их вой в давнишней поэме. Катайцы боятся волков больше, чем тигров. В легендах и в жизни. Сейчас они спускаются с холмов. Она закрывает глаза в темноте.
Ли-Мэй хочется лечь на свое маленькое ложе, натянуть на голову овечьи шкуры и пожелать, чтобы все это исчезло. Чтобы этого не было.
В городке недалеко от их поместья жил сказочник, который обычно рассказывал на базарной площади легенду о девушке, которая умела делать такое. Она помнит, как в первый раз протянула ему медную монетку, а потом поняла, что сказочник слеп…
Ей так хочется оказаться там, дома, в своей собственной спальне, или раскачиваться на садовых качелях, стоять на лестнице в саду, срывая первые летние фрукты, смотреть вверх, чтобы найти Ткачиху на знакомом вечернем небе…
Ли-Мэй чувствует на лице слезы.
Нетерпеливо, с жестом, который узнал бы, по крайней мере, один из ее братьев, она плотно сжимает губы и вытирает щеки тыльной стороной ладоней обеих рук. Возможно, ей захотелось бы это отрицать, но показывать свое отчаяние Ли-Мэй по-своему так же неприятно, как кочевникам, сидящим снаружи на лошадях.