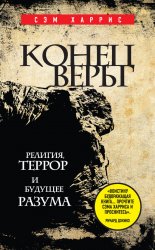Приступить к ликвидации (сборник) Хруцкий Эдуард

Участковый не по возрасту проворно застучал сапогами вниз по лестнице. Никитин сел на ступеньку:
– Сережа, у тебя закурить есть?
Белов полез в карман шинели, вынул смятую пачку «Беломорканала», встряхнул ее.
– Три штуки осталось.
– А до пайка жить да жить, – философски изрек Никитин, беря папиросу, – я, конечно, с табачком пролетел сильно. Пришлось этому жмоту на вещевом складе подкинуть.
– Коля, быть красивым в наше время – дело нелегкое.
– И не говори. – Никитин поднялся. – Холодно все же.
Они курили, и плотный папиросный дым висел в остылом воздухе подъезда. Он был похож на комья снега, повисшие под потолком.
За тусклым от грязи, перехваченным бумажными крестами окном подъезда плыл январь сорок третьего. Тревожный и студеный. Где-то, как писали газеты, на энском направлении шли бои. Их ровесники в ватниках, потерявших цвет, в шинелях, измазанных кровью и глиной, умирали и побеждали.
Этих двоих война сама отторгла от себя. Она смяла их, покрыла тело рубцами, хотела сломать, но не смогла. Молодость брала свое. Она помогла им залечить раны, помогла найти новое дело. Конечно, им было обидно слушать горькие слова женщины из третьей квартиры. Обидно. Но вины своей перед ее мужем они не чувствовали. Ведь не в ОРСе и не на продскладе поджирались они. Жизнь вновь вывела их на линию огня.
Внизу хлопнула дверь, послышался хозяйски-строгий голос участкового и испуганная женская скороговорка. На площадку поднялся запыхавшийся участковый и женщина лет шестидесяти, закутанная в темный вязаный платок. Белов сразу же отметил какое-то несоответствие в ее одежде. Валенки, подшитые светлой резиной, этот платок и пальто черного драпа с потертым воротником из чернобурки. Причем голова зверя висела над правым плечом, хитро вытянув остренький нос. Пальто было явно не по росту и напоминало по длине кавалерийскую шинель.
– Вот, – переводя дух, доложил участковый, – вот, товарищ старший лейтенант, и домохозяйка Ольги Вячеславовны, значит, Наумова Лидия Алексеевна. Такая у нее, значит, профессия.
– Где Ольга Вячеславовна? – спросил Белов.
– А где ей быть? Дома небось.
– Мы звонили, стучали, никто не открыл дверь. Когда вы ее видели в последний раз?
– Так утром сегодня, карточки ей отоваривала.
– Она никуда не собиралась уходить?
– Так Ольга Вячеславовна зимой никуда не ходют.
– У тебя, мамаша, ключи от квартиры есть? – вмешался в разговор Никитин.
Он не любил продолжительных бесед, как всякий человек действия.
– Ну?
– Чего «ну»? – передразнил Никитин. – Я тебе не мерин, а офицер Московской Краснознаменной милиции.
Наумова посмотрела на Никитина с испугом, видимо, полный титул московской милиции сыграл свою магическую роль.
– Есть, – ответила она.
– Открывай.
– Ольга Вячеславовна сердиться будут.
– Мы ее, мамаша, уговорим.
– Ну, если так…
Сказала Наумова это с видимой неохотой, поглядывая на трех милиционеров недоверчиво.
Она раскрыла большую клеенчатую сумку, достала связку ключей. Их было много, штук шесть. И Белов почему-то вспомнил пьесу «Васса Железнова», которую смотрел перед войной, и вспомнил брата Вассы – Прохора, который собирал странную коллекцию ключей и замков. Много, наверное, отдал бы он за этот набор.
Никогда еще не приходилось Белову видеть столь сложные конфигурации бородок ключей. Они по форме напоминали маленькие крепости с зубчатыми стенами и приземистыми башнями по бокам.
– Да, – изумился Никитин, – штучная работа, большой цены вещь.
Наумова как-то испуганно подошла к двери, постояла некоторое время, не решаясь вставить ключ в замок, потом трясущейся рукой попыталась вложить его в фигурную скважину.
– Эх, мамаша. – Никитин взял у нее из рук связку и начал работать ключами.
Замки щелкали, отдавались металлическим звоном. Наконец первая дверь распахнулась. Никитин достал фонарик и осветил полумрак тамбура. Еще одна дверь. Еще набор замков.
Они увидели темный коридор, пол его был застелен ковровой дорожкой, на которой что-то лежало.
– Я же убиралась утром, – сказала за спиной Никитина женщина, – все в порядке было.
– Хозяйка! – позвал Никитин, войдя в коридор. – Эй, есть кто живой?
Белов, войдя следом за ним, нажал на рычажок выключателя.
Свет в Москве давно был тусклым, фонарь мутного хрусталя, зажатый по бокам грудастыми серебряными дамами, висел под потолком. Никитин наклонился над темным предметом на ковре.
– Между прочим, котиковая шуба, – сказал он.
Никитин предчувствовал событие, и сердце его наливалось яростью.
– Подожди. – Белов распахнул дверь в комнату.
Большой круглый стол, стулья, картины на стенах.
Вторая дверь – вторая комната. Письменный стол, модели мостов, паровоз с большими медными колесами. Плотный ряд фотографий в темных рамках, написанный маслом портрет человека в путейской форме, диван. Третья дверь – третья комната. Совершенно темная, запах духов и еще чего-то, а вот чего – Белов не понял. Он лучом фонаря пересек комнату. Стены, обитые голубым материалом, голубые шторы, голубой ковер на полу, стол, шандалы со свечами…
На полу лежала женщина в голубом халате, беспомощно откинув в сторону руку.
– Никитин! – крикнул Белов. – Свет! Немедленно свет!
Он наклонился над женщиной, взял ее почти невесомую руку, нащупывая пульс. Наконец под пальцами дрогнула кожа.
– Врача! – крикнул Белов. – Никитин, звони нашим!
Данилов
В странно голубой комнате горели свечи. Свет их прыгающе отражался в двух огромных зеркалах. Пахло лекарствами, духами и ладаном.
Данилов взял со стола странную колоду карт. Выкидывая одну за одной, он глядел на сложное переплетение фигур и цифр на атласных рубашках и вспомнил, как в четырнадцатом году в Брянске, когда он был еще совсем юным реалистом, все покупали гадальные карты девицы Ленорман, предсказавшей гибель Наполеона.
– Доктор, – спросил Данилов, положив карты, – как она?
– Ее ударили тупым предметом по голове, она потеряла сознание. Но сердце крепкое, думаю, все будет в порядке.
Вошел Муравьев, с интересом оглядел комнату.
– Иван Александрович, мы тайник нашли.
– Где?
– В гостиной.
– Пустой, естественно?
– Конечно.
Данилов встал, прошел по коридору мимо сидящих как скованные, испуганных понятых и вошел в гостиную. Огромный ковер был скатан в трубку, и в полу зияло квадратное отверстие.
Данилов подошел, опустился на колени:
– Ну – ка, посвети мне.
Эксперт зажег фонарь, и Данилов увидел металлический ящик, вделанный в пол, крышка его была умело покрыта паркетом, так что почти не отличалась от остальной поверхности.
– Посвети-ка, посвети.
Луч света уперся в дно ящика, покрытое пылью, в углах засеребрилась паутина.
– Я так думаю, что в этот тайник года четыре никто не заглядывал. Ищите, просто так хиромантов у нас в городе по голове не бьют.
Он снова вернулся в эту странную комнату, напоминающую кадр из какого-то немого фильма, которые крутили во время нэпа на Тверской.
– Мы сделали ей укол, – повернулся к нему врач, – надеюсь, что скоро она придет в себя.
И, словно в ответ, женщина застонала и попыталась сесть.
– Лежите, лежите, – взял ее за плечи врач.
– Нет, – неожиданно звучно ответила она и села.
И Данилов увидел глаза. Только глаза. Огромные и темные, казавшиеся бездонными в свете свечей.
– Кто вы? – спросила она.
– Мы из милиции.
– Тогда убейте его.
– Кого?
– Он пришел и потребовал все деньги и драгоценности. Я отказала, тогда они накалили на керосинке гвоздь и начали прижигать мне руку.
– Он или они? – перебил ее Данилов.
– Их было двое…
Женщина замолчала, глядя на Данилова странными, почти без зрачков, глазами. Лицо ее, тонкое и нервное, странно освещенное колеблющимся от сквозняка желтым светом, казалось сошедшим со старой гравюры.
– Потом он ударил меня… – так же в никуда и никому сказала женщина.
– Вы отдали ему ценности?
– Все: и деньги, и золото, и облигации. Он взял все.
– Кто он?
– Виктор.
– Его фамилия?
– Я не помню.
– Где он живет?
– В Камергерском переулке.
– Дом?
– Угловой первый дом, третий этаж, квартира двадцать четыре.
Женщина внезапно начала оседать на подушку, что-то бормоча совсем непонятное.
– Что с ней? – спросил Данилов.
– Так, – ответил врач, – ничего опасного нет, но придется отправить ее в больницу.
Данилов вышел в коридор. Странная обстановка, странная женщина в голубом, ее глаза и слова… Она говорила в сомнамбулическом состоянии. Видимо, в этом и заключался ее секрет как предсказательницы.
– Товарищ подполковник, – в коридор выглянул врач, – знаете, что она сказала про вас?
– Про меня? – удивился Данилов.
– Да. Она сказала: у него будет долгая жизнь, но он увидит много горя.
Данилов вспомнил глаза Ольги Вячеславовны, и ему стало не по себе.
– Доктор, она больная?
– Нет, это странный психический феномен. У нас о нем не любят говорить. Но тем не менее он существует.
– И вы в это верите?
– Я не специалист.
– Странно. Нельзя ли больную перенести в гостиную, мы должны осмотреть ее комнату?
– Ваши люди помогут нам?
– Конечно. Муравьев!
Игорь, застегивая воротник гимнастерки, вышел в коридор.
– Распорядись, чтобы перенесли хозяйку в гостиную, и зайди ко мне на кухню.
Данилов налил стакан воды, благо кухня уже осмотрена, и выпил ее в два глотка. Но никотиновая горечь во рту все равно не исчезла, казалось, что он пропитался ею раз и навсегда.
На кухню вошел Муравьев, на ходу подтягивая пояс, на котором висела кобура, ярко-желтая, из хорошей свиной кожи.
Он вопросительно поглядел на Данилова.
– Поедешь в Камергерский переулок, ныне проезд Художественного театра. В угловом доме на третьем этаже есть двадцать четвертая квартира, там живет некто по имени Виктор. Устанавливать его нет времени. Надо брать. Помни, что они работали здесь вдвоем. Возьми людей и езжай.
Данилов подошел к телефону и приказал дежурному допросить Баранова, выяснить все о Викторе. Потом он сел на кухне, прижавшись плечом к шкафу, и задремал.
Муравьев
Ну до чего же много снега намело. Большая Дмитровка стала узкой, как щель. Благо движения нынче в Москве почти никакого нет. В эмке было холодно. Печка не работала. Да и что это за печка – кусок гофрированной трубки. Только руки погреть, и все.
Игорь поднял воротник черного полушубка, отгородившись им, как ширмой, от зимней Дмитровки, холодной машины и вообще от всей суетной жизни.
Вчера он получил письмо от жены. Их институт эвакуировался в Алма-Ату, она писала о том, что работает над дипломом, очень скучает, сообщала о здоровье его матери.
Слава богу, у них все было в порядке. Но какое-то странное чувство жило в нем уже не первый год. Они расписались накануне ее отъезда, поэтому была у них всего одна ночь. И хотя Муравьев верил жене, но все же с каким-то непонятным мучительным любопытством выслушивал веселые истории о женщинах, которые бесконечно рассказывал Никитин.
– В отделение заезжать будем? – спросил Быков.
– Туда позвонили, у дома нас будут ждать.
Оперативники ждали у дома. Одному было около шестидесяти, второй совсем молодой парнишка в очках.
– Это Виктор Розанов, – сказал тот, что постарше, – я его, Муравьев, знаю. Студент, вроде за ним ничего не водилось.
– Почему не на фронте?
– Броня.
– Значит, так. – Игорь окинул взглядом людей. Два муровских парня очень отличались от оперативников отделения. И Муравьев подумал с гордостью, что ОББ есть ОББ, в нем и люди работают совсем другие. – Пошли, – скомандовал он, – приготовьте оружие.
Никакого определенного плана у него не было. Да, впрочем, и быть не могло. Ничего, кроме номера квартиры и имени Виктор, он не знал.
Дверь в квартиру была распахнута, где-то в комнате патефонный голос Минина пел об утомленном солнце. На площадке красились две девицы. Одна держала маленькое зеркало, вторая подводила губы под Дину Дурбин.
Как ни странно, электричество здесь горело ярко, видимо, дом снабжался от одной линии с Центральным телеграфом.
– Витя дома? – спросил девиц Муравьев.
– Кто? – удивилась та, что держала зеркало.
– Хозяин.
– Высокий такой? Дома.
Они вошли в прихожую, услышали гомон голосов, смех, звон посуды.
– Перекрыть двери, – сквозь зубы скомандовал Игорь, доставая из кармана пистолет.
Он шагнул в комнату. Стол. Четверо мужчин и три женщины, бутылки. Много бутылок, – вот что он отметил сразу.
И глаза их увидел. Они словно воткнулись в него, уперлись. И были они полны ненависти. И лицо он увидел человека, сидящего во главе стола. Коротко стриженные волосы, шрам на лбу.
– Всем оставаться на местах. Уголовный розыск. – Игорь поднял пистолет.
Молодой оперативник из отделения, оттерев его, рванулся в комнату, и сразу же тот, кто сидел во главе стола, выстрелил. Парнишка, переломившись пополам, начал оседать, а Игорь, прыгнув на вспышку второго выстрела и почувствовав, как пуля прошла совсем рядом, опалив волосы, ударом ноги перевернул стол и бросился на короткостриженого. Тяжелая столешница ударила бандита в грудь, и он, падая, выстрелил в потолок. Опережая его, не давая вновь поднять пистолет, Игорь навалился на него, прижимая к полу руку с оружием. Тяжелый полушубок мешал ему. Противник попался худощавый и верткий. Он хрипел, смрадно дыша перегаром, пытаясь левой рукой добраться до горла Игоря.
На секунду он увидел его глаза, светлые и беспощадные, и, не раздумывая, ударил бандита рукояткой «вальтера» в висок. Тот обмяк, и Муравьев, подняв его оружие, обыскал, достал еще один пистолет и финку, поднялся.
Все было кончено. У стены стояли с поднятыми руками трое мужчин, женщины в ужасе сбились в углу. Над раненым оперативником склонился его товарищ.
– Как он? – расстегивая тулуп, спросил Игорь.
– Плохо, в живот угодил подонок.
– Вызывайте скорую, арестованных в машину.
Ему было нестерпимо жарко, ворот гимнастерки давил горло, по телу текли липкие капли пота.
– Ну, что нашли?
– Вот у этого наган. – Оперативник кивнул на высокого парня в темном бостоновом костюме, в рубашке крученого шелка и ярком полосатом галстуке.
– Ну, Виктор, – усмехнулся Муравьев, – пойдем поговорим.
– Куда?.. Я не пойду… Зачем?.. – испуганно забормотал парень.
И Муравьев, глядя на его искаженное страхом лицо, понял, что он скажет все.
– Пойдем, пойдем, – подтолкнул его к дверям Игорь, – не трясись. Пойдем.
Он вывел его в другую комнату с потертым ковром на полу и кроватями, закрыл дверь и стянул полушубок.
Он стоял перед Виктором, еще не остывший от схватки, в форме, плотно облегающей сильное тело, подбрасывая в руке трофейный пистолет.
– Ну, – сказал Игорь, – быстро. Что взял у Ольги Вячеславовны?
– Это не я… Он пришел… Сказал, пойдем… Она на твой голос дверь откроет…
– Кто он?
– Андрей.
– Тот, что стрелял?
– Да.
– Пытал старуху он?
– Да.
– Кто тебе дал наган?
– Он.
– Где вещи?
– В шкафу, я все отдам…
– Ты думал, что убил ее?
– Да.
– Почему ты ударил ее?
– Андрей заставил, сказал, что надо помазаться кровью.
Густая волна ненависти захлестнула Игоря.
– Значит, кровью хотел замазаться? Чьей кровью? Ты бы лучше на фронт пошел, немного своей отцедил. Совсем немного. Значит, так, кто такой Андрей?
– Это человек, это человек…
– Я сам вижу, что не жираф. Кто он?
– Дядя мой имеет с ним дело.
– Кто дядя?
– Адвокат. Розанов его фамилия. Они у него дома живут, в Кунцеве.
Данилов
– Ты, Игорь, молодец, – сказал Иван Александрович, с удовольствием глядя на Муравьева. – Вот только глаз он тебе подбил. Но ничего, намажь бодягой, пройдет.
Глаз Муравьева даже в тусклом свете лампы отливал угрожающей синевой.
– Иди, Игорь, работай с ними, узнай все про дядю Розанова.
Муравьев ушел. Данилов встал из-за стола, пересел на диван. Ему очень хотелось снять сапоги, вытянуть ноги и сидеть бездумно, чувствуя, как усталость постепенно покидает тело. А всего лучше закрыть глаза и задремать хоть ненамного, ненадолго. И чтобы сны пришли непонятно-ласковые, как в детстве.
До чего же смешно, что именно тогда, когда человек счастливее всего, ему так хочется переменить жизнь. Зачем стараться быстрее взрослеть? Прибавлять года, часами у зеркала искать на губе первый пушок усов. Зачем? Все равно самое доброе и прекрасное люди оставляют в детстве. Только в нем в мире столько красок, только в нем столько любви. Неужели в детстве он мог представить, что будет сидеть в этой маленькой комнате со столом, диваном, пузатым сейфом и картой на стене? Нет. Он-то тогда знал точно, что будет моряком или на худой конец авиатором, как знаменитый Сережа Уточкин.
Данилов даже услышал голос, поющий модную в те годы песенку:
- Если бы я был Уточкин Сережа,
- Полетел бы я, конечно, тоже,
- Полетел бы я повыше крыши,
- На манер большой летучей мыши…
Вот и все, что осталось у него от счастья. Старенький, прыгающий мотивчик, его хрипели все граммофонные трубы; желтая, твердого картона фотография матери и щемящая грусть, которая приходит к людям, так и не нашедшим счастья. Но закрывать глаза было нельзя. Потому что дел многовато накопилось.
Конечно, им сегодня повезло. Бывает такое слепое везение. Ох уж эта блатная романтика. Кровью им надо обязательно повязаться. Впрочем, не романтика это. Нет. Окропились кровушкой, значит, молчат на допросе оба. Господи, сколько же сволочи на свете! С ножами, пистолетами, дубинками. Гадость и гниль! А к тебе мысли о детстве лезут. И Данилов вспомнил, как, войдя в соседнюю комнату, он увидел застывшее от ненависти лицо Никитина и его пудовый кулак, словно молоток лежащий на столе.
– Не могу, товарищ подполковник, – скрипнул он зубами, – разрешите выйти.
– Иди. – Данилов сел на край стола, достал папиросу.
– Дешевку куришь, начальник. Я ниже «Казбека» не опускаюсь.
Тот, кого Розанов называл Андреем, сидел на стуле свободно, с профессиональной кабацкой небрежностью.
Данилов молча курил, разглядывая его. Потом встал, ткнул окурок в пепельницу.
– Тебе пальцы откатали? – спросил он.
– Да.
– Значит, через два, может, три часа мы будем знать о тебе все. Я думаю, за тобой много чего числится. На высшую меру как раз хватит.
– А ты меня, начальник, не пугай.
– А я тебя и не пугаю. Я для чего веду нашу неспешную беседу? Чтобы ты понял, сколько еще жить осталось. И не смотри на меня так. Твои показания нам нужны для формальности. Виктор наговорил столько, что нам этого вполне достаточно. Тебя сейчас в камеру отведут, так ты подумай по дороге, один пойдешь в трибунал или с компанией.
– А если я скажу все, – задержанный, прищурившись, глядел на него, – будет мне послабление?
– Ты что, впервые на допросе? Нет у меня права смягчать или ужесточать приговор. У меня есть одно право: написать, как ты себя вел на предварительном следствии. Оказал помощь или нет. Но помни – и это шанс. Маленький, еле видимый, но шанс.
Задержанный молчал. Пальцы его побелели, так плотно он сжал руками сиденье стула.
– Думай. А я пойду. Только не мотай нервы моим людям. Они сегодня водку, как ты, не пили, они работали.
Данилов пошел к двери.
– Погоди, начальник…
Иван Александрович оглянулся.
– Ты хоть соври, начальник, хоть пообещай. Мне же тридцати нет.