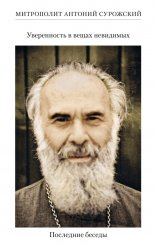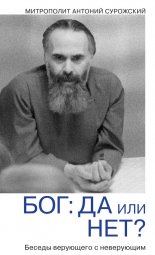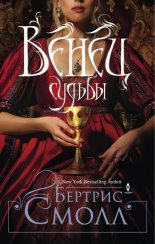Безжалостный распутник Картленд Барбара

В этом голосе звучала такая искренняя боль, что Роттингем невольно вздрогнул. Впрочем, уже в следующий миг на его губах заиграла легкая улыбка. По всей видимости, он случайно подслушал разговор двух влюбленных, прощавшихся друг с другом.
— Как же я смогу спать по ночам, — продолжил юный голос, — думая о том, что ты… скучаешь обо мне… зная, что ты… не поймешь, почему нас разлучили. — Голос оборвался, сменившись плачем, затем зазвучал снова. — Что будет… если с тобой будут жестоко обращаться… если они не поймут, какой ты нежный… какой умный и послушный. Ох, дорогой, дорогой мой… что же мне делать? Как я могу расстаться с тобой? Лучше бы мне умереть!
Последние слова были полны отчаяния и боли. И незримый обладатель загадочного голоса разразился безутешными рыданиями.
Граф, не раздумывая, соскочил с седла на землю. Привязав Громовержца к дереву, он направился в ту сторону, откуда доносился плач. Сделав всего несколько шагов, он оказался на поляне, где тотчас застыл на месте как громом пораженный: его взору предстал удивительной красоты конь.
Животное безмятежно пощипывало траву. На нем было дамское седло с высокой передней лукой. Спиной к Роттингему, на поваленном дереве, печально склонив голову на колени и уткнувшись лицом в ладони, сидела женщина в светло-зеленом платье.
По ее стройной хрупкой фигуре граф заключил, что это совсем юная девушка. Ее волосы, вместо того чтобы быть уложенными в прическу в соответствии с модой, были распущены по плечам. Но поскольку они были вьющимися от природы, то выглядели очень красиво. Определить их цвет граф не смог.
Он стоял и смотрел на нее, понимая, что, оглушенная собственными рыданиями, незнакомка не слышала, как он приблизился к ней.
— Что же мне делать… как я расстанусь с тобой? — пробормотала девушка.
— Наверняка на ваш вопрос есть ответ, — негромко произнес граф. — Может, стоит попробовать его отыскать?
При звуке его голоса незнакомка напряглась, но лица от ладоней не подняла и даже не удостоила его ответом. Воцарилось молчание.
— Вы ничего… не можете… сделать… Прошу вас… уходите, — ответила она наконец.
— Откуда вы знаете, что я не смогу вам помочь? — спросил граф.
— Никто… никто не может… помочь мне, — ответила юная незнакомка. Ее голос прозвучал глухо, поскольку лицо было по-прежнему закрыто ладонями.
— Почему вы в этом так уверены? — поинтересовался граф. — Знаете, именно тогда, когда кажется, что дела обстоят хуже некуда, в голову приходит идея, как изменить этот мир к лучшему.
— Ничто… не может… спасти Меркурия, — возразила девушка. — Так что… бессмысленно… даже говорить… об этом.
Роттингем сел на соседнее поваленное дерево. Он выглядел весьма элегантно в белых бриджах, сюртуке и цилиндре, щегольски сидящем на его темных волосах.
— Я правильно понял, что вас хотят лишить лошади? — спросил он. — Это не праздное любопытство, я действительно хочу вам помочь.
— Я сказала вам… никто… не может… помочь мне, — ответила девушка, шмыгая носом. Ее голос звучал беззащитно, совсем по-детски, и предательски дрожал, как будто она вот-вот не на шутку разрыдается.
— Но почему?
— Он… его… продают… в субботу, — ответила она. — Мне нет дела… до других вещей… дома… мебели… но Меркурий… он не поймет.
— Верно, он не поймет, — задумчиво согласился Роттингем.
— Он всегда был со мной… с тех пор… как был жеребенком, — призналась незнакомка. — Я ухаживала за ним… кормила его, чистила. На нем… никогда… никто… еще не ездил, кроме меня. Что, если… кто-то будет… жестоко обращаться с ним?
Ее голос был полон искренней боли, и Роттингем был тронут до глубины души переживаниями юной особы.
— Я не могу поверить, что кто-то станет жестоко обращаться с таким прекрасным животным, — сказал граф.
Незнакомка отняла ладони от лица и посмотрела на своего скакуна. Граф отметил про себя ее очаровательный прямой носик и дрожащие губы. Увы, девушка тотчас же отвернулась, как будто не желая, чтобы он разглядел ее лицо.
— Вы все равно… ничего не сможете… сделать, — пролепетала она. — Прошу вас, уходите. Вы вторглись в чужие владения.
— Эта земля принадлежит вам? — удивился граф.
— Нет, но мне разрешают ездить здесь верхом, — последовал ответ. — А у вас такого разрешения нет. Так что, пожалуйста, возвращайтесь в деревню, сверните налево и сразу ее увидите.
Незнакомка сопроводила свои слова жестом, указав ему, в какой стороне находится деревня.
— Деревня Уитли? — уточнил Роттингем.
— Да, верно. Вы, должно быть, заблудились.
— И все-таки я бы хотел помочь вам.
— Я же сказала вам, — с легким раздражением ответила девушка. — Меркурия собираются продать в уплату долга… долга чести. Карточные долги, знаете ли. Есть и другие долги, которые необходимо оплатить, иначе… Она не договорила.
— Иначе?..
— Иначе моего отца отправят в тюрьму!
Ее голос упал до шепота, казалось, будто она говорит сама с собой.
— Но что же будет с вами? — настойчиво поинтересовался граф. — Когда продадут ваш дом и вашего красавца Меркурия, что будет с вами? Куда вы пойдете?
— Не имею представления, — бесхитростно призналась его собеседница. — Но это… это не важно, что станется со мной, когда… когда у меня не будет моего Меркурия! — Она горестно вздохнула, а затем, явно пытаясь взять себя в руки, сказала: — Мне не следует докучать вам, сэр, моими заботами. Я с вами не знакома, и мои заботы никому не интересны, кроме меня самой. Вы не способны понять, что я… чувствую.
— Как знать, вдруг вы ошибаетесь, — возразил ей Роттингем. — Много лет назад, когда я был маленьким мальчиком, у меня была собака. Мне подарили ее еще щенком, и я сам ее вырастил. Собаку звали Джуди, и я любил ее больше всего на свете. — Немного помолчав, он продолжил свой рассказ: — Джуди всегда бегала за мной следом, даже спала на моей кровати. Когда я учил уроки, она сидела у моих ног, если я отправлялся на верховую прогулку, то она всегда сопровождала моего пони.
Граф вновь сделал паузу.
Юная незнакомка внимательно слушала его и даже подняла голову. Теперь он мог видеть, какое у нее красивое точеное лицо. Девушка смотрела на свою лошадь, и граф отметил про себя, что у нее прекрасная белая кожа и огромные глаза с длинными пышными ресницами, в которых застыли слезы.
А еще она была очень бледна. Графу она напомнила бесплотную стремительную тень — этакое призрачное, бестелесное создание, призрак, пришедший откуда-то из чащи леса, дух, являющийся частью земли, гор, деревьев и зеленой листвы.
— Как вдруг, — продолжил он свой рассказ, — однажды вечером я узнал, что на следующее утро мне предстоит уехать в Лондон. О Джуди никто не упоминал, и я решил, что конечно же смогу взять ее с собой. Мы никогда не расставались, и я не мог представить себе жизни без нее. Лишь когда меня подвели к ожидавшей возле дома карете, мне сказали, что Джуди со мной не поедет.
— Как это жестоко! — воскликнула незнакомка.
— Мне даже не дали толком попрощаться с ней, — продолжил Роттингем. — Меня буквально оторвали от нее. Когда я обнял мою Джуди, мое детское сердце разрывалось от страха: что будет с ней, когда я уеду?
— И что же случилось… с ней? — полюбопытствовала девушка.
— Не знаю, не знаю, — глухо пробормотал граф.
— Вы хотите сказать, что больше никогда ее не видели?
— Я не только больше ее не видел, но никогда больше не слышал о ней, — ответил он.
— Ужас! Как жестоко с вами обошлись! Кошмар! — воскликнула девушка и после короткой паузы добавила: — Тогда вам… понятны мои чувства… к Меркурию.
— Да, понятны, — подтвердил Роттингем.
Повисла новая пауза, первой ее нарушила незнакомка.
— Я даже не знаю, что хуже: представлять себе ужасные вещи, не спать ночами, думая о том, как там бедная Джуди, или же точно знать, что с Меркурием жестоко обращаются, что его бьют, может, даже заставляют возить почтовые дилижансы с тяжелой поклажей?
— Вы напрасно мучаете себя! — успокоил граф. — Скорее всего, его купит какой-нибудь достойный джентльмен. На вашем коне будет кататься добрая леди. Возможно, он попадет в конюшню к кому-то, кто хорошо разбирается в лошадях.
— Но как… я могу быть в этом уверена? — произнесла девушка сдавленным шепотом.
— Знаете, если вы будете ожидать худшего, то это не поможет ни вам, ни Меркурию, — сказал граф. — Это слабость, если не сказать больше — трусость.
Его собеседница ответила не сразу.
— Пожалуй,… вы правы. Я поступила неправильно, когда пала духом и думала только о себе.
Маме наверняка было бы за меня стыдно.
— А как вас зовут? — поинтересовался Роттингем.
— Сиринга, — ответила девушка почти равнодушно, как будто не задумываясь над его вопросом. — Мой отец — сэр Хью Мелтон, и мы живем в деревне, в барском доме. — Она вновь умолкла, как будто о чем-то задумалась, потом неожиданно поднялась на ноги. — Знаете, я хочу вам кое-что показать. Вы помогли мне понять, как глупо я себя вела. Мне не следовало плакать. Мне нужно было молиться за Меркурия… или не стоит?
— Вы думаете, это поможет? — спросил граф. — Я знаю, что поможет, — ответила Сиринга.
Она по-прежнему смотрела не на него, а в сторону. Пройдя через поляну, она подошла к ее левому краю.
— Оставайся на месте, Меркурий! — услышал граф, когда она прошла мимо него, а в следующий миг он увидел, что девушка решительным шагом направилась в лес. Удивленный, он последовал за ней.
Расстояние оказалось небольшим. Вскоре деревья расступились, и он понял, что они стоят на краю обрыва. Простиравшееся внизу пространство зеленых лесов и лугов уходило далеко-далеко, к самому горизонту.
Роттингем вспомнил, что знает это место. В детстве конюх приводил его сюда, когда они совершали верховые прогулки.
— Отсюда, — заговорила Сиринга, — вам виден безлюдный мир, где нет ни дорог, ни человеческого жилья. Вообще-то они конечно же есть, да только не видны. Мама мне рассказывала, что вид, который отсюда открывается, похож на нашу жизнь, он уходит в вечность, и мы лишь выбираем в ней свой путь.
Произнеся эти слова, девушка села на плоский камень на краю отвесного утеса. Лишенный всякой растительности, он резко обрывался вниз.
Граф застыл рядом с ней, устремив взгляд вдаль. Он прекрасно понимал, что она имела в виду, и в душе был полностью согласен с ней. Это действительно безлюдный мир.
Мир деревьев, на которых распускаются почки, мир первозданной красоты, сливающийся на горизонте с туманной синевой неба.
— Маме было бы стыдно за меня, — тихо проговорила Сиринга. — Я вела себя как трусиха. Теперь, когда вы показали мне, что я была неправа, я попытаюсь думать о том, как отправлюсь в путешествие по безлюдному миру, чтобы найти в жизни правильный путь.
— А как же ваш Меркурий? — спросил граф.
— Я буду за него молиться, — ответила девушка. — Молиться о том, чтобы он нашел добрых и заботливых хозяев. Таких, которые будут любить его столь же сильно, как люблю его я. Буду молиться за него каждую минуту, прямо с этого момента и до субботы.
— Вот увидите, ваши молитвы не останутся без ответа, мисс Мелтон.
— Вы вправду так думаете?
Сиринга повернулась к нему лицом, и граф впервые смог как следует его разглядеть. Он не ожидал, что это лицо окажется столь красивым и утонченным.
Нет, девушку трудно было назвать красавицей в привычном смысле этого слова, и все же ее отличала удивительная прелесть. Граф подумал, что она прекрасна.
Ее глаза еще не просохли от слез и на маленьком личике казались просто огромными. Это было лицо, одухотворенное юной красотой, лицо, которое невозможно назвать просто хорошеньким.
Теперь он понял, почему не смог определить цвет ее волос: они подобно воде отражали свет, не имея своего собственного определенного цвета. Глаза ее были такими же — серыми, которые по временам кажутся то зелеными, то золотистыми. Губы свежие, сочные, чувственные.
Глядя на нее, граф подумал о том, что раньше как-то не задумывался о том, как много женщина способна выразить глазами или одним движением губ.
Сиринга сидела, глядя на него снизу вверх, поскольку сам он продолжал стоять. Граф снял цилиндр, и его широкие плечи, красивое загорелое лицо, как обычно, отмеченное легкой печатью цинизма, казались четко прорисованными на фоне яркого голубого неба.
Ему показалось, что Сиринга смотрит на него как-то странно. В следующее мгновение, прежде чем он успел предложить ей руку, она быстро вскочила на ноги.
— Я хочу сказать вам еще кое-что, — сказала она. — Что-то, отчего вы, по-моему, порадуетесь за Джуди.
Граф удивленно поднял брови.
— Вам ведь до сих пор грустно вспоминать о ней? — тихо спросила Сиринга.
Не дожидаясь его ответа, она зашагала назад по той же тропинке, которой они только что пришли к обрыву. Дойдя до поляны, она окликнула своего скакуна:
— Меркурий!
Конь перестал щипать траву, поднял голову и подошел к хозяйке. Сиринга же, даже не взяв его под уздцы, свернула в лес. Почти сразу они оказались возле Громовержца.
Увидев, что жеребец взнуздан, она подождала, пока граф развяжет уздечку, после чего ловко, без посторонней помощи села в седло. В зеленом платье верхом на лошади она показалась графу фантастическим созданием, кем-то вроде сказочной феи. Подождав, пока он оседлает Громовержца, она двинулась вперед, все дальше и дальше углубляясь в чащу леса.
Граф обратил внимание, что лес стал гуще. А вскоре впереди выросла живая изгородь из терновника, такая плотная и высокая, что Роттингем решил, что им ни за что ее не преодолеть. Сейчас Сиринга, наверное, свернет налево или направо. Но нет. Вместо этого она поехала прямо вперед, к изгороди, и спешилась.
Граф последовал ее примеру и, привязав Громовержца к дереву, выжидающе посмотрел на свою спутницу.
— Следуйте за мной, — коротко сказала Сиринга, заговорщицки понизив голос.
Она приблизилась к изгороди и, к великому удивлению графа, тотчас нашла незаметную с первого взгляда тропу, которая вряд ли была протоптана человеческими ногами. То и дело сворачивая то вправо, то влево, чтобы не пораниться об острые шипы терновника, они преодолели лабиринт переплетенных ветвей.
Заросли были не столь плотными, как то могло показаться со стороны, и вскоре они вышли на открытое пространство. Взору открылась небольшая зеленая лужайка, окруженная со всех сторон кустами, терновником и падубом.
В центре лужайки были хорошо видны руины старинной каменной кладки. Граф разглядел разрушенную колонну, вернее, то, что от нее осталось. Затем посмотрел на дальний край поляны и все понял.
Это были развалины часовни, построенной монахами в ту пору, когда на месте Кингс-Кип еще стоял монастырь. Ее стены были разрушены солдатами кромвелевской армии, и остатки фундамента заросли плющом и жимолостью. Гигантские ветви тиса, переплетясь, образовали густой зеленый щит, оградив тем самым это священное место от посторонних глаз.
Однако время пощадило часть того, что когда-то было большим восточным окном, и лежавшую под ним мраморную глыбу, которая в те давние времена служила алтарем.
Три ступеньки, ведущие к алтарю, поросли мхом и лишайником, красным и желтым. Со временем вокруг разросся лес и окружил остатки алтаря зарослями дикой вишни и яблони, которые высились над подлеском из шиповника, боярышника и ломоноса.
Кустарники еще не расцвели, однако на поляне граф заметил горстку примул, обративших свои желтые лепестки к весеннему свету. Росли здесь и дикие нарциссы, и лесные фиалки, и нежный белый чистотел — первые весенние цветы.
Роттингем и его спутница стояли какое-то время рядом. Затем Сиринга еле слышно произнесла:
— Существует легенда о том, что монахи построили эту часовню в честь святого Франциска, покровителя диких животных и птиц. Говорят, что в самые суровые зимы животные приходили сюда и никогда не уходили голодными.
Граф молчал, и Сиринга продолжила:
— Я видела птиц со сломанными крыльями, видела зверюшек, израненных лисой. Они приходили сюда и оставались здесь. А потом или умирали, или выздоравливали. Они не боялись даже меня.
Поскольку граф продолжал молчать, она взяла его за руку.
— Я уверена, — произнесла она, — что раз Джуди не смогла найти вас, если ее бросили одну, она наверняка нашла путь к этому месту.
В огромных глазах девушки блеснули слезы, и, как будто не зная, что еще добавить к сказанному, она развернулась и снова шагнула в заросли кустарника.
Меркурий терпеливо ждал ее там, где она его оставила. Граф отвязал Громовержца и подошел к Сиринге. Она пристально посмотрела ему в глаза, как будто спрашивая взглядом, понял ли он то, что она только что показала ему.
— Для меня большая честь увидеть то, что вы мне только что показали, — осторожно произнес он, чтобы не испортить торжественности момента.
— Никто, кроме меня, не знает об этом месте, — призналась девушка и с улыбкой добавила: — Кроме птиц и животных Монахова леса.
Роттингем тотчас вспомнил, что именно так называют этот лес. Именно так он обозначен на картах, которые висят на стене в кабинете управляющего поместьем.
— Я никому об этом не скажу, — пообещал граф.
— Я знаю, что могу вам доверять.
— Почему вы так думаете?
— Потому что вы… вы помогли мне, — призналась Сиринга. — Вы помогли мне даже больше, чем я могу объяснить вам, и поэтому я должна… поблагодарить вас.
— Вы уже поблагодарили меня, — ответил граф. — Я думаю, что Джуди наверняка нашла путь к этому месту.
— Я в этом даже не сомневаюсь, — согласилась с ним Сиринга. — Животные намного разумнее людей в том, что касается инстинктов… особенно собаки.
— И все же вы доверились мне.
Улыбка коснулась губ Сиринги.
— Я положилась на собственный инстинкт, а он меня изрядно подвел на прошлой неделе, когда я узнала о торгах… — Ее голос снова задрожал, но она быстро взяла себя в руки. — Теперь я буду храброй. Я не забуду тот урок, который вы мне преподали сегодня. Теперь я не буду бояться будущего так, как боялась совсем недавно.
— Уверен, что боги услышат ваши молитвы, — ответил Роттингем.
В глазах девушки промелькнуло изумление.
— Чему вы так удивились? — спросил граф.
Сиринга слегка покраснела.
— Это потому, что там, на обрыве, я посмотрела на вас, — призналась она. — Вы стояли, возвышаясь надо мной. На фоне неба вы показались мне настоящим богом. Богом, который в нужную минуту пришел мне на помощь.
— Какого же именно бога я вам напомнил? — поинтересовался граф.
— Юпитера, — ответила девушка. — Конечно, вы были Юпитером, владыкой богов и людей, богом, к которому древние римляне обращались за помощью.
— Вы мне льстите, — сухо заметил Роттингем.
— Нет, нет, я и не пыталась вам польстить, — искренне ответила Сиринга. — Вы помогли мне, дали совет, поделились мудростью. Теперь, когда буду молиться за Меркурия, я буду вспоминать вас. Я буду уповать на то, что Юпитер и святой Франциск услышат мои молитвы.
— Ваши молитвы непременно будут услышаны, — заверил ее граф. — Он отвязал своего коня и немного замялся, держа поводья в руках. — До свидания, Сиринга. Если мы больше никогда не встретимся, помните, что, когда вам станет одиноко, на этом свете есть тот, кто мог бы вас выслушать.
— Я буду помнить об этом, — серьезно ответила девушка. — Спасибо вам, господин Юпитер, за то, что пришли мне на помощь, когда я так в ней нуждалась.
Говоря это, она улыбнулась.
Она выглядела удивительно юной и хрупкой. Совсем дитя, подумал граф и даже испугался, что в любой момент она может убежать и исчезнуть среди сосен. Не отдавая себе отчета в том, что делает, он приподнял ее подбородок, наклонился и поцеловал в губы.
Это был поцелуй мужчины и ребенка, ее губы были сочными и нежными и вместе с тем по-детски беззащитными. Оба на мгновение застыли на месте.
Затем граф вскочил на Громовержца и, учтиво приподняв на прощание цилиндр, направил коня в сторону поместья, оставив Сирингу одну среди леса. Она еще долго стояла среди деревьев, глядя ему вслед до тех пор, пока он не скрылся из вида и не стих цокот копыт. Потом она обхватила Меркурия за шею и прижалась к ней лицом.
Глава третья
— Ешьте свой завтрак, мисс Сиринга, и не говорите глупостей! — сердито произнесла няня голосом человека, привыкшего раздавать указания малым детям.
— Я пытаюсь, — отозвалась девушка.
Произнеся эти слова, она знала, что не сможет проглотить даже маленький кусочек, потому что он просто не пролезет в ее горло.
Она встала из-за стола и, подойдя к окну, выглянула наружу, в небольшой неухоженный сад, где росли каштаны и огромные кусты сирени.
На ветвях уже набухли почки, и, глядя на них, она с горечью подумала, что, когда настанет пора цветения, ей придется покинуть дом и она не увидит всей красоты весеннего сада.
Услышав позвякивание посуды, она повернула голову и заметила, что няня ставит на поднос завтрак для отца.
— Я сама отнесу ему завтрак, Нана, — тихо произнесла Сиринга.
— Вряд ли сэр Хью станет что-нибудь есть, — ответила та, укладывая на серебряную тарелочку ломтики поджаренного хлеба. — Если он не захочет, то приносите поднос обратно. Кофейный сервиз и остальное столовое серебро будут выставлены на торги.
Сиринга промолчала. Взяв поднос с окаймленной кружевами салфеткой, на котором стояли изящная фарфоровая чашка с цветочным орнаментом и серебряная тарелочка с хлебом, она поднялась на второй этаж.
Поставив поднос на столик возле двери в отцовскую спальню, Сиринга постучала в дверь, но ответа не услышала. Тогда она постучала снова и, взяв со столика поднос, вошла в комнату.
В спальне царил полумрак, но она увидела, что отец не спит, а лежит, откинувшись на подушки и закинув руки за голову.
— Доброе утро, отец, — сказала Сиринга. — Я принесла завтрак.
— Я ничего не хочу, — хрипло ответил сэр Хью.
Сиринга еще не успела заметить полупустой графин бренди на столике рядом с кроватью, но уже поняла, что отец пьян. Поставив поднос, она подошла к окну, чтобы отдернуть шторы и впустить в комнату свет.
— Чашка кофе поможет вам, отец, — осторожно произнесла девушка, зная, что порой любое невинное предложение что-нибудь выпить или съесть способно привести сэра Хью в ярость.
Этим утром отец сразу же потянулся за графином с бренди.
— Конечно, поможет, — ответил он, — но сегодня мне все безразлично.
Отец оказался еще даже более пьян, чем она ожидала. Тем не менее Сиринга решилась задать ему давно мучивший ее вопрос о торгах.
— Не сочтите мой вопрос за дерзость, отец, — сказала она, — но я хотела бы знать, какова точная сумма наших долгов?
В ответ в комнате воцарилась гнетущая тишина. Впрочем, через пару секунд сэр Хью потянулся к бутылке и, налив себе дрожащей рукой бренди, сказал:
— Значит, тебе хочется знать точно? Что ж, раз ты настаиваешь, так и быть, скажу, чтобы больше к этому не возвращаться. Я должен двадцать тысяч фунтов!
Выговорив это, он осушил стакан, откинулся на подушки и закрыл глаза.
Какое-то время Сиринга стояла как громом пораженная, затем пришла в себя и не своим голосом воскликнула:
— Двадцать тысяч фунтов! Но, отец, разве мы когда-нибудь сможем… найти такие деньги!
Сэр Хью открыл глаза.
— Но нам ничего другого не остается! Мы должны это сделать, ты слышишь меня? И десять тысяч фунтов — это долг чести, который необходимо отдать в первую очередь! Незамедлительно!
— Но, отец, джентльмен, которому вы задолжали эти деньги, не посадит вас в тюрьму. Тогда как другие…
— Успокойся! — оборвал он дочь. — Может, я и глупец, Сиринга, и проклятый картежник, но я все еще остаюсь джентльменом! Я человек слова! — Сэр Хью помолчал, а затем, сердито посмотрев на дочь, добавил: — Прекрати думать и говорить, как эти презренные торгаши! Почему бы этим проклятым лавочникам не подождать еще? Черт их побери, они только и могут, что требовать свои паршивые деньги!
— Они и так ждут очень давно, отец, — мягко возразила Сиринга.
— Так пусть, черт возьми, подождут еще! — прорычал сэр Хью и прижал руку к глазам. — Задерни шторы, Сиринга! Зачем здесь свет? У меня раскалывается голова, и если мне придется иметь дело с этими хищными волками, с этими мерзкими стервятниками, которые собрались внизу, то мне пригодилась бы еще одна бутылка бренди!
— Это была последняя, отец, — ответила Сиринга.
— Последняя бутылка! — с отвращением процедил сэр Хью, как будто ему отвратительны были сами эти слова. — Ты в этом уверена?
— Вполне, отец. Это была последняя бутылка, которая оставалась в погребе. Я сама вчера смотрела.
Сэр Хью бросил взгляд на опустевший графин.
— О боже! Да как же я проживу день, не имея выпивки?
— Я принесла вам кофе, отец.
— Кофе! — прорычал сэр Хью. — Я хочу бренди, и будь я проклят, если не раздобуду его! Прикажи, чтобы мне принесли горячую воду для бритья и мои сапоги. Надеюсь, что эта лентяйка, старуха кормилица, вычистила их.
— Да, отец, Нана вычистила их. И еще она выстирала вашу лучшую рубашку, накрахмалила ее и выгладила, — ответила Сиринга. — Ваш сюртук также вычищен и отглажен. — Она глубоко вздохнула. — Прошу вас, отец, не надо больше пить! — взмолилась она. — Если вам придется разговаривать с людьми, пришедшими на торги, то будет лучше, если они увидят вас трезвым и опрятным, а не…
Сиринга замолчала.
— Пьяным как сапожник! — язвительно закончил за нее фразу сэр Хью. — Напившимся, как свинья, пьяным в стельку, да как угодно можно сказать! Это означает моральное падение, утрату человеческого облика! Тот, кого ты сейчас видишь перед собой, недостоин быть твоим отцом!
В словах сэра Хью прозвучала нескрываемая горечь. Движимая порывом сострадания, Сиринга шагнула к нему и накрыла своей рукой его ладонь.
— Извините, отец, — прошептала она. — Вы же знаете, что я помогу, я сделаю все, что только будет в моих силах.
— Знаю, — ответил ей отец уже совсем другим тоном. — Ты славная девушка, Сиринга, твоя мать непременно гордилась бы тобой. — Стоило сэру Хью заговорить о покойной жене, как голос его смягчился и в его налитых кровью глазах блеснули слезы. — Это все потому, что я тоскую по моей Элизабет, — прошептал он. — Я не могу жить без нее, я никогда не смогу жить без нее. Как же она посмела уйти в мир иной и оставить меня одного, как, скажи мне, Сиринга?!
Подобные причитания были хорошо ей знакомы. Она знала, что после того, как отец выпьет и спустя какое-то время начнет трезветь, он становится уже не злобным, а слезливо-сентиментальным.
— Этого никогда не случилось бы, будь твоя мать по-прежнему с нами, — продолжил сэр Хью так, как будто разговаривал с самим собой. — Она удерживала меня от нелепых поступков, помогала вести себя так, как подобает порядочному человеку. О Сиринга, как же я мог так ее подвести?
По щекам сэра Хью потекли слезы. Сиринга с состраданием посмотрела на отца, прекрасно понимая, однако, что эти слезы — не более чем проявление чувствительности немолодого пьяного человека. Стоит ему выпить еще пару стаканов, как он снова станет злобным и агрессивным. Он будет проклинать заимодавцев и торговцев, захочет отправиться в Лондон, чтобы промотать последние деньги, потратив их на выпивку или спустив за карточным столом.
— Я принесу вам горячей воды для бритья, — сказала она и, вспомнив о завтраке, указала на чашку кофе: — Выпейте кофе, отец. Он придаст вам бодрости.
— Бодрости? Для чего? — переспросил отец. — Мое положение безнадежно, и я не вижу смысла жить дальше.
— Выпейте, отец, кофе, — настаивала Сиринга.
Продолжая что-то бормотать себе под нос, сэр Хью отпил немного из чашки и с отвращением произнес:
— Фу, вкус, как у помоев! Я хочу бренди!
— Тогда вы должны встать, — ответила Сиринга.
Взяв поднос, она вышла из комнаты. В это утро отец пребывал в скверном расположении духа. Так в отчаянии подумала она, спускаясь по лестнице вниз.
Три года назад, когда умерла ее мать, Сиринга очень тяжело переживала пьянство отца, его кошмарные перепады настроения. Теперь же она понемногу к ним привыкла.
Было гораздо хуже, когда сэр Хью впадал в скорбь, плакал, умолял простить его, раз за разом повторяя, как он тоскует по усопшей жене. За три года Сиринга смирилась с подобными сценами и воспринимала смену настроений отца как душевную фальшь, наигрыш.
Как бы ни жаловался он на жизнь, раздобыв каким-то образом пару гиней, он тотчас забывал обо всем и старался как можно быстрее их потратить. Он никогда не думал о последствиях, забывая о дочери и старой няне, служившей в их доме с тех пор, как родилась Сиринга. А ведь когда он отправлялся за карточный стол, им частенько даже нечего было есть.
Жутко сознавать его неукротимую тягу к спиртному. С каждым днем карты и выпивка становились для сэра Хью куда важнее, чем даже воспоминания об умершей жене. Он продал украшения, которыми в свое время так дорожила леди Мелтон и которые желала оставить Сиринге.
Вырученные за них деньги были спущены за один вечер, и тогда Сиринга подумала, что никогда не простит отцу подобное пренебрежение памятью умершей матери.
В доме теперь практически не осталось ничего ценного. После того как родители сбежали, чтобы тайком обвенчаться, они жили весьма скромно, главным образом на деньги, которые мать унаследовала по достижении двадцати одного года.
Сумма, которую они тратили, составляла всего несколько сотен фунтов в год, однако им удавалось жить относительно прилично, не впадая в излишнюю расточительность.
Когда Сиринга подросла, она узнала, что отец должен получать в жизни все лучшее. Именно у него должна быть лучшая лошадь для выезда и охоты, даже если туфли матери сношены до дыр, а на платья впору ставить заплаты. Отец был постоянным источником забот для трех женщин, обитавших в старом доме.
Сиринга скоро научилась играть отведенную ей роль. Она прекрасно знала, что сэр Хью должен быть одет как денди, даже если сама она выросла из старого платья и носить его уже просто неприлично.
Как ни странно, при этом она прекрасно понимала мать, которая никогда не сожалела о том, что сбежала от родителей, живших на севере страны. Они хотели выдать ее замуж за богатого шотландского дворянина.
Удачному браку она предпочла жизнь в условиях, которые ее родные назвали бы нищетой, с человеком, который не имел ничего, кроме красивой внешности. Зато был предан жене и наполнял ее сердце счастьем все годы их супружеской жизни.
С возрастом Сиринга стала лучше понимать взрослых. Она осознала, что именно мать была главой и опорой дома, именно мать умела отвлечь отца от печальных мыслей о том, что они живут на грани нищеты.