Полное собрание сочинений. Том 10. Река и жизнь Песков Василий
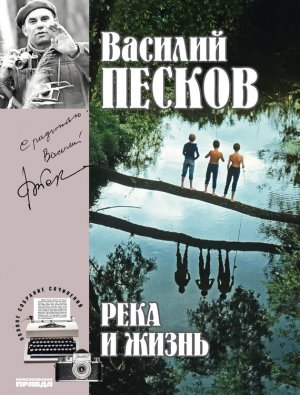
В вашем павильоне я едва не упал в обморок. Что, в Советском Союзе не знают о кондиционировании воздуха? Не допускаю мысли, что это ошибка проектировщиков. Скорее всего, экономия. Так вот, с точки зрения американца это нелепость. Кто экономит на пуговицах к дорогому костюму?»
Таким был разговор с Фрэнком Парсеном из Монтаны. К той части беседы, где он говорил о людях, хочу немного добавить. Мой давний знакомый профессор Гржимек как-то сказал: «Человек за рубежом своей родины приносит ей или много пользы, или вреда». Очень верная мысль! По одному человеку часто судят о целой стране. Вольно или невольно он становится символом нации. И потому близко к сердцу принимаешь всю добрую славу о наших людях в Спокане. Их тут сто двадцать. Администраторы, специалисты: ботаники, медики, гидрологи, лесоводы, художники, переводчики-гиды, повара, дипломаты, механики-электронщики, способные мгновенно устранить неисправность в сложной конструкции экспозиции. Нисколько не преувеличиваю, они стали любимцами города. Их узнавали на улицах, звали в гости, приветствовали по радио и показывали по телевидению. Тут работало семнадцать Владимиров, двенадцать Людмил, с десяток Галин. Не рискую кого-нибудь выделить. Ко всем одинаково относятся слова из той же книги откликов: «О русских я много читал. А они совсем не такие! Как хорошо, что мы познакомились. Я буду помнить это всю жизнь» (подпись неразборчива)
«Ценю готовность ваших ученых и инженеров ответить на любой вопрос. Великолепные люди!» — Линда Фельвер, Вашингтон.
«Какая свежая струя в нашем краю. Как интересно говорить с вашими молодыми людьми и узнать, что у них заботы такие же, как у нас. Спасибо, что вы приехали!» — Уэдерн, Спокан.
И трогательная запись мальчика из Канады: «Когда я вырасту, я буду русским».
* * *
Вот так все было в Спокане этим летом и осенью. Позавчера через Вашингтон с помощью Бориса Стрельникова я связался с выставкой по телефону. На вопросы о новостях директор павильона Борис Васильевич Кокарев сказал, что все идет как обычно, но что все уже стали скучать по дому…
Выставка длилась ровно шесть месяцев. Сегодня, 3 ноября, она закрывается.
Фото автора. Спокан — Москва.
30 октября — 3 ноября 1974 г.
О птицах
(Окно в природу)
Из Австралии идут сообщения: «Ураганом практически стерт с лица земли город Дарвин. Есть человеческие жертвы. Тысячи людей ранены и остались без крова…» Стихийные бедствия, которыми был отмечен уходящий год, коснулись и дикой природы.
Гуси под снегом
Остров Врангеля — точка, куда из Америки прилетают гнездиться белые гуси. Было время, птицы гнездились на континенте. Но постепенно только на острове осталось для них спокойное место.
Я был на Врангеле в августе, когда тысячные стаи птиц — старые с молодыми — покидали родимое место. Шел первый снег. Белые гуси летели с криком, как призраки.
В этом году все шло по порядку. В июне на острове побежали ручьи, на проталинах появилась зелень, и прилетели гуси. Сейчас же они приступили к строительству гнезд и положили в них яйца. Но 13 июня поднялась пурга. Птицы спрятали головы под крыло и не двигались, оберегая гнезда от холода…
Ветреный снегопад продолжался три дня. Часть птиц не выдержала и покинула гнезда. Других инстинкт материнства держал на месте.
И когда пурга улеглась, из-под снега торчали только гусиные шеи. Пировали песцы, легко настигая ослабших птиц и безошибочно раскапывая снег как раз там, где лежали оставшиеся яйца. А когда снег растаял, пришло время пировать чайкам… Ни один птенец из яиц этим летом не вылупился. Только старые гуси покидали в августе остров.
Уже несколько лет подряд непогода преследует белых гусей. Число их со ста с лишним тысяч снизилось до восемнадцати тысяч. Однако орнитологи не считают, что гусям, проводящим лето на Врангеле, угрожает исчезновение. За долгую историю птицы наверняка не один раз переносили подобные бедствия. При первых же благоприятных условиях численность их вновь возрастает. Тем не менее американскому бюро охоты наши ученые сообщили о ситуации и просили ограничить охоту на гусей, зимующих сейчас в Калифорнии.
На этом снимке, сделанном в день окончания пурги, вы видите, каким глубоким был снег и как велик инстинкт материнства — птица гнездо не покинула.
Свидетелями этого драматического эпизода в жизни природы были ленинградские кинематографисты, снимавшие фильм «На острове Врангеля».
Ласточки в самолете
А вот что случилось осенью с ласточками…
Первыми бедствие обнаружили жители деревушки, приютившейся у подножия Швейцарских Альп. Утром в сараях они увидели тысячи птиц.
Ласточки прилепились к карнизам, балкам, столбам. Часть птиц упала на землю без признаков жизни. То же самое происходило в соседних деревнях и в маленьких городках ФРГ и Швейцарии, прилегающих к Альпам. Миллионы ласточек почему-то не захотели лететь на юг и явно были обречены.
Люди немедленно пришли птицам на помощь. Их собирали и в больших картонных ящиках поездами и самолетами переправили к месту зимовок: в Ниццу, Мадрид, Лиссабон, Малагу, Грецию и Тунис. Только из Швейцарии таким способом было отправлено четверть миллиона птиц. Часть ласточек от голода и от шока погибла. Но в основном операция по спасению удалась.
Что же случилось? Какие причины остановили ласточек на традиционном пути через Альпы? Загадочное явление, о котором много писали в европейских газетах, объяснено.
В предгорьях Альп ласточки обычно набираются сил перед трудным участком полета. На этот раз подкормиться им было нечем. В горах выпал снег. Температура в долинах упала до восьми градусов. А мошкара, которой ласточки кормятся, живет при температуре не ниже пятнадцати градусов тепла. С истощенными мускулами, уставшие и голодные, птицы сбивались в тесные кучи. Их участь была предрешенной, если бы не вмешательство человека.
Операция «Аист»
В уходящем году проводилась международная перепись аистов. 15 июня мы просили наших читателей помочь ученым. Откликнулись очень многие. Несколько сотен писем было передано в центр кольцевания Академии наук СССР. А вчера мы связались с руководителем переписи Маргаритой Ивановной Лебедевой. Она просила сказать: «Добровольные переписчики оказали биологам ценную помощь. Письма, поступившие в «Комсомолку», разобраны, сообщения в них сопоставлены с анкетами официальной переписи. Это позволило установить: информация аккуратна и достоверна. Передайте всем, кто нам помогал, большое спасибо».
Итогов учета пока еще нет. И все-таки можно уже сказать: в нашей стране число аистов существенно не уменьшилось. По сравнению с 1958 годом в три раза больше аистов живет теперь в Эстонии. (Было чуть больше 300 гнезд, в этом году насчитано 1060.) В Псковской области было 426 гнезд, сейчас 1200. В два раза больше аистов стало селиться на брянской земле. Но уменьшилось число занятых гнезд в Молдавии, в некоторых районах Украины и Белоруссии. Замечено смещение мест обитания птиц на северо-восток Европы. Аисты появились там, где ранее их не видели. Отдельные гнезда замечены в Воронежской области и по соседству с Московской.
В традиционных местах обитания произошла перегруппировка численности птиц.
Кое-где аисты стали встречаться реже. А там, где больше кормов, наблюдаются даже колонии птиц. (В селе Страхолесье Чернобыльского района Киевщины в близком соседстве жили в этом году шесть пар птиц. Три гнезда аисты построили на одном дереве.)
Среди наблюдений, сделанных в этом году, в письмах чаще всего упоминается такое: «Видел, как птицы дрались из-за гнезд». Готовясь к встрече аистов в новом году, это надо учесть. Раньше на дереве или на крыше укрепляли для гнезд бороны и колеса. Простая прочная крестовина тоже вполне подходяща. И аисты быстро ее заметят. Не упустите возможность поселить птицу у ваших домов. Вот посмотрите, как велико желание видеть аиста. Какой-то умелец в Молдавии оборудовал не только место, он построил гнездо и даже саму птицу… из пластика. Там, где аисты почему-то перестают селиться, по ним скучают.
Окончательные итоги переписи аистов мы опубликуем в новом году перед прилетом птиц.
Фото В. Пескова и из архива автора.
29 декабря 1974 г.
Дикий верблюд
(Окно в природу)
В пустыне Гоби вновь встречен и сфотографирован дикий верблюд. Редкое животное наблюдали ученые монгольско-советской экспедиции, возглавляемой профессором А. Г. Банниковым.
Право первой публикации снимка предоставлено «Комсомольской правде». Принимая этот подарок, мы попросили Андрея Григорьевича Банникова рассказать об обстоятельствах встречи с редким животным.
* * *
Вопрос: Андрей Григорьевич, насколько я знаю, это не первая ваша поездка в Гоби…
Ответ: Да, впервые я там побывал в 1943 году. Создавался Монгольский университет, и мы предприняли попытку исследовать малодоступный район республики… Хорошо помню беседу с маршалом Чойбалсаном. Мы просили машину. Чойбалсан меня выслушал.
Помолчал. А потом сказал: «Профессор, я открываю вам государственную тайну. В моем распоряжении, в распоряжении главы государства, сейчас имеется одиннадцать исправных грузовиков. Всего одиннадцать. Вы понимаете, что просите?.. Но машину я все-таки дам. Поезжайте, нам очень важны исследования».
Так первый раз я побывал в Гоби. Мы видели много интересного. Посчастливилось встретить и диких верблюдов. Но хороших снимков тогда не сделали. Фотографическая техника была слабовата.
Вопрос: Ваша поездка по старым следам случилась тридцать один год спустя. Что-нибудь изменилось в пустыне?
Ответ: Вы знаете, нет. Перемены в Гоби трудно заметить. Это неприветливый, малодоступный район. Там нет дорог, а тропы выбиты только животными. Несколько раз всего мы видели следы автомобиля. Я почти уверен: иногда это был сохранившийся след нашей трехтонки времен войны.
Вопрос: Два слова об этом глухом уголке планеты…
Ответ: Ну в первую очередь это полюс континентальное™. Перепад суточных температур такой: утром проснулся- вода в ведерке схвачена льдом толщиной примерно в палец, а днем — под сорок жара. Земля камениста. Воздух чист. Видимость идеальная. В какую сторону ни посмотришь, синеет гребешок гор. В пейзаже преобладают коричневато-желтые и серые краски с вкраплением зелени. У воды зелени больше, но источники редки. И надо иметь чутье, чтобы, пользуясь очень приблизительной картой, не промахнуться, выйти к оазису. Спросить дорогу тут не у кого. Попрощавшись у «въезда» в пустыню с пастухами, следующих пастухов мы встретили только через 1200 километров.
Вопрос: Андрей Григорьевич, о животных…
Ответ: Жизнь в Гоби замешена не густо. Это не то, что мы с вами видели в африканской саванне. Однако тут есть куланы, джейраны, горный козел, горный баран — аргали, много видов тушканчика, иногда к оазисам с гор спускается барс. И есть, представьте себе, медведь.
Мелкий, приспособленный к жизни в пустыне бурый гобийский медведь. Большими стадами животные тут не держатся. Чаще всего встречаешь одного, двух, либо очень небольшой табунок.
Вопрос: Ну и, наконец, о диком верблюде. Насколько я знаю, всегда существовал вопрос: а есть ли он? Не принимают ли за дикарей обыкновенных одичавших верблюдов?
Ответ: У меня на этот счет никаких сомнений не было никогда. О существовании дикого верблюда в пустынях Центральной Азии было известно из древних летописей. С научной точностью дикого верблюда впервые описал Н. М. Пржевальский. Позже об этом животном поступали разрозненные данные. В экспедиции 1943 года мы видели диких верблюдов, собрали сведения об их жизни и поведении. Позже монгольские ученые для музея в Улан-Баторе добыли несколько экземпляров животных. В этой последней экспедиции мы встречали диких верблюдов несколько раз. И, считаю, удачно сняли их на цветную пленку.
Вопрос: Неопытный глаз отличил бы дикаря от обычных животных?
Ответ: Несомненно. Дикий верблюд пуглив, осторожен. Опасность он замечает на расстоянии двух-трех километров. Подъехать к нему по открытому пространству близко нельзя. Он срывается с места и обнаруживает такие качества бегуна, что всаднику преследовать его бессмысленно.
Монголы диких верблюдов зовут хавтагаями (по-русски — плоский). Это очень верное наблюдение. Дикий верблюд действительно плоский, поджарый. Он, прибегая к житейскому словарю, выглядит «физкультурником» среди отяжелевших, флегматичных собратьев, служащих человеку.
В первой экспедиции я прослеживал: табун хавтагаев без заметной усталости пробегает до ста километров.
Вопрос: Общаются ли дикари с домашними табунами верблюдов?
Ответ: Да, конечно. Родство и те и другие чувствуют хорошо. В период гона самцы диких верблюдов жестоко дерутся. Побежденный иногда ищет счастье в табуне домашних верблюдов. Самца при этом он забивает нередко до смерти, а самок уводит. Араты во время гона верблюдов уводят свои табуны к северу, оберегая их от хавтагаев.
Вопрос: Если подходить с научной меркой, что отличает диких верблюдов?
Ответ: Исследования черепов, многократно проведенные учеными, показали: дикий верблюд отличается от домашних так же, как и другие животных отличаются от своих диких предков. Например, собака от волка, свинья от кабана, домашний бык от дикого тура…
Легко различаются следы домашних и диких верблюдов. У домашнего мозолистая подушка ступни выше, и только она отпечатывается на земле. У дикого верблюда подушка суше, и потому впереди отпечатывается два верблюжьих когтя.
Вопрос: Пустыня Гоби, единственное на Земле место обитания дикарей?
Ответ: Теперь, к сожалению, да.
Вопрос: А много ли их?
Ответ: Ответить трудно. Учетов, отвечающих современным требованиям, никто не проводил. В 40-х годах, сопоставляя все наблюдения, я высказал предположение, что диких верблюдов в Гоби не меньше 300. Более поздние данные склоняются к цифре 500. Но число их росло. На всем ареале диких верблюдов сейчас, видимо, не менее 900 голов.
Вопрос: Это не единственный снимок верблюдов?
Ответ: Конечно, нет. Пленку мы не жалели. Но этот кадр мне показался самым удачным.
Вопрос: Назовите, пожалуйста, ваших спутников в экспедиции.
Ответ: Их было семь. Монгольские ученые Даш и Батахтог, советские зоологи Жирнов и Винокуров, польский ученый Шанявский и два шофера.
Фото из архива В. Пескова. 31 декабря 1974 г.
1975
Познакомьтесь: Гребенников
(Окно в природу)
Москву чем удивишь? «Джоконда», сокровища из египетских усыпальниц, Рерих… А может ли взволновать искушенного москвича маленькая выставка никому не известного творца из мало кому известного Исилькуля (Омская область)?
Может! Не меньше десятка звонков и письма: «И я уже видел?» Это голос ученых, художников и просто людей любознательных.
Самого художника на выставке я не застал. Он погостил, сколько мог, и отбыл в свой Исилькуль. А выставка осталась пока в Москве. Ее приютил у себя в коридоре (сам живущий в невероятной тесноте) зоомузей МГУ.
Теперь и я присоединяю свой голос к тем, кого покорила работа мастера из Сибири: самобытный талант, редкое трудолюбие, новизна (почти открытие!) мира, в который он приглашает нас заглянуть. Вполне соглашаешься с писателем Пермяком, который оставил на выставке отзыв: «Второго такого мастера нет».
Гребенников Виктор Степанович рисует насекомых. Сказать точнее, изображает, ибо служат ему не только бумага, краски и тушь, но также металл, стекло и пластические вещества.
Не спешите разочароваться — вот, мол, невидаль, насекомые. Не спешите. Вначале признаемся: мир этот, снующий в щелях и в траве у нас под ногами, мы знаем плохо. Между тем насекомые — древнейшая форма жизни. Родословная человечества не идет ни в какое сравнение с временем обитания на Земле многоликих козявок. Они хорошо приспособлены к жизни. Любая козявка, правда, погибает под каблуком, но в массе они поразительно жизнестойки. Среди них есть наши враги и наши друзья. И важно отметить: не с крупными животными человек делит сегодня растительные богатства планеты (основу всех целей жизни), а с насекомыми.
Посмотрим с другой стороны на козявок.
Муравей тянет ношу, во много раз превосходящую его собственный вес. Пчела по особому танцу своей подруги узнает, в каком направлении и как далеко надо лететь за кормом. Одна из бабочек, влекомая зовом любви, без ошибки находит себе подобное существо на расстоянии нескольких километров. (Факт, установленный экспериментами, но оставшийся пока чудом и для ученых.) Загадок за прочным замком у природы еще немало. И большую часть из них хранят насекомые. Положите под стекло микроскопа обычную муху, и любая из созданных человеком машин не покажется слишком сложной в сравнении с крошечным агрегатом живой природы.
И наконец, красота… С малого возраста ее олицетворяют для нас цветок и бабочка. И все ли знают: цветы на Земле существуют лишь потому, что есть насекомые. Это для них, переносчиков пыльцы, растительный мир так щедро расходует краски и запахи.
Красотой природа не обделила и самих насекомых. Приглядитесь к шмелю, к сидящим на солнцепеке солдатикам, к божьей коровке, маленьким бронированным чудом ползущей на вашей ладони… Ни на что другое в животном мире не потрачено столько изящества, выдумки, красок, и нигде в другом месте творец-природа не была так сдержанно-экономна — шедевр творения без микроскопа или хотя бы без лупы как следует не рассмотришь.
Вернемся, однако, к выставке. Когда проходишь мимо больших листов с «портретами» ос, муравья, бронзовки, жука-рогачика и всякой другой мелкоты, испытываешь чувство открытия. С чем бы сравнить это чувство?..
Сравним с наблюдением самолета. Много раз вы видели проплывающий в небе маленький белый крестик, а однажды оказались рядом с летательным аппаратом и поразились его размерам, подробностям устройства. Вот так же смотришь и на какую-нибудь осу, преподнесенную тебе на листе в размерах козленка, с передачей всего, что увидел очарованный мастер в стеклышко микроскопа.
Счастливое сочетание многих способностей видим мы в этом умельце. Мир насекомых он знает и любит с такой же страстью и преданностью, какими прославился Фабр, «вся жизнь просидевших в бурьянах с лупой». Отменное чувство формы, света и цвета, способность точно схватить движение — это художник. Но это не все. Недавно газеты писали об одном из умельцев — «сделал тоннель из волоса и поместил в него поезд из невидимых глазу вагонов». И эту работу мог бы проделать Гребенников! Таков многогранный талант сибирского самородка.
Можно представить, как он часами сидит, склонившись над микроскопом, и переносит на белый лист скрытую от обычного взгляда тайну. Можно представить, как он наблюдает за жизнью травяных джунглей и сколько хлопот ему, рисовальщику, доставляет неуловимость шестиногих натурщиков.
— Изящный натурализм! — сказал профессор-зоолог, с которым мы были на выставке. Эта фраза, звучащая часто как порицание художнику, в данном случае — похвала. Точная передача форм, цвета, характерной позы животного, мельчайших деталей в строении организма. Это работа прирожденного натуралиста, математически точный взгляд на природу.
В работах анималистов, изображающих насекомых (плакаты, книги, определители), нередко чувствуешь приблизительность, излишнюю и не всегда оправданную стилизацию. (То и другое — порождение спешки, плохое знание натуры, копирование чужих образцов.) И потому так радует оригинальность, основательность труда Гребенникова.
Скрупулезное следование натуре, однако, не делает его работы только высокого класса учебным пособием. Они радуют глаз, волнуют, будоражат воображение. Это искусство. Возможно, даже какое-то новое слово в искусстве.
Выставка Гребенникова называется так: «Графика, живопись, скульптура, новая изобразительная техника». Заинтересованный человек тут может увидеть, как мастер заставил сверкать металлом акварельные краски, декоратора оставят мотивы живой природы на изразцах, чеканщика — кованый панцирь жука. Есть чему поучиться тут иллюстратору книг, оформителю выставок, создателям разного рода учебных пособий. И, конечно, для каждого посетителя — это встреча с большим самобытным талантом.
Житейская справка. Виктор Степановичу Гребенникову — сорок семь лет. Рисовать насекомых он стал с того времени, когда «в детстве первый раз заглянул в микроскоп». Он иллюстрировал книги, сам написал много статей и популярную книгу о насекомых. Он автор сорока научных работ, организатор первых в Советском Союзе заповедников для насекомых (Сибирь и центр Черноземья). Много времени Виктор Степанович отдает воспитанию детворы.
В 1962 году по месту жительства создал детскую художественную школу. Был в ней преподавателем и директором. Сейчас он — сотрудник научно-исследовательского института.
На недавнем съезде энтомологов в Ленинграде крупнейшие ученые страны публично благодарили Гребенникова за заслуги в науке и пропаганду научных знаний. Эта высокая похвала выпала человеку с десятилеткой официального образования. Не часто бывает такое в жизни. Впрочем, Мичурин, Фабр, Эдисон, Максим Горькие тоже ведь самоучки…
Фото из архива В. Пескова. 22 марта 1975 г.
Я помню…
Обычный коробок спичек. Я нашел его неожиданно, отодвинув ящик стола. Стол этот в отцовском доме забыли. Когда переехали жить на станцию из села, старый стол поставили в угол чулана. Там он, покрытый тряпьем, связками старых журналов и всякой всячиной, отслужившей свой век, простоял много лет. Копаясь в тронутом червоточиной выдвижном ящике, я обнаружил жестянку похожих на гвоздики патефонных иголок, обнаружил значок с надписью «Ворошиловский стрелок», футляр отцовских карманных часов. В столе лежали пакет порошков «от желудка», картонный елочный заяц, изношенный рубль довоенного образца, самодельное шило, моточек пропитанной варом дратвы… И этот коробок спичек.
Обычный коробок. Обычный, да не совсем!
На желтой морщинистой этикетке, в том месте, где бывает рисунок, наискосок стояли три строчки, очень знакомые строчки:
- Наше дело правое!
- Враг будет разбит!
- Победа будет за нами!
Спички 41-го года! Я достал одну из коробки.
Зажжется? Зажглась.
И вот уже все в доме: отец, мать, сестра разглядывают находку. Всем интересно. Но только мама может припомнить… Я гляжу на нее: неужели не вспомнит? Вспомнила!
— Это ж с той осени…
Не ждите рассказа о пущенном под откос поезде, партизанском костре или даже о перекуре во фронтовом блиндаже. Спичками из коробки не поджигали бикфордов шнур, и вообще ничего из ряда вон выходящего не стоит за находкой в столе.
Той осенью по дороге из Воронежа на Тамбов через наше село Орлово двигалась большая пехотная часть. Вспоминая сейчас бесконечную серую ленту людей, идущих под осенним дождем, невольно ежусь от холода.
Грязь, непролазная черноземная хлябь, и по ней гуськом, заткнув за пояс полы мокрых шинелей, движутся люди. Усталые. Молчаливые.
Куда? Почему? Мальчишкам заботы и горе взрослых понятны не в полную меру. Мы бегали на большак менять на морковку и лежалые груши пилотки, ремни, звездочки, пряжки и были довольны, что в школу ходить не надо — в ней разместили больных солдат.
Не помню уж, сколько дней двигалось войско. Но только поздняя слякоть сменилась вдруг зимним морозом. Помню стук в окна: «Хозяйка, пустите хоть в сенцы». «Все занято, идите дальше!» — отвечал вместо матери пожилой лейтенант. И он говорил правду. В избе и в сенцах на соломе вповалку один к одному лежали люди. Плакала на руках у матери маленькая сестренка. Нечем было дышать от взопревших у печки мокрых портянок, шинелей и гимнастерок. Но уморенные люди были рады теплу и месту. Все спали.
Голод тоже был спутником отходившего войска. Помню, как перед сном солдаты делили на столе аккуратно порезанный хлеб. «Кому?» — кричал веснушчатый младший сержант. Солдат, отвернувшийся к стенке, быстро ему отвечал: «Сухову… Тимофееву…»
Утром мать намыла чугун картошки и чугун свеклы — покормить постояльцев, и послала меня добыть огоньку. Это было простое дело: выходишь на улицу, смотришь, из чьей трубы идет дым, — туда и бежишь с железной баночкой за углями.
— Ты куда? — спросил лейтенант, увидев меня на крыльце.
Я объяснил. Лейтенант полез в кирзовую сумку и достал спички:
— На, отдай матери.
(До сих пор сохранился на коричневом ребрышке коробка след от спички, которой в то утро была растоплена печь.)
Чугун картошки и свеклы солдаты опорожнили в один момент. Мать стояла у печки и говорила: «Ешьте, ешьте, я еще сварю, ешьте…»
Коробок спичек с той осени сохранился, конечно, случайно. Его положили в укромное место как некую непозволительную роскошь, как драгоценный запас огня на какой-нибудь случай. И вот мы держим его в руках. Тридцать четыре года… Все мы взволнованы. После очередной передачи о приключениях в Берлине Исаева-Штирлица мы собрались на кухне около печки, но в этот раз не о Штирлице разговор.
С удивлением наблюдаю, как много может всколыхнуть в памяти маленькая реликвия.
Отец вспоминает. Сестра. Мама говорит так, что я жалею: нет магнитофона записать все, что она говорит. И мне тоже есть что припомнить.
Много сказано о войне. Но, может быть, любопытно услышать, что помнит о ней человек, бывший всего лишь подростком…
Запомнилось окончание и начало войны.
Но так же хорошо помню уход отца на войну и возвращение его. Уходил он вместе с односельчанами в жаркий день августа. Километров пять я шел, держась за руку отца, в гуще людей.
Помню, отец сказал: «А теперь возвращайся».
Он достал из мешка кусок сахару. «Возвращайся!»
Оглядываясь, я видел, как отец скорым шагом догонял пыливших по дороге дядю Семена, дядю Егора, дядю Сергея, дядю Тараса…
Возвращался отец тоже летом. С проезжавшей мимо полуторки кто-то радостно крикнул: «Встречай батьку!» Я побежал к станции и в поле встретил сильно, как мне показалось тогда, постаревшего отца. На груди у него позванивали медали. За плечами — мешок. В одной руке — стянутый ремешком чемодан, а в другой — патефон.
На нашей улице, увидев отца, многие бабы заплакали. Я понимал, что это значит, — уходившие вместе с отцом на войну дядя Семен, дядя Егор, дядя Сергей и дядя Тарас не вернулись.
Из гостинцев, какие отец разложил на столе, мне больше всего понравились цветные болгарские карандаши с надписью на коробке «моливчета» и болгарский же кустарной работы патефон — фанерный ящик, обтянутый бумагой, напоминавшей обои.
Я побежал в сельскую лавку купить пластинки. Их не было там. Но продавщица, увидев мое отчаяние, порылась на полках и одну разыскала. «Моцарт. Турецкий марш», — прочел я название музыки. На другой стороне тоже был турецкий марш, но Бетховена… До позднего вечера в нашей избе гремели два эти марша. Мы с сестрой точили на брусочке патефонные иглы, снова и снова крутили пластинку…
Года два назад на концерте, услышав объявление ведущего: «Моцарт. Турецкий марш», я вздрогнул. Для меня не просто музыкой был этот марш.
Мой отец Михаил Семенович.
Моя мама Татьяна Павловна.
* * *
Близко войну я не видел. Но она была рядом. Летом и осенью 42-го года горел занятый немцами Воронеж. Фронт был всего в двадцати километрах. Днем над «тем местом» стояла черная пелена дыма, а ночью небо становилось багровым. Было видно, как взлетают ракеты, как повисают и медленно опускаются вниз какие-то необычно яркие огни, были видны красные, желтые и зеленые трассы пуль.
Мы с другом стелили постель на пологой крыше сарая и не со страхом, а с любопытством наблюдали за этим огненным небом.
Над селом к фронту по многу раз в день низко пролетали штурмовики — тройками, самолетов двенадцать — пятнадцать. Спустя полчаса, тем же путем низко, прямо над крышами, они возвращались назад. Иногда их было уже не двенадцать, а девять-десять…
Воздушные бои истребителей. Взрывы случайных бомб. (Осколок одной, упавшей ночью за огородами, врезался в нашу дверь.) Массированные бомбежки железной дороги (от села в пяти километрах), передвижение танков, автомобилей с пушками на прицепе, скопление войск в заповедном лесу — такой была полоса возле фронта. Вспоминая то лето и осень, дивлюсь отсутствию у людей страха. В первые дни войны, когда фронт был у Минска, было куда беспокойнее. Люди вязали узлы, заклеивали окна бумажными полосами, ночью маскировали каждую щель в окнах. Теперь же война была почти у порога, и жизнь тем не менее протекала своим чередом — каждое утро пастух Петька Кривой гнал пасти коз, и председатель колхоза Митрофан Иванович сам обходил избы: «Бабы, нынче на молотилку!»
Есть такое понятие: «обстрелянный солдат» и «необстрелянный». Если эти слова понимать шире, то в 42-м году все люди, вся страна, солдаты и женщины, дети и старики были «обстрелянными». Все так или иначе участвовали в войне, понимали, что скоро она не кончится, что дело очень серьезно и жаловаться на трудности некому. Мать находила все же слова нас подбодрить: «Мы-то в тепле. А как там отец?»…
* * *
Глядя сейчас на карту, вспоминаю: географию начинал изучать не в школе и не по книжкам. Большая страна узнавалась по сданным и отбитым потом у врага городам.
Минск, Смоленск, Киев, Севастополь… В ту осень, когда горел Воронеж, я узнал, что где-то совсем недалеко есть Сталинград. Не помню, чтобы кто-нибудь на нашей улице получал газеты, радио тоже не было. И только в разговорах этот город упоминался все чаще и чаще.
С легким ранением, но совершенно седой в село мимоходом из госпиталя забежал наш дальний родственник. Он получил ранение под Сталинградом и возвращался опять туда. Помню его слова: «Там ад».
В письмах отца раза два поминалась Волга, и мы догадывались: он тоже там. Мать, зажигая по субботам лампадку, молилась. Мои представления о боге в то время были неясными. На всякий случай мысленно я тоже просил рисованного Спасителя, строго глядевшего из-за лампады, не забыть про отца.
В церкви в нашем селе была пекарня. Отсюда машинами доставляли хлеб фронту. Из колодца у речки Усманки два усатых солдата в больших деревянных чанах возили в пекарню воду. Мы, ребятишки, помогали солдатам управляться с ручным насосом и получали за это в день полбуханки пахучего теплого хлеба.
От солдат-водовозов я впервые услышал, что, возможно, всем, кто живет в селе, придется эвакуироваться. И этот слух подтвердился.
1 сентября не открылась школа. А позже село в какие-нибудь две недели опустело. До этого у нас жили беженцы из Воронежа и Смоленска. Теперь сами мы испытали, как тяжело расставаться с домом. Выселяли нас, правда, всего лишь в соседнее село. Но день, когда клещами закрутили проволоку на дверном запоре, был для меня самым тяжелым за всю войну.
Нам дали лошадь. Помню возок со скарбом. Наверху сидят сестры (старшей — девять годов, младшей — три). Мама с братишкой на руках пытается втиснуть в поклажу оцинкованный тазик и решето. Сзади к телеге привязали козу. Старшему сыну надо было править этим возком.
Местом нашего назначения было село «Паркоммуна» (официально — «Парижская коммуна», а совсем просто — «Парижа»). С благодарностью вспоминаю хозяйку избы тетю Катю (стыдно, забыл фамилию), приютившую нашу ораву. Всем нам — хозяйке с семьей и ее постояльцам — в одной-единственной комнате было тесно. Спали на печке и рядком на полу.
Полынью глушили блох. По субботам топили баню. Из одного большого чугуна ели толченую картошку, запивая ее чуть подсоленным квасом.
И ждали писем. Ах, как ждали в те годы писем!
Тетя Катя получала их аккуратно. Вслед за поклонами: «А еще привет куме Даше… а еще привет куме Вере» было и к нам участие: «А еще привет «выкуированным». Живите дружнее».
Одно из радостных воспоминаний о тех временах: жили и правда сердечно, сплоченно, помогали друг другу, делились всем, чем могли.
О доме, однако, я думал все время. От «Пар- коммуны» до родного села было всего восемь верст. И, конечно, трудно было не соблазниться глянуть: а что там сейчас, зимой?
Придя в село, я поразился тишине и безлюдью. Почти во всех домах были заложены окна, в кирпичных стенах низко, у самой земли пробиты бойницы, от дома к дому прорыты траншеи. Теперь хорошо понимаешь: в селе была подготовлена линия обороны на случай, если фронт у Воронежа не устоял.
Хотелось взглянуть на наш домишко. Но я не дошел до него. Из хаты на большаке вышел военный: куда это мальчик идет и откуда? Выслушав меня, немолодой уже капитан (таджик или узбек) задумчиво похлопал рукавицей об рукавицу и поманил за собой в дом. Сидевшему возле печки солдату он что-то сказал. Тот подставил на стол котелок щей, нарезал большими ломтями хлеба. Пока я ел, капитан молча разглядывал мою шапку и варежки, потом полез в стоявший на лавке мешок, достал из него завернутый в бумажку желтоватый мягкий комочек какой-то еды и протянул мне: «Это понравится. Ешь». То была сушеная дыня. Второй раз это лакомство я попробовал двадцать два года спустя в Самарканде и, конечно, сразу же вспомнил доброго капитана. Капитан сказал мне тогда зимой: «Ходить в село пока запрещается. Возвращайся. Матери можешь сказать: скоро домой!»
Теперь я думаю, капитан говорил со мной так потому, что знал хорошие новости. Новости эти шли из Сталинграда. Капитану уже было известно, «кто там кого», и он поделился с мальчишкой радостью.
Назад в «Паркоммуну» по снежной дороге я не шел, а летел. И хотя новость моя — «скоро домой!» — была туман и непонятна, мама сразу же побежала во двор, где тетя Катя колола дрова. Потом вдвоем они пошли к соседке.
Потом мама побежала на другой конец села к тете Поле, жившей рядом с нами в Орлове. А дней через десять, утром, кто-то нетерпеливо постучал к нам в окно: «Немца выбили из Воронежа!» В тот же час мы с матерью нагрузили салазки дровами и — скорее, скорее в Орлово!
* * *
Все самое дорогое в воспоминаниях связано с именем матери. С расстояния в тридцать пять лет особенно ясно видишь, какая ноша легла ей на плечи. Общие на всех взрослых военные тяготы; но, кроме того, — четверо ребятишек! (Старшему было одиннадцать.) И, по сложившимся обстоятельствам, ни карточек, ни пайков. Одеть детей, накормить, научить, уберечь от болезней… Какую великую силу духа надо было иметь в те годы женщине-матери, чтобы на впасть в отчаяние, не растеряться, в письмах на фронт не обронить тревожного слова.
Вспоминаю мамины письма к отцу. Она их писала печатными буками, и на письмо уходила обычно целая ночь. Худые вести на фронт в те времена не шли. Мы сообщали отцу, сколько всего собрали на огороде, какие дела в колхозе, сколько дает коза молока, кто пришел раненый, какие отметки в школе… По письмам выходило: живем мы сносно. Да и самим нам казалось, сносно живем — в тепле, одеты, обуты, не голодаем. И только теперь, понимая цену всему, знаешь, какими суровыми были эти уроки жизни для матери и для тех, кто в войну только-только узнавал жизнь.
Огонь добывали, либо бегая с баночкой за углями туда, где печь уже затопили, либо с помощью кремня и обломка напильника. Освещалась изба «коптилкой». В нее наливали бензин, а чтобы не вспыхнул, почему-то бросали щепотку соли. Не больше щепотки — соль была драгоценностью: 100 рублей за стакан. Мыла не знали. Одежду стирали золой и речным илом. Сама одежда… На ногах, я помню, носил сшитые матерью из солдатской шинели бурки и клееные из автомобильной резины бахилы.
Рубашка была сшита из оконной занавески, а штаны — из солдатской бязи, окрашенной ветками чернокленника и ольховой корой.
Кормились в основном с огорода. Картошка, огурцы и свекла были нашим спасением.
А это я — Вася Песков. («Васютка», как звали меня в детстве).
С хлебом же было так. Из колхоза зерно под метелку отправляли для фронта. Нам доставались лишь оброненные при уборке колосья. Целый день, не разгибаясь, собираешь колосья в мешок, сушишь, бережно растираешь в ладонях. Зерно потом веяли и мололи на самодельной мельнице — «терке». Я убежден: тот, кто держал в руках ломоть таким вот образом добытого хлеба (часто с примесью желудей, свеклы и лебеды), имеет верную точку отсчета в определении разного рода жизненных ценностей.
Тепло в доме доставалось тоже большим трудом, по нынешним представлениям, просто каторжным трудом. Пять километров до леса полем, пять — лесом (чтобы найти сухостойный дубок или сосну). Таким образом, десять — в один конец и десять — обратно с тяжелой ношей. Чтобы не слишком болело плечо, жердину или вязанку дров обертывали травяною подушкой. И все равно: скинешь у дома ношу — к плечу нельзя прикоснуться. И это была обычная забота тринадцатилетних мальчишек.
Однако не единственная забота. Маме приходилось работать на поле. И, хотя дома руки ее удивительным образом до всего доходили и все успевали, нам с сестрой доставалась немалая часть забот: с весны до осени ухаживать за огородом (от него целиком зависело наше существование), готовить сено козе, добывать топливо, носить воду, варить еду, собирать колосья, молоть зерно, нянчить маленьких. И делалось это все помимо учебы в школе, помимо домашних уроков, помимо того, что нас, школьников, водили на колхозное поле (пололи просо, собирали свеклу, молотили подсолнух).
Так война диктовала законы жизни и для детей.
Может странным кому-нибудь показаться, что я ничуть не сетую на судьбу, вспоминая эти четыре года. Прокручивая сейчас назад ленту уже более чем сорокалетней жизни, взвешивая, где, когда и чему научился, без колебания говорю: главная школа жизни приходится на эти годы.
Суровые, требовательные годы совпали для нас, «военных мальчишек», с возрастными законами воспитания человека. Глубоко верю: уроки мужества, труд и трудности сейчас для подростков также необходимы. Их надо сознательно культивировать (в семье, в лагере, в школе) подобно тому, как физкультурой мы восполняем отсутствие естественного физического труда. В нужное время, в нужных дозах, с оправданной степенью риска обязательно надо учить человека тому, что жизнь от него непременно потребует.
Возможен вопрос: «Закалка, трудности… А детство? Во имя грядущих лет не лишится ли человек детства?» Опыт жизни говорит: нет!
Конечно, были в войну ситуации (и немало их было!), когда подросток ставил под ноги ящик, рядом со взрослыми точил на станке снаряды, известно: мальчишки участвовали в партизанских боях. Тут все проходило по счету взрослого человека, и сама жизнь обрывалась (все было!) в тринадцать лет.
Но, вспоминая свое тоже нелегкое детство, я все же вижу его. Оно было! Было со всеми свойственными этому возрасту радостями. Хватало времени на забавы, на всякие выдумки, игры.
Те же хождения в лес за дровами… Конечно, несладкое дело — подняться с постели в четыре утра, нелегка была ноша по пути к дому. Но было кое-что и другое. В лесу открывался мальчишкам огромный таинственный мир. Этим миром ватага из пяти-шести человек пользовалась в полную меру фантазии, любопытства и предприимчивости.
И была еще в нашем владении речка.
Купали лошадей, доставали раков из нор, в половодье катались на льдинах (за это перепадали нам подзатыльники), ловили рыбу. На зимний Николин день дрались «на кулачки» — стенка на стенку по правилам — с мальчишкам соседней Бодиновки. (Традиция, иссякшая только после войны.) Из песни слова не выкинешь, познакомились близко мы и с оружием. (Находки в прифронтовом лесу.) Стреляли из автомата, из винтовки, в логу взрывали гранаты и шашки тола…
И удивляюсь сейчас: никто из нас не утонул, не упал с дерева, не подорвался, опасно не обморозился, не отбился от рук.
И не скажу, что росли мы дичками. Ходили в школу. И много, поразительно много читали. Книги, конечно, были случайные. Но если говорить о КПД их работы, он был огромным.
Читали с жадностью! За хорошей книжкой всегда была очередь. И было заведено: прочел — расскажи! Так мы менялись книжками и тем, что узнали из книжек. И бывало еще: читали вслух, по очереди. Так, помню, мы проглотили «Приключения Гулливера», «Как закалялась сталь», «Человек-амфибия», «Айвенго», «Дерсу Узала». Если б в то время кто-нибудь нам сказал: через десять — пятнадцать лет можно будет дома сидеть у ящика с экраном и видеть, что происходит за тысячу километров, мы бы ни за что не поверили. Теперь, наблюдая мальчишек при передаче «Клуба кинопутешествий», я завидую им, но в это же время с благодарностью вспоминаю сидения у «коптилки». Они нам что-то оставили в душах, эти зимние вечера у «коптилки»!
Что еще прорастало из детства? Думаю, наблюдательность, желание все испробовать, всему научиться. В те времена нельзя было ждать, что нужную, необходимую вещь кто-нибудь в дом принесет и житейское дело кто-то исполнит. За все брались сами. Учились у взрослых и друг у друга, самолюбие подгоняло: Петька может, а я почему же?
Не бог весть какими сложными были наши дела по хозяйству. И все же. Вспоминаю, что мы умели. Мы — это пять одногодков и одноклассников с одной улицы: Петька Беляев, Володька Смольянов, Васька Миронов, Ваня Немчин и я.
Мы умели коптить, починить валенки, вставить в ведерко дно, почистить дымоход в печке, заклеить бахилы, умели наладить пилу, наточить косу, подправить крышу, сделать лестницу, грабли, сплести лукошко из хвороста, намесить глину для штукатурки, навьючить воз сена, смолоть зерно, остричь овцу, почистить колодец, нагнать на кадку лопнувший обруч.
Чернилами по обойной бумаге писали плакаты для школы и сельсовета. В колхозе мы знали, как надо управиться с молотилкой. Научились ходить за сохой в огороде. И в конце концов догадались сделать тележку с колесами от плужка, облегчившую наши походы в лес за дровами…
Такова несложная грамота жизни, которую надо было освоить.
* * *
И если уж все вспоминать, то надо вспомнить и балалайку… Апрель, 1945 год. На просохшей проталине около дома маленький хоровод.
Не хоровод даже, а так — собралась ребятня, три старухи сидят на завалинке, пришедший с фронта без ноги парень, ну и, конечно, девушки, ровесники тех ребят, что ушли воевать.
Веселья не было. Грызли семечки. «Под сухую» пели частушки. («Под сухую» — это значит без музыки: не было ни гармошки, ни балалайки.)
— Господи, неужели нельзя добыть какую-нибудь завалящую балалайку? Ребятишки, ну отняли бы у бодиновских…
Скажи это другой кто-нибудь, я бы слова мимо ушей пропустил. Но это сказала Она…
В прошлом году я встретил ее случайно в Воронеже. Поздоровались, поговорили о новостях, вспомнили, кого знали. Она сказала:
— А я вас по телевизору видела. Шумлю своим: это же наш, орловский…
— А помнишь, — говорю, — балалайку?
Нет, она не помнила.
…Тогда, весной, мне вдруг страшно захотелось добыть для нее балалайку. Ну хоть из-под земли, хоть украсть, хоть в самом деле отнять у бодиновских. Я выбрал самый тернистый петь: решил сделать.
Опустим недельную муку необычной работы… Однажды вечером я пришел к хороводу, робко держа за спиной балалайку. Мое творение сработано было из старой фанеры, на струны пошли стальные жилки из проводов, «лады» на ручке были из медной проволоки. Краски, кроме как акварельной, я не нашел.






