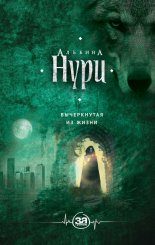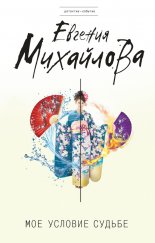Московские дневники. Кто мы и откуда… Вольф Криста

В Комарове нам советуют сходить в Музей русского искусства [Русский музей. — Перев.], мол, там в «запасниках» есть Шагал и Кандинский, которых иногда выставляют. Смотрительницы, которых мы спрашиваем, не знают имени Шагал, потом одна говорит, что здесь выставляют только русских художников. Много Репина. Целый ряд картин Петрова-Водкина, уже нам знакомых, потом две работы Фалька и еще одного, который мне нравится, в боковом зале. Советская живопись слабая, кроме разве что двадцатых годов. Потом перед музеем сидим на скамейке рядом с Пушкиным, где Бёлль — судя по его письму — сидел с Адмони, уже больным (диабет, гепатит), знать об этом не зная, и говорил с Адмони о крепости души… На следы Б. мы наталкивались повсюду, у некоторых были письма от него, говорили о своего рода родстве душ, которое перекрывает все идейные различия…
Криста Вольф. Воспоминания о Ефиме Эткинде (2010)
Ефима прислал к вам Лев Копелев, ваш московский друг, и однажды он неожиданно подкатил к дому отдыха на своей старой «победе», заехал за вами. Поездка к нему на дачу в сторону финской границы, ты помнишь сосновый лес, корявые сосны. Был конец лета. Вдруг Ефим шепнул: «Пригнитесь!» — после чего ваши головы исчезли за стеклами машины и вы беспрепятственно проехали мимо армейского часового с калашниковым на груди. Им незачем знать, что я везу вас сюда, сказал Ефим и доставил вас к деревянному дому посреди леса, где было весело, тепло и уютно, его жена встретила вас радушно, его две дочки заговорили с вашими по-немецки и по-русски. Если память мне не изменяет, сперва пили чай из самовара, с пирогами, а потом ели пельмени. Еще я точно помню, что в комнате, там, где в старых русских домах обычно висит икона с лампадой, был устроен уголок Александра Солженицына: фотографии, книги, письма, тебе показалось, там есть даже что-то вроде негасимой лампады. «Вы его знаете?» — спросили вы Ефима, и он просто ответил: «Мы дружим». Благодаря этому он для вас, особенно для дочерей, поднялся выше, в другую категорию живых существ. Эта дружба стоила ему и его семье родины, его обвинили в том, что он прятал рукописи Солженицына и содействовал на Западе их переводу. Доказать ничего не смогли, но каждый, кто знал его, полагал, что подозрения были небеспричинны, вы тоже так думали, но никогда, ни сейчас, ни позднее, не спрашивали его об этом. Так или иначе, он потерял работу, а затем его вынудили уехать. В Париже, в суперсовременном городском районе, годы спустя вы снова встретились с ним, его квартира была уставлена памятными вещицами и пропитана ностальгией, от которой, как мне кажется, умерла его жена, хотя диагноз гласил: рак.
И меж тем как я пробуждаю все это в памяти и перед моим внутренним взором проходит вереница картин, я нашла и документ, который искала, конечно же в чемодане с копиями наших досье из Штази, который открываю редко и неохотно. Это единственный документ на русском языке, справка НКВД немецким коллегам, где аккуратно описан визит некого молодого человека в нашу квартиру. Он втерся к вам в доверие […], назвав по телефону имя Ефима, после чего, разумеется, был приглашен, а потом рассказал вам, что он, изучавший в Ленинграде естественные науки — вероятно, по совместительству он делал и это, — случайно встретил Ефима в букинистическом магазине — о эти русские случайности! — где тот хотел продать книги, поскольку вынужден уехать из страны: так он доверительно сообщил ему в ходе непродолжительного разговора. И Ефим поручил ему спросить у вас, может ли он, находясь на Западе, по-прежнему поддерживать с вами контакт или для вас это слишком опасно, и вы, неисправимо доверчивые, заверили, что хотите сохранить связь с Ефимом, и предложили ему помощь. Так в досье написано по-русски и в немецком переводе, снабженном русскими печатями. С Ефимом вы встречались снова и снова, на улице в лондонском Блумсбери, в западногерманском городе, где участвовали в одном конгрессе, в Потсдаме, уже после воссоединения, где он в конце концов поселился, на террасе его мансарды, за русским обедом. Он сыпал русскими и еврейскими анекдотами, вы много смеялись, но ему все время хотелось поговорить и о самых серьезных вопросах, его терзала тревога о будущем, он пытался избавиться от нее, без устали разъезжая по свету, читая лекции, преподавая. Сердце у него было нездоровое. Где-нибудь в пути он упадет, думали вы. А потом он умер, там, где никак не ожидал, — в Потсдаме.
Из книги «Город Ангелов, или The Overcoat of Dr. Freud»
«Справка» КГБ о пребывании Кристы Вольф в Комарове, из актов госбезопасности о Вольф
Немецкий перевод «справки» КГБ
Герхард Вольф о шестой поездке
Это была единственная поездка, в которой участвовали наши дочери Аннетта и Катрин, — отпуск в доме отдыха Союза писателей в Комарове. Мы без сопровождения поехали поездом из Москвы в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), и дочерей весьма шокировало, когда в вокзальном туалете, где не было отдельных кабинок, им пришлось просто сидеть рядом, у всех на виду. Катрин носила очень коротенькие юбочки или шорты и вызывала на улице сенсацию, так что ей пришлось переодеться.
Записи Кристы об этой поездке очень лаконичны, возможно, еще и потому, что ей не хотелось ничего записывать о встрече с Ефимом Эткиндом и его семьей, состоявшейся во время отпуска; очевидно, русская госбезопасность не заметила нашей отлучки, поскольку визит к Эткинду в «справке» КГБ не упомянут. Об этой встрече Криста Вольф пишет в «Городе Ангелов, или The Overcoat of Dr. Freud».
Дом отдыха писателей в Комарове располагался в роще неподалеку от берега Балтийского моря. Кормили нас там обильно, уже на завтрак любимая гречневая каша со сметаной и жареным мясом. О пребывании в доме отдыха, где мы подружились с еврейской парой — муж сидел в лагере, — свидетельствуют лишь фотографии, а также экскурсии к достопримечательностям, в музеи, дворцы и памятные места революции 1917 года в Ленинграде; до города можно было добраться довольно быстро.
В Комарове мы посетили могилу Анны Ахматовой. Она скончалась в 1966 году в Домодедове под Москвой, но похоронили ее там, где Союз писателей в конце 1950-х годов предоставил ей дачу: вблизи от ее выбранной родины, Ленинграда. Если со Львом Копелевым и Иосифом Бродским Анна Ахматова состояла в переписке, то Ефим Эткинд, тоже знавший ее лично, издавал ее стихи. Незабываемым стало для нас посещение квартиры филолога, лингвиста и литературоведа Владимира Адмони (1909–1993). Он был близким другом Ахматовой и рассказывал нам о ее жизни и судьбе, о гонениях и исключении из Союза советских писателей.
Через год после этой поездки вышло мое «Описание комнаты. 15 глав о Йоханнесе Бобровском», в связи с чем Лев Копелев написал мне письмо. Его рецензия на «Описание» была напечатана сначала в журнале «Дружба» (Целиноград, Казахстан, 3 марта 1973 г.), а позднее в «Вопросах литературы» (5/1973).
Посещение Петергофа под Ленинградом (Санкт-Петербургом)
Надгробие Анны Ахматовой
Криста Вольф с Катрин (слева) и Аннеттой
Герхард Вольф с дочерьми
Лев Копелев — Герхарду Вольфу
12 декабря 1971 г.
Дорогой Герхард!
От всей души благодарю за твою книгу, сегодня прочитал ее второй раз (за одну неделю) и хочу написать рецензию. Не знаю пока, для какой газеты или журнала и насколько она будет подробной, популярной или «элитарной», но напишу непременно. Потому что книга произвела на меня такое впечатление, какого давно уже ничто подобное не производило… Поэтично о поэзии! И одновременно выходя далеко за пределы чисто литературных или эстетических проблем, именно так, как ты трактуешь одушевление языка: оставаясь в конкретном образном мире, «устремляться далеко за пределы субъективной интуиции… создавать новые представления» (с. 157). Твою книгу я теперь буду везде рекомендовать как превосходный пример проникновения «в страну поэта», которое одновременно само становится поэзией. «Описание комнаты» становится критической данью судьбе поэта, поэтическим рассказом об одном — но каком! — характере и, вытекая из этого «субъективного вдохновения», из всех этих осязаемых, конкретных вещей, из совершенно конкретно ограниченного помещения — одна комната! — переходит в многоуровневые философско-художественные обобщения… Прости, пожалуйста, невнятный лепет, но, надеюсь, ты все-таки сумеешь извлечь из него смысл (поскольку у меня теперь есть и немецкая машинка, тебе будет легче)… Твоя книга имеет для меня огромное значение… Йоханнеса Бобровского я и раньше ценил очень высоко, но с каждым годом его творчество впечатляет меня все больше, все сильнее… Сравнимо с тем, что я впервые осознанно пережил при виде двух церквей: прекрасная, благородно простая старинная церковь Покрова на Нерли (под Владимиром) и «Дивная» церковь в Угличе издали кажутся намного больше (выше, мощнее), нежели вблизи, — чем больше от них удаляешься, тем сильнее воздействие. Не знаю, что говорят архитекторы, но я невольно вспомнил об этом, размышляя об иных посмертных поэтических судьбах — ведь хватает авторов, некогда знаменитых, восхваляемых и бурно обсуждаемых, в некрологах им сулили вечную славу и искренне стремились реализовать эти обещания в мраморе, бронзе и солидных юбилейных изданиях, однако, несмотря ни на что, позднее они существуют только для историков литературы. В противоположность Гёльдерлину, Клейсту, Траклю, Кафке, Хорвату и даже Брехту, который сейчас, через 15 лет после смерти, предстает миру несравнимо большим, нежели при жизни. Твоя книга однозначно доказывает мне то, что прежде иной раз отметали как мое субъективное преувеличение или подвергали сомнению, а именно что Бобровский — одно из величайших и благороднейших явлений в немецкой и мировой литературе. Ты рассказал мне о нем так много нового, раскрыл такие новые связи, что, закончив большую работу «Гёте и театр», я очень хочу сесть за монографию о Бобровском. Что с такой магнетической силой притягивает меня в его поэзии, в его образном, певучем, звучном, ритмически завораживающем языке, я сегодня точно определить не могу — и не знаю, сумею ли вообще. (Но непременно попытаюсь.) Зато я совершенно точно знаю, что как раз сейчас особенно мило и дорого мне в его натуре — натуре человеческой и духовно-поэтической. Его сугубо личная, исконная связь с восточнопрусской родиной («patria chica»[24], как говорят в Испании, Анна Зегерс когда-то превосходно объяснила мне это понятие) — его глубокая укорененность в этой конкретно местной традиции, которая одновременно является одной из самых живучих в немецкой культуре Нового времени, — столь же естественно и конкретно соединилась с литовскими, русскими, польскими, еврейскими, европейскими и азиатскими духовно-художественными, мифологическими, музыкальными, этическими и проч. традициями. Это не порожденная его фантазией романтико-утопическая идиллия, а безыскусная, суровая, даже трагическая реальность, поэтически воплощенная и осознанная поэтом — христианином и альтруистом — во всех ее противоречиях, в том числе и как язык… «на бесконечном пути к дому соседа». Это делает его, эстетически чрезвычайно своеобычного, а экзистенциально порой эзотерического немецкого поэта, особенно актуальным и значимым для всего мира в эпоху национализмов и шовинизмов всех толков, которые так опасно растут и зреют повсюду на нашей планете, от Ирландии до Бенгалии, от Канады до Южной Африки.
А кроме того, должен признаться, я чувствую еще и очень личную связь с ним («избирательное сродство»?). Тебе, последовательному материалисту, может, и смешно, но наш брат с годами становится едва ли не падок до мистических ощущений: много лет мне хотелось основательно проштудировать произведения Бобровского, не только потому, что они привлекали меня художественно и мировоззренчески, но еще и потому, что я родился с ним в один день (9.4), и потому, что студентом и аспирантом особенно интересовался Гаманом, Гердером и Клопштоком (моя первая серьезная работа по германистике была о «Буре и натиске»), и потому, что в войну мы находились прямо напротив друг друга (на озере Ильмень), и потому, что вскоре после возвращения к германистике (1955–1956), занимаясь лирикой Пауля Флеминга о России, в восторге от того, что первые поэтические произведения о Москве, о Новгороде и о других русских городах вышли из-под немецкого пера, я, собственно, впервые услышал и имя Йоханнеса Бобровского… Признаться, правильный подход к нему я нашел не сразу, мне понадобилось еще несколько лет, чтобы преодолеть вульгарно-идеологические догматичные предрассудки, которые довольно долго калечили мои мысли и чувства, но тем сильнее стало потом желание выявить отношения Бобровского с Россией, для меня они необычайно важны и дороги: они по-своему продолжают развиваться и углубляют давние немецко-русские и русско-немецкие духовно-эстетические связи (что снова и снова привлекает меня у П. Флеминга — чьего имени мне, кстати, недостает в твоей книге — и у Рильке). Ты очень хорошо написал об этом (с. 79–82). И Й.Б. убедительно доказывает: реально и плодотворно национальное не может не быть также реально и плодотворно интернациональным в своих истоках и «устьях». Он бы, наверно, прибег здесь к понятию «языческо-христианский», но в конечном счете это одно и то же.
Наверно, теперь ты все-таки можешь себе представить, как я тебе благодарен, что ты написал эту отличную книгу, причем написал вот так, в такой гармонии темы и формы, и прислал ее мне!
Оба раза, когда был в ГДР (в 1964-м и 65-м), я хотел повидать Бобровского, но не получилось, и я надеялся: ладно, тогда в другой раз… Теперь твоя книга стала для меня неожиданной встречей с ним… Печально и все-таки прекрасно, и прекрасное останется жить.
Множество горячих приветов Кристе, когда же я получу почитать что-нибудь и от нее?
Видаетесь ли вы с Анной? Как она? Я давно ничего от нее не слышал. Передайте, пожалуйста, сердечный привет ей и Роди. Рая передает сердечный привет, а я обнимаю вас обоих.
Твой Лев
P.S.
Можно ли купить пластинки с голосом Й.Б.? Что из его наследия еще не опубликовано? Последних четырех названий, упомянутых на супере («Бёлендорф» и др.), у меня пока нет. Там написано «распроданы»! Нет никакой возможности их добыть?
Седьмая поездка. 1973 г. В Москву на выставку, посвященную Маяковскому, 14–29 июля 1973 г.
* * *
Когда мы [в Берлине] возвращались на такси домой, таксист сообщил нам о тяжелой болезни Ульбрихта и высказал предположение, что, если он вдруг сейчас умрет, до конца Всемирного фестиваля его положат «на лед», ведь государственный траур не объявишь.
Картины, оставшиеся от Москвы: номер в гостинице «Варшава», лица в метро, усталые. Спины и профили членов президиума перед и рядом со мной в президиуме торжеств в честь Маяковского в писательском доме. Их спины, тщеславные, когда они стояли на ораторской трибуне. Клуб, где мы обедали, обшитый деревом. Музейная комната К. [Льва Копелева]. У окна портрет Фриды Вигдоровой, «лучшей женщины, какую он знал». Большая жилая берлога у его дочери Светланы, ее кривошеий муж, языковед. Шрифт бёллевского письма (…подпорчен славой (как мы все)). Мария Сергеевна с ее полными плечами, напротив меня. Два лица Симонова: подтянутое официальное и старое, больное. Вид на березы из его окна… Студия Б. [Бориса Биргера]. По-западному ухоженная жена Симонова. Напыщенно-патетичный декламатор на открытии выставки Маяковского. Наигранная взволнованность стоящих вокруг.
Герхард Вольф о седьмой поездке
К сожалению, об этой поездке, в которой участвовал и я, остались лишь короткие записи Кристы Вольф, сделанные позднее и слабо передающие внешнюю напряженность тех дней. Криста Вольф поехала в Москву прежде всего, чтобы взять интервью у Константина Симонова для журнала «Нойе дойче литератур». Интервью затрагивало основные жизненно важные вопросы, мы знали романы Симонова и его незабываемую песню «Жди меня», призыв к женщинам не забывать воюющих на фронте мужей, которую пели повсюду.
Мы также знали, что Симонов возродил выставку о Владимире Маяковском (1893–1930) — «20 лет работы», — которая для Маяковского, незадолго до того, как он пустил себе пулю в сердце, стала последним большим выступлением. Выставка, в точном соответствии с планом, созданным поэтом 43 года назад, была развернута в тех же помещениях, для чего специально вновь открыли заложенную дверь. Мы присутствовали на открытии выставки, на котором появилась и возлюбленная Маяковского, часто порицаемая Лиля Брик — старая, но несломленная дама в черном. Мы знать не знали, что Криста Вольф должна произнести речь на последующем праздничном вечере, где выступали и зарубежные знатоки Маяковского (мне был знаком только чешский переводчик Иржи Тауфер из Праги). Ее направили к секретарю Московского союза писателей, Суркову, который объявил, что она обязательно должна выступить как представительница ГДР. На ее возражение, что она вряд ли сумеет подготовить за один день соответствующую речь, он саркастически сказал: «Маяковскому уже ничто не повредит».
С помощью нашей верной переводчицы Лидии Герасимовой мы раздобыли немецкое издание стихов Маяковского (наверно, в переводе Хуго Гупперта) и взялись за работу. Речь Кристы вечером была, помнится, единственной, где упоминалось о его самоубийстве.
Этот импровизированный манускрипт, увы, не сохранился, не в пример заметкам к разговору с Симоновым, состоявшемуся в один из следующих дней в его кабинете на даче в подмосковном Переделкине, с помощью нашей переводчицы Лидии. Симонов был сильно простужен и носил на лбу повязку с лечебными снадобьями. Нас впечатлил дом, полностью оснащенный западными бытовыми приборами, но особенно оригиналы картин знаменитого художника-примитивиста Нико Пиросманашвили на стенах. Позднее интервью вызвало большой интерес.
Через два месяца после поездки нас посетил в Берлине Юрий Трифонов, о чем Криста Вольф пишет в книге «Один день года» — в дневниковой записи от 27 сентября 1973-го. С тех пор мы поддерживали с ним контакт и через его книги, выходившие в восточноберлинском издательстве «Фольк унд вельт», а также на Западе (в 1978 году он, например, получил «Premio speciale»[25] жюри итальянской Premio Mondello[26]).
Эмоциональная статья Льва Копелева об «Образах детства» (1976) полемизирует с резким отзывом Марселя Райх-Раницкого, который главным образом ссылается на четыре временных пласта текста («Печальная урна Кристы Вольф», «Франкфуртер альгемайне цайтунг», 19 марта 1977 г.), а также с возражениями Ханса Майера касательно авторских поисков правды. Тем самым Копелев, как и Генрих Бёлль, вступил в критический спор по поводу этой книги, что вызвало широкое одобрение прежде всего во Франции.
Пригласительный билет на выставку Маяковского
Владимир Маяковский в 1930 г. на своей выставке «20 лет работы»
Криста Вольф. Вопросы к Константину Симонову (1973). Перевод Л. Герасимовой
КРИСТА ВОЛЬФ. Товарищ Симонов, из круга вопросов, какие мы могли бы обсудить, я попробую выбрать те, на которые мы в силу разного опыта, вероятно, смотрим несколько по-разному, или же те, которые занимают меня сейчас и на которые мне было бы любопытно услышать ответ именно от вас. Мы люди разных национальностей и разного возраста, что не может не влиять на нашу с вами работу. Интересуют вас как писателя немцы?
КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Мне трудно разделить себя на писателя и просто на человека, прожившего определенную жизнь. Как у человека своего поколения у меня были разные периоды разных чувств к немцам и разного характера интерес к ним.
Если касаться частной истории этих интересов, надо отсчитывать время с детских лет, с семи, с восьми. Мои первые детские воспоминания о Германии, о немцах связаны с разговорами у нас в комнате, дома, между командирами Красной армии, моим отчимом и его товарищами, насчет того, будем мы или не будем выступать на помощь Гамбургскому восстанию. Речь шла о военной помощи.
Конечно, это именно детские воспоминания, я не хочу их модернизировать. Но все-таки я отчетливо помню то, что об этом говорили: что вот у немцев там, в Гамбурге, революция — как, сможем мы помочь или не сможем? И как все это будет дальше? Я вспоминаю уроки пения в школьные годы и на этих уроках пения пою песню Эйслера «Коминтерн»: «Заводы, вставайте! Шеренги смыкайте!..»
А если вспомнить годы перехода из пионерского в комсомольский возраст (хотя я не был ни пионером, ни комсомольцем, а вступил прямо в партию в сорок первом году), я помню, как мы носили «юнгштурмовки» с портупеями — это была молодежная униформа «Рот фронта»; помню, как носили «тельманки». Это конец двадцатых — начало тридцатых годов, время, когда ожидание того, где еще, кроме нас, произойдет революция, было для меня, пятнадцатилетнего, связано больше всего с мыслями о Германии.
Если говорить о моих тогдашних чувствах, если попробовать их восстановить, кто из зарубежных коммунистов был для меня тогда первый человек — конечно, Тельман! Тем сильнее было потрясение, связанное с приходом к власти фашизма и с тем, как это все произошло, как это вдруг все-таки произошло? Это было огромное нравственное потрясение.
КРИСТА ВОЛЬФ. Насколько мне помнится, когда окончилась война, я еще не слышала имени Тельман. Мне тогда было шестнадцать лет.
КОНСТАНТИН СИМОНОВ. […] В конце войны меня глубоко интересовало, что думают немцы обо всем происшедшем. Свидетельство этому — мои дневники сорок пятого года. Я попал в Силезию зимой сорок пятого года и разговаривал там с разными немцами — со священниками, с бывшими коммунистами, с обывателями, с мелкими буржуа — и тогда же подробно записывал эти беседы. Эти записи того времени я сейчас опубликовал, и, может быть, вам было бы интересно, если бы вам просто с листа перевели два-три десятка страниц этих бесед.
Книга эта называется «Незадолго до тишины». Там, конечно, не только разговоры с немцами, но разговоры эти свидетельствуют о моем тогдашнем огромном интересе и к Германии, и к немцам, и к тому, что будет с ней и с ними. В этих записях есть мои тогдашние выводы — почему фашизм пришел к власти, что такое немцы и как с ними быть дальше? В этих тогдашних выводах многое неправильно, в них есть крайности — но я все это оставил в тексте записок. А в примечаниях написал, что это сделано для того, чтобы наши немецкие товарищи наглядно представили себе сейчас, какую дистанцию нам в наших чувствах к немцам пришлось пройти от того времени до нынешнего.
КРИСТА ВОЛЬФ. Мне кажется, теперь вы иначе подходите к использованию своих дневников. Вы ведь и раньше пользовались ими для своих романов, но как своего рода сырьем, которое подвергалось переработке. Теперь же вы публикуете свои записи непосредственно как документ. По какой причине?
КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Этот метод был избран мною с самого начала. Кроме некоторых, главным образом личного характера, купюр, я делал в дневниках только литературную правку, совершенно необходимую, потому что обычно эти дневники были наспех расшифрованными стенограммами, не всегда удобными для чтения.
КРИСТА ВОЛЬФ. Да, но, насколько мне известно, вы для своих романов пользовались дневниками.
КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Я использовал свои дневники, конечно, и для романов о войне. Для одних больше, для других меньше. Но сейчас я заканчиваю работу над тем, чтобы свести все свои военные дневники в два больших тома. Это как бы параллельная работа с работой над романами — от начала войны и до конца. В тексте дневников всюду будет ясно — где то, что я записал тогда, в дни войны, и где то, что я вспомнил и добавил сейчас.
Романы, конечно, тоже в какой-то мере опираются на дневники — потому что ведь жизнь-то у меня была одна!
КРИСТА ВОЛЬФ. В этом-то и заключается мой вопрос: каково соотношение материала автобиографического, то есть того, что сохранила память и что записано не было, возможно, потому, что тогда что-то не хотелось записывать, с дневниками, к которым теперь уже можно обращаться как к чужому документу того времени. Думаю, что чем больше отдаляешься от той поры, о которой пишешь, тем усложненней становится этот метод. […] Я расспрашиваю вас так подробно потому, что именно это интересует меня для собственной работы. Вы вот сказали, что вам и по сей день тяжело говорить о войне. Так же как и нам по сей день тяжело говорить о фашизме, хотя и по другим причинам. Знаю, мое поколение, детство которого прошло при фашизме, до сих пор еще не до конца «переварило» пережитое. О таком вот детстве я сейчас пишу книгу. У меня, конечно, нет дневниковых записей, я пытаюсь быть достоверной, опираясь на свою память, и эти воспоминания проверяю по доступным мне документам. И тут я порой делаю поразительные открытия, относящиеся к психологии памяти, — так что книга, чтобы стать «реалистической», должна иметь несколько планов.
КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Я с вами вполне согласен. Это, по-моему, правильный литературный ход и правильный метод. Мне, во всяком случае, он очень близок. Я именно так и делаю свою последнюю книгу — военных дневников. Хочу повторить, что мои дневники сорок пятого года, если вы их прочтете, дадут вам представление, насколько велик был тогда мой интерес к немцам, к Германии и к тому, что будет после войны. […]
После войны я был в первой нашей воксовской[27] культурной делегации, которая поехала в Германию. И здесь у нас, в Москве, я занимался в Союзе писателей приемом первой делегации немецких писателей во главе с Келлерманом. Тогда у меня возникли первые знакомства с моими немецкими коллегами, в том числе с Вайзенборном, Клаудиусом, Хермлином. Здесь, в Москве, встретил Буша и впервые после войны слышал, как он поет. Таким было начало новых связей и отношений.
Если говорить о дальнейшем, то писатель есть писатель, и, когда ты чувствуешь интерес к твоим книгам, это возбуждает у тебя дополнительный интерес к твоим читателям. Для меня очень дорого и психологически очень важно, что немецкие читатели читают мои книги на такую непростую — и для них, и для меня — тему, как минувшая война.
Дело в том, что такой кусок жизни, как эта война, хотя связь тут, как говорится, не самая лучшая, но все же это общий кусок истории для нас и для немцев. […]
КРИСТА ВОЛЬФ. Бывают ли у вас проблемы, конфликты — у вас как у политического деятеля, — о которых вы не должны писать, не считаете возможным писать? Не потому, что как писатель не можете совладать с материалом, а потому, что вам кажется, что писать об этом вредно, либо потому, что, по вашему мнению, написанное вообще не может быть опубликовано в данный момент, — словом, что-то вроде самоцензуры.
КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Конечно, были. Мне кажется, здесь стоит провести водораздел между романом и вообще между чисто художественным произведением и, скажем, дневниковой книгой или мемуарами. В случае с романом я сразу принимаю решение — или я его пишу, или не пишу. А с книгой мемуаров дело сложнее. Например, сейчас я пишу воспоминания об Александре Твардовском. После его кончины прошло не очень много времени. Большинство тех, о ком я вспоминаю, еще живы, еще активно работают. У меня собственное, сугубо личное отношение к многим проблемам и к многим людям, о которых идет речь в мемуарах. И хотя я записываю все по порядку, я уже заранее твердо решаю выбрать для публикации только то, что в данный момент считаю возможным, морально оправданным. Остальное я опускаю, пусть пока полежит. Я очень боюсь таких воспоминаний, где человек одно пишет на бумаге, а другое оставляет «на потом», в голове. Я сторонник воспоминаний, где человек пишет подряд все, что считает нужным написать, зная, что он не все из этого напечатает.
КРИСТА ВОЛЬФ. Касаясь литературы моей страны и моего поколения: меня не покидает ощущение, что самые важные события — внутренние и внешние, — самые важные решения и конфликты, определившие наше развитие и уже почти три десятилетия подряд нас волнующие, весьма слабо отражены или совсем не затронуты в нашей литературе. Хотелось бы знать, у вас такое же ощущение?
КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Да. У меня тоже есть, например, ощущение, что нам бы надо пошире написать, скажем, о драматических для нас предвоенных событиях тридцать седьмого, тридцать восьмого года, думаю, много объясняющих в последующем, особенно в поражениях начального периода войны. Об этом надо писать больше и подробнее, чем до сих пор. Причем главная проблема, по-моему, заключается в том, чтобы писать об этих годах не только с позиций людей, которых посадили в лагеря и подвергли чудовищным репрессиям. Надо написать всю картину времени и общества. В этой картине должна присутствовать и драма людей, не понимающих, что происходит. Но в этой картине должна быть показана и индустриализация страны в обстановке ожидания войны с фашизмом, которая вот-вот должна начаться. И ощущение надвигающейся с запада войны, в то время как у нас на восточных границах люди уже по три года сидят в окопах, ожидая нападения японцев. А одновременно со всем этим — полеты через Северный полюс. А одновременно со всем этим — Испания, советские добровольцы, Интербригады, взрыв интернационалистических чувств и значение всего этого в жизни каждого из нас.
Вот если бы дать весь этот конгломерат! Тогда все нашло бы свое место. Таких сочинений о том времени пока что у нас не хватает. И ощущение необходимости их появления у меня лично все усиливается. Может быть, и я, когда закончу с войной, возьмусь за книгу о том времени.
КРИСТА ВОЛЬФ. По-моему, это было бы очень важно. Вы как писатель-коммунист, дисциплина и чувство ответственности которого отличны от дисциплины и чувства ответственности буржуазного писателя, не считаете ли опасным, что порой вы слишком далеко заходите в самоцензуре? Не ощущаете ли вы опасности, что пишете лишь то, чего от вас ждут, и, возможно, видите лишь то, чего от вас ждут? Что уже неспособны видеть и ощущать свежо и непосредственно, а ведь это и есть предпосылка любого творчества?
КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Мне кажется, что я, в общем, довольно здраво смотрю на вещи, вижу реальность жизни и какой-то особой, суживающей избирательности в наблюдениях у меня нет. В то же время, конечно, с внутренней собственной цензурой мне приходится иногда бороться. Потому что сам иногда думаешь и колеблешься — надо ли об этом сейчас или не надо? Поможет это или не поможет установлению правильного взгляда на те или иные проблемы?
[…] Хочу добавить к тому, что я сказал в ответ на ваш вопрос о нас и немцах, что мне, без преувеличений, кажется, что историческое соседство наше с немцами заставляет нас все время думать друг о друге. И у меня такое ощущение не только от многих поездок в ГДР, но и от последних поездок в ФРГ, что этот интерес взаимен и весьма серьезен. Трудно представить себе будущее Европы, исключив из своих размышлений то, что связано для нас в нашем прошлом, в том числе в военном прошлом, с немцами, а для немцев с нами. Политические контакты могут быть те или другие, о них могут писать больше или меньше, но наш взаимный интерес — величина постоянная, исторически обусловленная и имеющая будущее…
КРИСТА ВОЛЬФ. Для нас, для моего поколения, вопрос об отношении к русским возник гораздо позже, чем для вас — к немцам. Не только потому, что вы старше, но и по другим причинам. Насколько могу припомнить, само слово «русский» возникло для меня только в начале войны против Советского Союза, причем как обозначение страха. Русские — это устрашающая карикатура в газетах и на плакатах, весьма опасная порода людей, стоящая значительно ниже немцев. Первыми живыми русскими, которых я увидела, были военнопленные и перемещенные, мужчины и женщины. И только после войны, когда в небольшой мекленбургской деревушке, где я работала конторщицей у бургомистра, мне пришлось иметь дело с офицерами и солдатами советских оккупационных войск, только тогда русские стали для меня конкретностью. Трудно поверить, как много требуется времени, чтобы абстрактное представление о другом народе — пусть сперва как о пугале, пусть позже как об идеале — стало наконец живым, обрело разные лица, наполнилось отношениями, много для тебя значащими. Это долгий, к тому же переменчивый процесс, после множества разного рода встреч возникло новое, как мне теперь кажется, близкое к действительности отношение к русским, к русскому народу, к Советскому Союзу; и этот опыт вообще занимает в моей жизни одно из самых важных мест и (необязательно как некий «материал») чрезвычайно важен для моей работы. […]
КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Как всякий человек, получивший гуманитарное университетское образование, я знаком с немецкой классической литературой — с Лессингом, с Гёте, Шиллером… Меньше с немецкими романтиками; из них прочел от доски до доски, пожалуй, только Гофмана. У Гейне для меня большее значение имела его проза, чем его стихи, может быть, еще и потому, что — боюсь это сказать, ибо его переводили у нас первостатейные переводчики, — все-таки в моем ощущении Гейне еще не нашел у нас такого переводчика, какого, скажем, в лице Маршака нашел Бёрнс. В новой немецкой литературе для меня самым важным писателем был Брехт. Я читал все, что переведено на русский язык, — пьесы и прозу, статьи и стихи. Дальше всего я от его стихов, потому что они опять-таки или не переведены, или вообще непереводимы, я не воспринимаю их непосредственно чувством, для меня они прежде всего ум, острота этого ума, почему-то в данном случае облеченные в стихотворную форму. А в общем, у Брехта я люблю все, с первого чтения он заставлял меня думать и заставляет думать и до сих пор над многими важными для меня вещами; кстати сказать, однажды, в сорок шестом году летом, я в течение нескольких часов сидел и разговаривал с Брехтом. Я был в это время в Соединенных Штатах, в Голливуде. Мы вместе завтракали у меня с Брехтом и Фейхтвангером. Фейхтвангер был для меня человеком, чьи романы я в юности читал с огромным интересом и к которому относился с большим уважением. Брехт оказался какой-то вспышкой света, какой-то шаровой молнией ума, остроумия, обаяния. Таким мне запомнилось это единственное свидание с ним.
Романы Ремарка, которыми у нас зачитывались очень широко в пятидесятые годы, мне тоже нравились, я не был исключением среди большинства русских читателей. Но они не заслонили для меня «На Западном фронте без перемен», который все равно в моем сознании остался лучшей книгой Ремарка, даже неким верстовым столбом, от которого идут многие отсчеты и взад и вперед в европейской литературе двадцатого века.
Эрнст Буш в моем сознании не только удивительный певец, но и явление, связанное со всей немецкой антифашистской поэзией, а эта антифашистская поэзия в свою очередь связана для меня с представлением о немцах, с оружием в руках сражающихся против фашизма и на земле Испании, и не только там. Вспоминая встречи с Бушем, я вспоминаю весь накал немецкой антифашистской поэзии, вспоминаю Бехера, вспоминаю Вайнерта, думаю о Стефане Хермлине, думаю об Анне Зегерс, которую глубоко люблю и за ее книги, и за нее самое, за то, какая она сама прекрасная и благородная. […]
Думая о немецких писателях, анализирующих возникновение фашизма, и его бытие, и его последствия, не могу под свежим впечатлением не сказать о том, как сильно заинтересовала меня в самое последнее время новая книга Генриха Бёлля «Групповой портрет с дамой».
По моему личному убеждению, это не только лучшее из всего, что написано Бёллем, но и серьезная пища для размышлений, данная миллионам читателей, и вовсе не только немецких. Непримиримость к фашизму облечена в этом романе в форму такого сложного и глубокого аналитического повествования, которое заставляет думать над этой книгой, и чисто профессионально для меня составляет предмет глубокого интереса то, как она построена; по каким-то законам, во многом новым, возведено это удивительное литературное здание.
КРИСТА ВОЛЬФ. Если хотите, ответьте мне еще на один, последний и, может быть, назойливый вопрос: существует ли для вас своего рода опасность славы? Существует ли что-нибудь, что делаешь или не делаешь, чтобы не рисковать этой славой — популярностью, к которой, возможно, уже и привык?
КОНСТАНТИН СИМОНОВ. Трудно отвечать на вопрос о славе писателя или о его популярности без притворства. Лучше вообще на него не отвечать. Но, как говорили у нас в старину, перекрещусь и все-таки прыгну в воду. Опасна ли слава или ее синоним — популярность? По-моему, ответ может быть только один: конечно, опасна. Разумеется, писатель, сознавая, что его широко читают, должен больше многих других людей думать о том, как вести себя, должен с большей чуткостью относиться к возможности обидеть, задеть другого человека, должен привыкнуть к постоянному самоконтролю. Я думаю, со всем этим легче справиться, когда продолжаешь работать, продолжаешь писать, а не живешь на проценты с написанной когда-то давным-давно книги. Вообще, когда много работаешь, остается меньше времени думать о другом, в том числе о собственной славе или собственной популярности. В этом еще одно преимущество постоянной работы. Трудно ли отказаться от своей популярности, если уже привык к ней? Должно быть, трудно, и если эта дилемма требует определенного шага, который зависит от самого писателя, то наверняка нелегко решиться на такой шаг.
И наконец: разве мы сами не содействуем каким-то образом собственной популярности, хотя бы время от времени? Мы то и дело именно так поступаем, порой сознательно, порой бессознательно. И в этом смысле я, вероятно, тоже не составляю исключения.
Посвящение на обложке книги Константина Симонова «Третий адъютант» (1942)
Криста Вольф. Четверг 27 сентября 1973 г. Кляйнмахнов, Фонтанештрассе: визит Юрия Трифонова
[…] Гостиница «Унтер-ден-Линден», звоним в номер Юрию Трифонову, он приходит. Я иду в туалет, служительница сидит на табуретке в углу, просит каждого не закрывать дверь. В вестибюле стоят Герд и Юрий, я его узнала. Вширь раздался, говорит Герд. (Сегодня он говорит: «сбросил», запомнил его более худым и подвижным.) Юрий простужен, мы идем в аптеку напротив, берем ему таблетки от горла, капли в нос, аминофеназон. Едем. Уже в машине спрашиваем, как прошел коллоквиум (тема: «Конфликты в жизни — конфликты в литературе»). Он только смеется. Я говорю, что слыхала, он был лучшим. Ну, тогда он представляет себе, каковы были остальные.
По дороге сразу же заходит разговор о том, что с недавних пор в Москве перестали глушить определенные западные радиостанции.
Поехали мы в «Эрмелер-хаус», приятная тишина, прохлада, сквозняк, почти до конца мы единственные посетители в своем зальчике. Все официанты во фраках. Обслуживает нас молодой человек с детским лицом и детскими локонами. Заказываем телячье жаркое, Герд — что-то экзотическое из утятины. (Через 1,5 часа начинаем зябнуть.) Под конец омлетики с ананасом, которые готовятся и фаршируются прямо на столе. За все про все (коньяк, водка, сок) 90 марок.
Разговоры за столом: обмен информацией о Солженицыне и Сахарове (мы согласны, что, выступив с обращением к чилийской хунте, по поводу Неруды, Сахаров навредил себе, расписался в политической наивности. С другой стороны, Трифонов говорит: Сахаров и его жена сделали огромное дело, так много привели в движение). Говорим о том, что Трифонов написал за последние годы: три повести, исторический роман о русских террористах прошлого века, все это выйдет здесь. О том, как его сбежавший кузен — Демин, — который выпустил на Западе книгу и работает на «Radio Liberty»[28], начисто лишает его возможности съездить на Запад. О том, кто подписывает воззвания против Солженицына, касающиеся Нобелевской премии: преимущественно секретари Союза, к числу которых, увы, принадлежат Айтматов и Быков. Но зачем это понадобилось старому, полумертвому Катаеву? — спрашиваем мы себя. Трифонов цитирует открытое письмо некой женщины (Чуковской?) против этих подписантов, которых она с момента подписания объявляет «покойниками»… Говорим, позднее, и о второй книге Мандельштам («Столетие волков»), которую Трифонов, несмотря на некоторые несправедливости касательно иных людей, тоже считает «большой книгой». (Как и «Шестой день творения» Максимова.) «Двойной портрет» Каверина он оценивает не так высоко: слишком «литературный». И находит неправильным, что Каверин написал старой больной Надежде Мандельштам грубо отрицательное письмо по поводу ее второй книги. (Впечатление, что Трифонов один из тех, кто «прорвался» и усвоил манеру поведения, которая позволяет им жить, покуда сохраняя от разрушения их внутренний стержень.) Позднее, уже у Аннетты и Райнера, он рассказывает о своем конфликте: стоит ли ему после снятия Твардовского продолжать публиковаться в «Новом мире». Через год он это сделал. Твардовский его понял, другие критиковали.
За столом он рассказывает и о своей новой жене («хорошая баба»), она тоже литератор, живут они на две квартиры, и его дочь (21 год) не принимает эту новую жену. Все очень сложно. Ей бы лучше выйти замуж, но с этим опять-таки ничего не получается.
Еда вкусная, атмосфера в ресторане слишком эксклюзивная и безжизненная, нам бы следовало выбрать заведение попроще. Тр. рассказывает о недавно созданном комитете, определяющем политику в области переводов. Бунин вошел в этот комитет. «Неясный» человек. Тр. дает юмористические оценки. Об одном из участников коллоквиума говорит: Пустышка, ноль целых ноль десятых. (Я поправляю: Ноль целых одна сотая.) О процессе против Якира и Красина: результат равен нулю (я: минус 100), потому что не было западных корреспондентов.
Едем к детям, промерзли насквозь, греемся в машине. Аннетта в ржаво-красном свитере, выглядит хорошо, «душевно». Сперва советуемся насчет Яны: не начался бы у нее еще и кашель (правда, при нас она не кашляет). Я спрашиваю себя, не выражается ли в этом сопротивление маленького тельца против яслей. В 10 часов, когда девочке надо дать пенициллин, забираем ее в большую комнату. Она просыпается с трудом, но не плачет, как обычно. Только смотрит строго.
На стене новая картина Германа: автопортрет с картонным носом. Хорошо, но, по-моему, несколько чересчур прямолинейно. Из фотографий, полученных в наследство от бабушки, Райнер повесил на стену два фотомонтажа в старинных рамах. Старинный, весьма красивый стул стоит теперь в углу. Быстро завариваем чай. Ром мы тоже прихватили с собой. Юрий из-за своей простуды выглядит плоховато. Сперва разговор идет о кино. Аннетта рассказывает, что только что видела по телевизору репортаж с похорон Неруды, тысячи людей шли за гробом, толпы народа на тротуарах. Многие плакали. Кричали: Да здравствует Альенде, да здравствует Unidad Popular![29] Пели «Интернационал». Она под большим впечатлением.
Позднее передаем из рук в руки несколько не самых новых номеров «Шпигеля», я зачитываю несколько фраз о Габриеле Воман, она уже двадцать лет замужем за учителем, который на шесть лет старше ее, и он спокойно говорит: «Под мужьями в своих книгах она не всегда имела в виду меня…» Далее, напечатан материал адвокатов группы Баадера — Майнхоф[30], о «пытках» в тюрьмах ФРГ. (Одиночные камеры, недостаточно питья при голодовке.) Все выдержано в нарочито грубом тоне: «Верховная федеральная свинья Мартин» и т. д. Увы, только пожимаешь плечами, потому что невольно думаешь о тех, кого пытали по-настоящему. Трифонов интересуется западным телевидением (в Москве он смотрит только спорт. Дискутируется вопрос, может ли московская команда поехать в Чили на матч-реванш и поедет ли). Как раз передают репортаж о новых мерах по оздоровлению польской деревни и польского сельского хозяйства. Напрасно мы ждем чтения «Манифеста» Павла Когоута, который он передал Австрийскому радио. Трифонов устал, и в 11.30 мы уезжаем, отвозим его в гостиницу. Он говорит о Райнере и Аннетте: «Симпатичные молодые люди». Я: «Хорошо, когда дети остаются друзьями».
Лев Копелев. Образы правды О романе Кристы Вольф (1988)
…ибо правда распространяет свет на все стороны.
Гёте
Эпиграф к роману «Образы детства» Кристы Вольф — стихотворение из «Книги вопросов» Пабло Неруды. Начинается оно строфой:
- Где мальчик, которым я был, —
- Во мне еще или ушел?[31]
Первая строка первой главы гласит: «Прошлое не умерло. И даже не прошло. Мы отторгаем его от себя, отчуждаем».
Роман развертывается в трех «грамматико-психологических» измерениях: ОНА, ТЫ и Я. И притом в разных измерениях пространства и времени: ОНА — Нелли Йордан — присутствует во времени с 1929 по 1947 год. ТЫ и Я — с июля 1971-го по 1975-й, до конца последней страницы книги. ОНА, девочка Нелли, в пятнадцать лет покидает в феврале 1945 года родной город Л., преследуемая страхом, гонимая паникой. ТЫ в июле 1971-го с мужем, братом и пятнадцатилетней дочерью Ленкой едешь из Берлина (ГДР) в «Л. — ныне г.», в Польшу, в тот город, где когда-то жила Нелли, идешь по ее следам, вспоминаешь о ее-твоем детстве и юности, о ее-твоих родителях, родных, друзьях, знакомых… И вновь и вновь становишься Я. Но трехмерным роман кажется лишь беглому взгляду. Мало-помалу открываются все новые измерения, все новые сокрытые глубины.
Девчонки из Союза немецких девушек в белых форменных блузках с черными галстуками выстроились шеренгой на лугу, на линейку. Командир отделения «с ее рыжеватыми кудряшками, сильными очками, курносым носишкой и плетеным аксельбантом» читает стихотворение Анаккера:
- С великим Мы объединилось Я
- Как часть машины и ее движенья;
- И не в существованье, а в с л у ж е н ь е
- Отныне видит ценность бытия[32].
Нелли переписала себе этот текст. Воспринимала его как символ веры. В ту пору она лишь смутно и мучительно ощущала то, что поняла много позднее: «чтобы не погибнуть в этих жерновах, надо было сделать выбор между двумя взаимоисключающими видами морали».
Этот выбор между моралью человечности — личной моралью — и бесчеловечной моралью безличного МЫ, воплощением которого может быть государство, церковь, партия, казарма, превосходило и превосходит по сей день не только силы пятнадцатилетней девочки. Разделение на три лица, однако, не просто стилистический элемент, определяющий структуру этого самобытного повествования, и уж тем более не следствие болезненного «расщепления личности» автора. Напротив, как раз в этом своеобразном «триединстве» особенно отчетливо видно развитие ее писательской личности; вновь подтверждается, что живое развитие всегда еще и «единство и борьба внутренних противоречий». «Обожженной рукой я пишу о природе огня». Эта строчка Ингеборг Бахман — эпиграф к восьмой главе «Образов детства». Нелли не знала, как трудно «писать о себе», и писательница Криста Вольф не скрывает ни от себя, ни от читателей, как это трудно. Оттого-то, наверно, и скачки от Я к ТЫ и ОНА.
Отец Нелли, которого считали погибшим, был в плену. Лишь спустя долгое время его письмо окольными путями добралось до семьи. После многолетней разлуки он возвращается: ужасно постаревший, изголодавшийся и одичавший. […]
«Нелли не понимает, что живет она не в те времена и не в тех местах, где поэт писал о днях и личности и ставил после своего дерзкого заявления восклицательный знак. Нелли мерит едва не умершего с голоду отца не той мерой».
- …Счастлив мира обитатель
- Только личностью своей[33].
Нелли этого еще не знала. Но автор знает; знает и какие силы не желают предоставить обитателям мира это счастье, знает, как она — Нелли, — как ты и я подчинились этим силам и что, возможно, мы по сей день еще недостаточно сильны, чтобы им противостоять.
Меньше чем на трех страницах изображена отчужденность дочери и отца. Всего лишь несколько сцен, фрагменты, но обрисованные четко и ясно: рассказчица держится на заднем плане — от стыда и боли, которых, однако, не может скрыть даже горькая самоирония.
В феврале 1945 года Нелли рассталась с родительским домом, с городом, где родилась и выросла, а тем самым рассталась и с детством. Спустя четверть века она возвращается. На несколько дней. Вновь видит свою давнюю родину, которая стала для нее-тебя чужбиной; теперь это родина других людей, говорящих на другом языке, живущих другими воспоминаниями. Многим сотням тысяч, даже миллионам людей пришлось и приходится в нашем столетии покидать свою родину. Память о прошлом для многих безутешное горе, неисцелимая боль. Иные из тех, кому пришлось бежать, кто был изгнан, по-прежнему испытывают бессильную ненависть к своим гонителям — большинства которых уже нет в живых — и слепую ненависть к новым обитателям, никоим образом не виноватым в изгнании. Напротив, воспоминания, поэтически воссоздаваемые в «Образах детства», свободны от всякой ожесточенности, проникнуты печалью, но и стремлением понять события, их причины и следствия. В этом «Образы» сродни книгам Йоханнеса Бобровского и Гюнтера Грасса. А по своей гуманной сути особенно близки книге совершенно другого жанра — историческим наброскам и воспоминаниям графини Марион Дёнхофф «Имена, каких никто уже не называет». […]
В пятнадцать лет Нелли со своими близкими бежит от Советской армии, от «русских», которые вот-вот возьмут ее родной город, которые уже разрушили ее мир — веру, в какой она выросла.
«Русских она в жизни не видала. О чем она думала, говоря „русские“? О чем думала Нелли? Что себе представляла? Кровожадное чудовище с переплета „Преданного социализма“? Кинокадры с толпами советских военнопленных — наголо стриженные головы, изможденные, равнодушные лица, одежда в лохмотьях, драные портянки, шаркающая походка, — они вроде и сделаны-то были из иного теста, чем бравые немцы-конвоиры? Или она вообще ничего себе не представляла? Может, ее готовности к страху было достаточно того смутного ужаса, каким веяло от мрачно-загадочного слова „насиловать“? Русские насилуют всех немецких женщин — неоспоримая истина. […]»
В «Образы детства» вплетено множество различных тем и проблем. Разбирательство автора со своим прошлым и настоящим, с окружающим миром и с самою собой многогранно и основательно. Как детям и родителям понять друг друга? Как передать опыт одного поколения другому? Как найти общий язык, если старшие и младшие выросли в разные эпохи, в принципиально различных условиях? […]
Дочери Ленка и Рут — наряду с Нелли, ТЫ и Я — четвертый энергетический полюс в силовом поле художественного осмысления человеческих судеб, «заместительный» для всех молодых людей, к которым обращена эта книга.
Нелли пыталась противостоять убожеству послевоенного времени; но семнадцатилетней девушке все эти трудности и невзгоды были не по плечу. Она заболела легочным туберкулезом. Целую осень и зиму проводит в лечебнице. Там не хватает врачей, лекарств и еды. Ее окружают обреченные на смерть, умирающие, но и выздоравливающие; она пытается помочь некоторым из них, в первую очередь детям. Живет бок о бок, глаза в глаза со смертью, с неутолимыми страданиями и напрасными надеждами. У нее много времени, чтобы наблюдать, размышлять и читать.
Там, в лечебнице, она впервые осознает, как много значат книги, стихи. Открывает для себя Гёте. Никогда прежде она не читала так много и с таким увлечением.
«Она не говорила об этом, но порою думала, что для того-то и заболела. (Большая часть стихотворных строк, которые ты знаешь наизусть, запомнилась Нелли как раз в те годы. „Из ароматов утра соткан и из света / Покров поэзии — дар истины поэту“»[34].
Эти строки Гёте могли бы стать эпиграфом к всему творчеству Кристы Вольф.
[…] История детства и юности Нелли в Третьем рейхе, в войну и после войны — одновременно история настоящего и вечная драма взаимопонимания и непонимания родителей и детей, старших и младших и вечно нового столкновения Я и Мы.
Генрих Бёлль писал об автобиографии писателя Манеса Шпербера, которому тоже пришлось ребенком покинуть родину:
«[…] это вечная дилемма меж историчностью и безысторичностью: поселиться в том и в другом невозможно, время не родина, и все же мы знаем, что современность, наблюдение и претерпевание времени есть наше единственное местожительство, нетерпение в настоящем, которого словно бы и нет, суть которого словно бы мимолетность: мимолетные, в поисках родины, на этой земле и в это время, недоверчивые к будущему, куда постоянно подталкивает нас секундная стрелка».
Это тоже могло бы стать эпиграфом к «Образам детства». Криста Вольф пишет решительно, спонтанно — так непосредственно и так естественно, как человек дышит. И все же всегда раздумчиво, всегда осознанно — зная, почему и для чего она это делает. […]
Но она сознает также, какими возможностями располагает современный писатель: «Для психики современного человека такая ситуация является обыденной: он ощущает относительность времени, на какой-то срок перестает воспринимать его как нечто объективное и делает вывод, что мгновение может растягиваться чуть ли не до бесконечности и что оно чревато огромным количеством многослойных возможностей переживания, тогда как пять минут продолжают оставаться все теми же скромными пятью минутами»[35].
Главное условие договора, который Фауст заключил с чертом: не пожелать, чтобы мгновение повременило, — Сергей Эйзенштейн назвал «центральной проблемой искусства и всей творческой деятельности человека XX столетия» […]. Криста Вольф признает, что мгновение бесконечно растяжимо. Притчу, какую Гёте разыгрывает в «горных ущельях» неземной, небесной сферы, она дерзает вновь разыграть здесь, на земле, в новом количестве и многослойности, не обещая разрешения. Но и для ее «расчетливости», а равно и для ее «безрассудности» справедливы те же силы, какие призывал Гёте: те, что «…одушевляются любовью, которая их создала», и «вечная женственность»[36].
В «Образах детства» прошлое неотделимо от настоящего, личная судьба — от судьбы народа, будничное — от сущностного, трудное развитие индивидуального самосознания — от драматической истории общественного сознания, и относится это не только к обществам, в каких жила и живет писательница.
Криста Вольф знает: «Чем ближе нам человек, тем труднее, кажется, вынести о нем окончательное суждение, это общеизвестно».
Великий русский мыслитель нашего столетия, Михаил Бахтин, исследовал поэтику Достоевского и при этом признал: «Живого человека нельзя в его отсутствие делать молчаливым объектом окончательного познания. В человеке всегда есть что-то, что может объяснить только он в свободном акте самопознания и речи […]». [Курсив оригинала. — Л.К.]
Макс Фриш видит в этой закономерности основу подлинного искусства, развитие первой библейской заповеди: «Сказано: не делай себе кумира из Бога. В этом смысле должно бы также сказать: Бога как живого в каждом человеке, того, что непостижно».
Потому и для меня невозможно сказать что-то окончательное, завершающее о писательнице, которую я уважаю и которой восхищаюсь, и о книге, которая стала для меня близким другом.
Тем не менее попытаюсь объяснить, что, собственно, так притягивает меня в этой книге. Что можно определить как основной тон ее полифонии, как важнейшую роль ее многомерного драматизма?
Русского читателя она впечатляет также близостью традициям русской автобиографической и исповедальной эпики, напоминая книги Александра Герцена, Льва Толстого, Владимира Короленко, Максима Горького.
«Образы детства», поэтический и правдивый документ прошлого, есть в такой же мере книга настоящего, как и будущего, ибо связи между вчера, сегодня и завтра — часть жизни всякого человека и всякого народа, озабоченного своим будущим.
- Былое жаром обдает,
- Его касайся осторожно.
- Оно докажет непреложно,
- Что наше время тоже жжет[37].
В тяжкое время своей жизни Нелли Йордан открывает для себя поэзию Гёте. Эта поэзия стала одним из источников творчества Кристы Вольф. В «Образах детства» отчетливее, чем в других ее книгах, замечаешь, что Гёте, наверно, значит для нее больше любого другого из ее литературных образцов или учителей — от Генриха Кляйста до Анны Зегерс. Конечно, она не пытается подражать Гёте, прямо следовать ему. Но как в ее четко осознанном, философски обобщающем мировоззрении, так и в непосредственно художественном поэтическом мироощущении проступают вечно юные гётевские качества: жажда знания и способность вновь и вновь удивляться многообразию мира. «Я, и сам как мир меняясь, к изумленью призван здесь»[38].
Гётевская у нее и искренность, неукоснительная верность правде. «Все законы и нравственные правила можно свести к одному — к правде». — «Вредная правда, тебя предпочту я полезным обманам. Правда врачует печаль, что возбудила сама»[39].
Криста Вольф способна воспринять даже тончайшие нюансы душевных движений, невысказанные и не додуманные до конца мысли — свои и чужие — и точнейшим образом рассказать о воспринятом, со всеми подробностями. Порой она напоминает Льва Толстого, его стремление к беспощадной правде в изображении и в самоанализе. Но прежде всего она самобытна, самостоятельна, во всем, что и как пишет.
В последней главе романа она повторяет вопрос — первую строку эпиграфа: «Где мальчик, которым я был?»:
«Девочка, что пряталась во мне, — вышла ли она наружу? Или, вспугнутая, отыскала себе еще более глубокое и недоступное укрытие? Сделала ли память свое дело? Или она ушла на то, чтобы обманом доказать, будто нельзя избегнуть смертного греха нашего времени, а грех этот есть нежелание познать себя».
Она не пытается ответить на эти вопросы. Это непозволительно и невозможно. Ее честно признанная неуверенность существенна для правдивости, для «открытости» книги. Она побуждает читателя размышлять и думать дальше, участвовать в мыслительных процессах автора и ее личности. Но читателю позволено и возможно попытаться ответить: Да, ребенок жив! Да, память исполнила свой долг!
Девочка не могла исчезнуть. Неисчерпаемая, детски наивная непосредственность столь же присуща писательнице, как и ее взрослая, спонтанно-эмоциональная и одновременно осознанно рефлексирующая материнская любовь — и вся эта «вечная женственность». Роман посвящен дочерям автора. Одна из дочерей участвовала в поездке. Ее суждения, ее понимание и непонимание, ее пронизанные печалью, насмешкой и гневом наблюдения, ее справедливые и несправедливые оценки образуют один из полюсов напряженности, одно из измерений романа, одну из все новых «разверзающихся бездн».
В одной из дискуссий по поводу своей книги Криста Вольф очень четко определила, почему и зачем хотела ее написать: «[…] возникновение страха одна из центральных проблем этой книги. […] „Целая глава страха…“ — […] все те страхи, что ужаснейшим образом были нам внушены. Например, страх перед другими народами. „Русский“ в качестве фигуры устрашения — как это вообще было возможно, как этого добились? И еще: каким способом истребляются такие вот конкретные страхи. Страх перед людьми — народами, группами — исчезает, когда с ними знакомишься. […] Отчего столь многие у нас лишь со страхом восстают против авторитетов, отчего им так трудно явить „храбрость пред лицом тиранов“?[40] Ведь есть же причины. Потому я и считаю, что это книга о современности, ибо она пытается заодно рассказать, что было прежде, до того как люди стали вести себя так, как сейчас. […]
[…] литература… по-моему, она воздействует сильно, но таким подспудным образом, что измерить ее влияние весьма трудно.
[…] как мы стали такими, каковы мы есть? Вот к чему я, собственно, и пытаюсь подойти поближе. […] Ведь, по-моему, многое из того, что наше поколение делает сейчас или не делает, еще связано с детством»[41].
«Образы детства» — образец многомерной поэтической правды, рассказанной и воссозданной искренней, мудрой и печальной женщиной, которая воплощает в своем творчестве животворящее противоречивое единство: она одновременно ребенок и мать, писательница и философ. Детскость и женственность не отрицают, а усиливают зрелость и «андрогинную» мудрость исторической философии автора. Субъективная художественная правда ее изображения, ее языка, ее чувств и ее мыслей определяет объективную историческую правду и — vice versa — определяется ею. Самопознание писательницы есть одновременно познание прошлого и настоящего ее родины.
Восьмая поездка. 1981 г. В Москву, 1–5 декабря 1981 г.
* * *
1–5 дек. — поездка в Москву. Перед тем грипп, из-за чего пришлось отложить отъезд еще на день: может быть, просто сдвинутый в телесное знак моих внутренних колебаний. Расплата: ночь в аэропорту — Москва обледенела и не принимала рейсы. Хотя это было известно с 7 утра, наш самолет, Ту-144, вечером около половины шестого, хотя и с опозданием, прошел таможенный досмотр (в 17.55 он должен был взлететь). Шок, когда, войдя в транзитное помещение (лучше сказать: в транзитные помещения), мы обнаружили там сотни ожидающих, некоторые сидели уже 12 часов. Временами обращения к определенным рейсам — приглашения «в закусочную»: там выстраивалось тогда человек 200, чтобы получить поднос со стейком, картофелем и бутылочкой колы или пива. Наш самолет не кормили, в том числе и когда Игорь, представитель «Аэрофлота», «указал», что надо это сделать: зато дважды вызвали другой рейс. Вообще поведение Игоря: великая держава обращается к взбудораженным колониальным народам. Кульминация: некий молодой человек пожелал узнать, как он проведет ночь. Какую ночь? — несколько раз бесстрастно переспросил Игорь. Разве он сидит под дождем и на ветру? Дважды получил питание, так? Ну вот. Он вправду не понимал или хотел продемонстрировать, что наши бо-бо даже до лап русского медведя не достигают? Так все и было, главное впечатление: индивид стоит немного.
Герхард Вольф о восьмой поездке
Об этой короткой поездке, состоявшейся в первую очередь для того, чтобы прояснить, как в дальнейшем будет обстоять с переводами книг Кристы Вольф, записи, к сожалению, отсутствуют. Пометки в календаре Кристы свидетельствуют, что в аэропорту нас встретила Лидия Герасимова, что поселились мы в гостинице «Советская» и хотели повидать прежде всего друзей и переводчиков. В Институте иностранных языков им. Мориса Тореза Криста читала свое эссе «Уроки чтения и письма», вышедшее по-русски еще 1979-м в томе «Избранное» наряду с «Расколотым небом», «Размышлениями о Кристе Т.» и такими рассказами, как «Июньский вечер», «Унтер-ден-Линден» и др. В издательстве «Радуга» мы имели продолжительную беседу с проф. Александром Гугниным (р. 1941). Речь шла о публикации перевода «Образов детства», которую он был вынужден отклонить, поскольку Красная армия — «единственно прочное, что у нас есть», — показана там неподобающим образом.
Вечером 2 декабря мы встретились с Ириной Лазаревой на квартире Евгении (Жени) Кацевой (1920–2005), которая уже много лет занималась Францем Кафкой, Максом Фришем и другими немецкоязычными авторами XX века, переводила их и боролась за них. В этом смысле она стала для нас важнейшим партнером, и мы дружили с ней вплоть до ее смерти. Женя и после воссоединения часто выступала с Кристой на чтениях и беседах, однажды на диспуте с Эгоном Баром в Вилли-Брандт-хаусе в Берлине.
4 декабря Криста Вольф, при посредничестве посольства ГДР, выступила перед приблизительно 30 гостями немецкого отдела СЭВ (Совета экономической взаимопомощи); после обеда мы побывали в редакции «Иностранной литературы», вместе с переводчиками Альбертом Карельским (1936–1993) и Михаилом Рудницким (р. 1945) и опять же Тамарой Мотылевой, явно главным критиком по части немецкой литературы.
По весьма удачному стечению обстоятельств на сей раз мы встретились в Москве с Ральфом Шрёдером (1927–2001), славистом, которому обязаны не только знакомством с «Мастером и Маргаритой» Михаила Булгакова (рус. 1966/67, нем. пер. 1968), романом, какой Криста Вольф ценила больше всех русских книг. Шрёдер привез замечательному переводчику на немецкий, Томасу Решке, нецензурированное, еще не опубликованное в Москве издание этой книги. Шрёдер дружил с Юрием Трифоновым и Владимиром Тендряковым (1923–1984), на дачу к которому мы ездили в тот день, чтобы с ним познакомиться. Тендряков, как он нам сказал, писал проект программы реформ для Юрия Андропова, тогдашнего шефа секретной службы, а позднее генерального секретаря КПСС. Ральф Шрёдер, который, проведя как «троцкист» много лет в заключении, сотрудничал с госбезопасностью ГДР, писал о «Жизни Клима Самгина» Горького и переправлял в Берлин новые тексты, например Трифонова, зачастую еще до их публикации в Москве, чтобы выступить в их поддержку. В итоге это ему удавалось, как в случае Тендрякова и «Белого парохода» Чингиза Айтматова, не только с переводами, но и с ловко сформулированными послесловиями; они позволили опубликовать в ГДР книги, о которых в Советском Союзе велись критические дискуссии.
Ральф Шрёдер с Юрием Трифоновым в издательстве «Фольк унд вельт». Середина 70-х гг.
Девятая поездка. 1987 г. В Москву и Ригу, 5–25 июня 1987 г.
* * *
Из Москвы вернулась с бронхитом, отсюда лишь вялый разбор почтовых завалов, лишь нерешительное и вялое начало работы. Приходилось принимать бурлецитиновую микстуру.
Последствие Москвы: нерешительная надежда. Надо бы воспроизвести итог поездки в голосах и в лицах. Высказывания: Если все-таки снова откат назад, будет хуже прежнего. Необратимо ли это — я не знаю. Но это последний шанс. — Для писателей и публицистов теперь хорошее время — другие пока от перестройки мало что замечают. — Сверху и снизу хотят перестройки — но в промежутке толстый ватный слой. Поборись-ка с ватой! — Вдруг оказывается, все было плохо, но ведь это была наша жизнь. Что же, все выбросить?! (Лидия). — То, чего хочет Горбачев, конечно, разумно. Но сумеет ли он пробиться. — Мы, тридцатилетние, отпадаем. Нас слишком часто обманывали (Таня Ст.). — Городское партийное руководство в Москве с Ельциным сидит как в крепости, осажденное областным руководством (Рудницкий). — Все на нас валится разом — будто открыли форточку и теперь сыплют на нас все до сих пор скрытые истины. — Раз ничего уже не запрещено, все вылезает на поверхность: собрание, и народ думает: как все теперь замечательно. На следующем содрогается: в какой я, собственно, стране? (Намек на «Память» [радикально-националистическая группировка с 1987 г.] и ее антисемитизм: во всем виноваты сионисты и масоны!) — На пленуме Московского союза Бондарев говорит: На нас идут культурварвары, хотят разрушить нашу древнюю русскую культуру. Мы в ситуации 43-го года: если вскоре не случится Сталинград, мы погибли. — Еще кто-то обвинил новых главных редакторов, которые печатают теперь давно запрещенные рукописи, в «некрофилии». Против этого протест на собрании Союза. Телеграмма Лихачева: 1. Некрофилия — бессмыслица. 2. Наша главная задача — покаяться.
В Союзе поляризация, силы посредственности, опасающиеся за свои доходы, бросаются на сторону реакции. Карпов, ставший председателем, по-настоящему не писатель, но, пожалуй, «честный человек». Союз в целом весьма консервативен. «Зато у нас есть хорошие главные редакторы». Один из них: Бакланов. Обед с ним в клубе. Оставляет впечатление человека усталого и заработавшегося, ироничного, решительного без иллюзий и восторгов: в этом отличие здешней перестройки от тогдашней пражской. А еще в том, что она идет сверху: можно ли декретом назначить демократическую позицию? Тревожит мысль, что все это может оказаться слишком поздно. Что 70-летнее угнетение живых сил убило слишком многое, чего уже не оживишь. Неопределенная позиция молодежи. Лямку тянут 55–65-летние. Пока, разумеется, совершенно без ответа вопрос о смысле жизни: поиски до сих пор идут в религиозном русле — например, в грузинском фильме «Покаяние».
Говорят даже об Афганистане — в фильме «Легко ли быть молодым?», сделанном в Риге. Потрясающие картины отсутствия перспектив у молодежи — которое, конечно, одним только изменением экономических структур не устранишь. В целом: банкротство прежней формы социализма. «Болото», «маразм», так говорят. Нынешние 50–60-летние знают, что уже не увидят плодов «нового». Женя: «Если все останется, как сейчас, я уже довольна».
Возникают огромные дискуссии вокруг проекта памятника Великой Отечественной войне на окраине Москвы.
В Риге: цветы жертвам сталинизма у статуи Свободы в центре города.
Маленькая квартирка Нины Федоровой, переводчицы моих «Образов детства», на окраине Москвы. Год назад у нее умер муж. Ее лицо, потухшее изнутри. Сын, который после двух курсов медицинского института должен идти в армию. Страх матерей, что сыновья попадут в Афганистан. На защите младшего сына Карельского мать, потерявшая в Афганистане сына, произнесла патриотическую речь…
Гостиница «Россия» как кафкианская система. Целый спектакль, если хочешь там поесть, но не принадлежишь к «группе». Остров зажиточности, непристойно. Огромные автобусы, привозящие и увозящие американцев, западных немцев, англичан, итальянцев.
Однажды в ресторане, большой стол с пожилыми людьми (русскими), все крестьянского вида, грудь в орденах, явно отмечали годовщину начала гитлеровского нападения на СССР: Как они относятся к перестройке? Вообще замечают ее? Она вообще вышла за пределы Москвы?
Единственный исконный работяга, мостящий Красную площадь.
По-прежнему сложности в торговой системе.
Приходишь в гости, всё есть — за большие деньги куплено на колхозных рынках.
Очереди в винные магазины, где торговля начинается с 14 часов.
Радость, когда приносишь вино (из магазина «Березка»).
Процессия к Новодевичьему кладбищу воскресным утром.
Отличный спальный вагон первого класса в Ригу.
Переводчица Таня, которая далеко не сразу признается, что «замужем за нашим соотечественником» и сейчас с ним разводится. Как многие девушки, не может расстаться с родителями.
Отсталость в сексуальных вопросах (никакого просвещения детей на сей счет!), таблетки принимают редко, много абортов. Все отыгрывается на женщинах, которые терпят свою судьбу…
Огромные дискуссии между нашими друзьями, евреями и неевреями, об истоках антисемитизма в народе. Наконец выясняется: простые люди думают, что революцию устроили евреи…
Полная летаргия у Стеженских, которые больше ни на что не надеются: только усталость. Живут в своей квартире с семьей младшей дочери. Ирина сходит с ума…
Браки дочерей большей частью складываются неудачно, похоже, поколение, не очень-то приспособленное к жизни («приобретенная беспомощность»).
Тщетная попытка попасть в музей Маяковского.
В гостиницах тоже больше нет давних толстух-дежурных: довольно молодые женщины, некоторые немного говорят по-английски.
Уход от требований взросления в более детские фазы.
Одни ввиду потока «гласности» говорят: «Я уже сыт по горло…» Другие по пять часов в день читают газеты и журналы.
Педагогика, медицина, юстиция тоже не остаются в стороне.
Всеобщая амнистия по случаю 70-летия Октябрьской революции.
Арбат: пешеходная зона. Уличные художники-портретисты. Молодые ребята исполняют брейк-данс на импровизированной сцене. Милиция медленно проезжает мимо.
Многие, кажется, все-таки догадываются: это последний шанс. Как они боялись за Горбачева, когда он уезжал в Индию.
Кое-где начинают смещать руководство.
Отрицательное отношение к эмигрантам. Ст. [Стеженский] подозревает Коп. [Копелева] в работе на КГБ…
Рига. Странная смесь знакомого и чужого, а еще печаль: немецкий город без немцев. В Латвии 2 млн жителей, вероятно, половина из них — русские. Весь город в цветах, мы приехали к празднику Лиго, летнему солнцестоянию. Девушкам, которых называют Лигами, дарят березку, на следующий день юношам, которых называют Янисами, — дубовый венок. Букеты луговых цветов, маргаритки, травы, васильки. Рынок. Бывшие эллинги для цеппелинов. Старый город (масса польских ресторанчиков). Вид с колокольни церкви Петра. Памятники. Крестьянский музей под открытым небом. История совсем рядом, рукой подать. Рукописи Бёлендорфа в Центральном архиве. Поездка в Юрмалу на побережье Балтики. Широкий песчаный пляж. Писательский дом отдыха: огромный. Продолжение праздника с коньяком на веранде у [ххх], где я наверняка простужусь. Ему предложили открыть частное издательство. Даже он, скептик, надеется, что перестройка необратима. Один его сын — милиционер. Второй — кинорежиссер. Лосось. Медовуха.
Хёпке на коктейле в посольстве (оно переехало в похожее на крепость представительское здание на окраине города). В издательстве «Радуга»: любезно, на русском языке, вполне на стороне перестройки.
Также и Гугнин, который когда-то объяснял мне, почему «Образы детства» нельзя у них опубликовать… Рудницкий: «Ты очень изменился!»
Спор переводчиков о названиях моих книг. Нерасположение к Каринцевой, переводчице «Аварии».
У страны словно вынули душу. Русские в поисках своей души — на Западе сказали бы: своей идентичности. Таков глубинный исторический процесс под перестройкой. Если опять останется только прагматизм, ничего не выйдет.
В самолете на пути сюда, в предвкушении книги Вирджинии Вулф «Волны», у меня возникла идея касательно «Летнего этюда»: десятью годами позже некоторые из встречающихся в тексте персонажей обеспечивают дополнение: «Голоса». Высказываются по поводу лета десятилетней давности.
Сон, в Риге: властелин, которого я во сне называю «сатрап», облаченный в роскошные одежды, возлежит на роскошных подушках и, смотря по настроению, все время меняет одежды. Когда он влюбляется, в смуглую женщину с прической на пробор, которую я вижу как тень на заднем плане, он велит менять ему одежды в соответствии с постоянно меняющимися любовными настроениями — и, хочешь не хочешь, признает, что это невозможно. Тогда он сбрасывает все свои покрывала и одежды, а при этом кричит: «Почему я должен защищаться одеждами от себя самого?»
Статуя Свободы в Риге
Герхард Вольф о девятой поездке
Календарь Кристы Вольф наряду с ее итоговыми записками фиксирует ежедневные встречи. В Москве, где нас принимали тамошний Союз писателей и Криста Тешнер, атташе по культуре посольства ГДР, мы впервые побывали на коктейле в новом здании посольства.
В последующие дни мы встречались прежде всего с переводчиками Михаилом Рудницким и Инной Каринцевой (1920–1994) в редакции «Иностранной литературы», обсуждали в издательстве «Радуга» повесть Кристы Вольф «Авария» и дали интервью журналу «Вопросы литературы». В Министерстве иностранных дел отвечали сотрудникам на вопросы по современной немецкой литературе, а в Библиотеке иностранной литературы им. Рудомино у Кристы состоялись чтения. Григорий Бакланов (1923–2009) из журнала «Знамя» во время нашего с ним обеда сообщил о будущей публикации перевода «Образов детства», который был напечатан в № 6–9 за 1989 г. и в том же году вышел отдельным книжным изданием. Мы разговаривали с Владимиром Стеженским, Женей Кацевой, Тамарой Мотылевой и находились под огромным впечатлением от символически антисталинистского фильма «Покаяние» (1984/87) грузинского режиссера Тенгиза Абуладзе. Ожесточенные конфликты, которые — вызванные горбачевской перестройкой — прокатились в обществе, нас очень занимают.
22 июня мы поехали в Ригу, где нас принимал германист и литературовед Юрис Кастыньш (р. 1946); он показал нам прежде всего достопримечательности красивого старинного ганзейского города. Я знал об оригинальных рукописях Казимира Ульриха Бёлендорффа (1775–1825), хранящихся в Литературном музее Риги, и теперь мог их увидеть. В моей книге «Бедный Гёльдерлин» (1972) я цитировал их косвенно, через одну из биографий.
Состоялась пресс-конференция для журналистов и германистов; с писателями мы поехали в писательский дом отдыха на Балтике, а 25 июня через Москву вернулись самолетом в Берлин.
Переводчики Альберт Карельский и Нина Федорова, в центре Евгения (Женя) Кацева
На следующий год после этой поездки документалист Карлхайнц Мунд запланировал телепередачу о Москве, где участвовали и переводчики Кристы Вольф Женя Кацева, Альберт Карельский и Нина Федорова. Отрывки тогдашних записей воспроизведены ниже.
Отрывки из беседы переводчиков Нины Федоровой и Альберта Карельского с Евгенией (Женей) Кацевой (1988)
КАЦЕВА. Каждый из нас определенным образом связан с Кристой Вольф, и у каждого к ней свое отношение. Нина Федорова, германист и редактор издательства «Радуга», связана с Кристой Вольф благодаря переводу самого крупного ее произведения — «Образов детства». Профессор Карельский в последнее время переводил произведения, связанные с романтизмом, и писал о них. Хотя я довольно давно знакома с Кристой Вольф — не дерзну сказать: дружу, — до сих пор я лишь чуточку играла роль серого кардинала, так как недавно составила книгу для серии «Художественная публицистика»[42], с «Франкфуртскими лекциями» и другими текстами.
КАРЕЛЬСКИЙ. […] Я с большим интересом прочитал оба эссе о романтиках, о Каролине и Беттине, и, разумеется, повесть «Нет места. Нигде». Мой интерес обусловлен тем, что я читаю в университете лекции о немецком романтизме, и, когда мне предложили перевести эти эссе на русский, я сразу же согласился. Меня завораживает то, как Криста Вольф воспринимает и трактует романтизм… в ее эссе романтизм жив, это не давняя история двухсотлетней давности, но наша современная история […]. В ГДР до сих пор много говорили о классике, о Гёте, Шиллере, а романтизм оставался на заднем плане… Но что романтизм так современен, что он затрагивает самое живое в современности, открыла в ГДР, по-моему, писательница Криста Вольф, а не литературоведы.
ФЕДОРОВА. …Когда я прочитала книгу «Образы детства», я сразу подумала о том, о чем мы думали десятки лет, но не могли говорить. Это проблема сталинских репрессий, проблема насилия при коллективизации и проблема войны. Все они находят свое место в этой книге.
Книга — мозаика, однако в итоге она складывается в целостность, в полную картину мира, увиденную как глазами взрослой женщины, так и глазами юного существа. И все это сплавляется воедино. Неслучайно она говорит в этой книге: когда ТЫ и ОНА совпадают в одном Я. Эти проблемы много значат для нас, для меня лично: быть может, о них рассказывается с другой точки зрения, с точки зрения немки, но это проблемы общечеловеческие. Когда Криста Вольф, например, пишет о концлагерях, о которых позднее никто якобы знать не знал, хотя газеты писали, что такого-то числа был открыт лагерь Дахау, — ведь и у нас было так же. Я не имею в виду конкретные вещи. Но саму историю, ведь было множество проблем, которые вытеснялись, все о них знали, но говорить не могли, хотели забыть, сделать вид, что их не существует. Теперь наконец-то пришло время, когда о них можно говорить, и я снова и снова вспоминаю те страницы книги, где Криста Вольф пишет о московском друге, которого уже нет в живых, профессоре-историке, который в письме написал ей, что настанет время, когда можно будет говорить обо всем, только вот он до этого времени не доживет.
Нет, книга ни в коей мере не дидактична. И перевести ее на русский было нелегко. Коротенькие юмористические эпизоды детства, истории с братом, подружками, матерью… они совершенно реалистичны, выхвачены из жизни. И каждый пережил нечто подобное. А рядом чисто философские проблемы — проблемы современности, человеческой памяти, воспоминаний, как справляются с этими воспоминаниями не только победители, но и побежденные.
КАЦЕВА. У нее есть все, все краски и оттенки: ирония, самоирония, все есть… Юмор совершенно своеобразный, даже в «Аварии» присутствует юмор […].