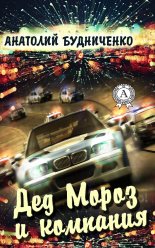Будущее глазами одного из самых влиятельных инвесторов в мире. Почему Азия станет доминировать, у России есть хорошие шансы, а Европа и Америка продолжат падение Роджерс Джим
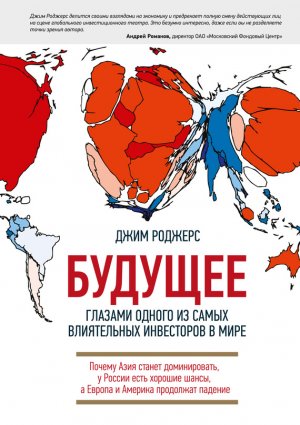
– Я слышал, то ли ты уволился, то ли тебя уволили?
– Я сам ушел, – ответил я. – И больше не буду работать вообще, если не случится чего-то необычного.
Время может разрушить даже самую близкую дружбу: внезапно прошли десять лет, потом тридцать лет – и мы с Бертоном Маклином потеряли связь. Но тот звонок я помню до сих пор. Я мысленно представляю себе, как он смотрит из окна своего дома на четверых детей и машину, причем за все это ему до сих пор надо платить, и думает, как и какой ценой он мог бы уйти с работы в тридцать семь лет…
И тогда я понял, как мне повезло, что я нашел дело, которым мог заниматься, не отвлекаясь.
Глава 5. Мотоциклист-инвестор
Первый мотоцикл я купил в 1969 году, сразу после начала работы на Уолл-стрит и первого развода. Это был мотоцикл не для кругосветного путешествия, а обычный BMW с двигателем 250 кубических сантиметров, которому для этой цели явно не хватило бы мощности. Частью истории этот мотоцикл не стал, хотя на нем мне удалось поучаствовать в важном событии в истории американской контркультуры.
Летом 1969 года я неоднократно слышал анонсы «Трех дней мира и музыки» – фестиваля, который должен был состояться в Вудстоке, но не очень заинтересовался и билеты брать не стал. Но потом, когда я услышал по радио, что это событие происходит в горах Кэтскилл, то загорелся желанием все же разделить общее веселье. Я ушел с работы в пятницу, 15 августа, вскочил на мотоцикл и направился на фестиваль. К тому времени полиция уже понаставила везде барьеры, чтобы никто не смог проехать, и мне приходилось двигаться по задним дворам местных жителей. Одна женщина с криками выбежала из дома, справедливо ругая меня. И как раз через 300–400 метров у меня спустило колесо, так что, можно сказать, она отомстила. Впрочем, я сменил покрышку и поехал дальше.
Сцену отгородили невысоким забором, я подъехал на мотоцикле вплотную к нему. У всех стюардов были зеленые жилеты с белым логотипом Вудстока на спине – голубь, сидящий на грифе гитары. День выдался жаркий, и все повесили свои жилеты на ограждение. Я подполз под ограждение, надел один из жилетов и направился к сцене. К тому времени царил уже полный хаос, и любой, кто проявил бы какую-либо инициативу, мог унести что угодно откуда угодно.
Так что большую часть фестиваля я провел на сцене. Я сам испугался того, что сделал, и, чтобы не потерять своего места и особого статуса, решил ему соответствовать: когда кто-то пытался взобраться на сцену, я просил его отойти. Словом, я был хорошим стюардом.
У меня было лучшее зрительское место: я мог видеть все вблизи, к тому же меня кормили. Это было потрясающе. В то время никто не подозревал, что это крупное историческое событие, хотя собралось почти полмиллиона человек. Все мы думали только об одном: как здесь классно. Мы все получили удовольствие и разъехались по домам.
Музыка продолжалась до понедельника, 18 августа, но я уехал в Нью-Йорк днем в воскресенье, потому что ведь на следующий день нужно было попасть на работу. (Джимми Хендрикс вышел на сцену только утром в понедельник, так что его выступление я пропустил.)
На работе, конечно, все уже говорили о Вудстоке, в то время это была ключевая новость.
И тут я сообщил коллегам:
– А я там был.
Тут все посмотрели на меня как на прокаженного.
– Что?! Зачем ты вообще это сделал? Это же просто ужас!
Можно сказать, что это был один из моих первых опытов разрушения шаблонов на Уолл-стрит.
У меня до сих пор остался тот вудстокский жилет, и я иногда его извлекаю на свет Божий.Когда-нибудь я покажу его детям, хотя вряд ли он будет для них что-то значить. Возможно, они почитают о Вудстоке. Может быть, когда об этом заговорят их друзья, одна из моих дочек скажет: «Да, у меня папа работал там стюардом»…
КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ вряд ли заслуживает такого названия, если приходится пропустить Китай и территорию, в то время называвшуюся Советским Союзом. Поэтому большую часть времени и энергии между уходом с Уолл-стрит и отъездом в путешествие я потратил на то, чтобы получить разрешение на посещение обеих стран. В ожидании документов я вернулся к преподаванию.
Вскоре после моего ухода с Уолл-стрит я встретил на одной вечеринке Сэнди Бертона, декана Колумбийской школы бизнеса.
– Почему бы тебе не прочесть у нас курс? – предложил он.
Я ответил:
– Я не считаю, что школа бизнеса полезна, особенно для тех, кто действительно хочет заниматься бизнесом.
Я давно уже принял близко к сердцу совет, который в первый год карьеры дал мне старший партнер в Dominick & Dominick. Он говорил, что поступление в школу бизнеса для меня станет пустой тратой времени. Я считал, как и он, что никакого смысла в обучении нет: в то первое лето на Уолл-стрит я больше узнал о рынках за столом трейдера, чем усвоил бы за два года в любой школе бизнеса в стране.
– Мне преподавание не очень интересно, – сказал я декану, – и я не думаю, что справлюсь.
– Да ладно, – сказал он с улыбкой, – сделай это для меня.
Пока я отдыхал, то вознамерился научиться делать два дела: играть в теннис и сквош. Я жил недалеко от Колумбийского университета, где был прекрасный спортзал, но, кроме студентов, туда имели право ходить только выпускники, преподаватели и технический персонал. Исключение было сделано только для тех чужаков, которые пожертвовали кучу денег на строительство нового общежития. Поэтому вскоре после той вечеринки я позвонил декану и сказал:
– Вот что я решил. Я проведу один курс занятий, длиной в семестр, бесплатно. В обмен хочу пожизненный доступ в ваш спортзал.
Вскоре после этого декан перезвонил мне и, к моему удивлению, согласился.
Я преподавал на выпускном курсе как адъюнкт-профессор. При этом я не знал, чему учить, и вообще ни разу не был ни в одном учебном заведении последние шестнадцать лет. Средний возраст моих студентов составлял примерно двадцать шесть лет, в группе было около пятнадцати человек. Все уже имели опыт работы. И я сказал им: «Я буду преподавать вам эту дисциплину, как если бы вы работали на меня. Представьте, что я глава исследовательско-инвестиционного отдела в фонде, а вы должны стать моими аналитиками. Я буду давать вам компании для анализа и учить, как это делать».
Я рассказал, как сам научился анализировать. Раздал студентам таблицы. Я пригласил прийти глав пары крупных корпораций и задавал им вопросы, как если бы я был аналитиком, ходил к ним в офисы и задавал те же вопросы, которые задал бы, чтобы выяснить, стоит ли инвестировать в эту компанию. Потом я предоставлял право задавать вопросы студентам. После этого давалось задание – написать одну страницу (ни в коем случае не больше и ни в коем случае не позже указанного срока) о том, что студент сделал бы с акциями компании: покупал бы, продавал, продавал без покрытия или вообще ничего не делал.
Через несколько недель я предложил каждому студенту выбрать себе отрасль для анализа – по выбору, но с моего одобрения. Допустим, вы студент моей группы и решили стать аналитиком авиакомпаний. Мы разговаривали бы с вами перед всем классом, и вы должны были бы рассказать мне все, что думаете. Нужно было бы посоветовать мне, как лучше заработать в этой индустрии: купить Delta, продать Southwest без покрытия – все, что показало бы ваше исследование. Каждый должен был пройти три раунда. Так работала вся группа.
Сначала я сказал группе, что мы будем действовать по методу сократического диалога, но потом большинству пришлось пояснять, кто такой Сократ. Все говорили, что я очень требовательный преподаватель. Я нечасто ставил хорошие отметки и часто «заваливал» студентов, говоря при этом: «Послушайте, если я трачу свое время и прихожу сюда на несколько часов в неделю, самое меньшее, чего я ожидаю от вас, – что вы потратите свое время на то, чтобы мне тоже стало интересно». Все студенты жаловались, говоря, что ни одна дисциплина не была для них такой трудной и не требовала такой напряженной подготовки. Мне даже напомнили, что случилось с Сократом: его, как известно, отравили. Когда же в конце семестра студенты оценивали предметы и преподавателей, я сидел в деканате в ожидании худшего, но, прочитав их анкеты, даже прослезился: мои оценки оказались просто блестящими. Никто и никогда до того так хорошо обо мне не отзывался: «Для меня это лучший предмет… Сделайте что угодно, но пусть он вернется…» Я был вне себя от счастья: я гонял их, как лошадей, но они оценили это.
Работа оказалась очень интересной, намного интереснее, чем я ожидал, и я дал себе слово продолжать. Я вел занятия в течение четырех или пяти семестров. Преподавал и в 1987 году, во время обвала фондового рынка – в понедельник, 19 октября. Я предсказывал крах, но все же не такой катастрофический. Американский рынок упал более чем на 20 % за день. Я во всеуслышание заявлял, что рынок опережает сам себя, что он перегрет, и публично утверждал, что когда-нибудь работники Уолл-стрит проснутся утром и обнаружат, что рынок упал на 300 пунктов. Но случившееся оказалось еще более ошеломительным: фондовый рынок упал на 512 пунктов – крупнейший обвал акций за день в американской истории. И поскольку я, разумеется, играл против рынка, это был в каком-то смысле мой лучший день рождения.
Поскольку все знали, что я предсказывал обвал, вокруг моего имени в прессе поднялась шумиха. В моей аудитории появились съемочные группы. К доске объявлений школы прикололи вырезку из одной газетной статьи, где меня цитировали, но ее сорвал другой профессор. Он тоже преподавал анализ рынков и в преддверии кризиса повторял студентам: «Роджерс просто дурак, он не знает, о чем говорит, у него даже степени нет». Наверное, это был не лучший преподаватель.
НЕ ДУМАЮ, что многие американцы сейчас могут утверждать, что среднее образование в их стране лучшее в мире. Более того, многие согласны в том, что американское начальное и среднее образование просто безнадежно. Но при этом те же люди неустанно повторяют, что американское высшее образование не имеет аналогов во всем мире.
Возможно, раньше так и было.
Некогда в американских университетах преподавали выдающиеся педагоги, и лучшие из них дорастали до самого верха. Но тут возникает проблема тенуры[15], и преподавательское мастерство никогда не было решающим фактором в достижении этой цели. К тенуре ведут публикации, исследования, кампусная политика. В результате порой сам процесс преподавания рассматривается как отвлекающий фактор. Однажды какой-то профессор сказал мне: «Здесь прекрасно, вот только студентов слишком много».
Именно тенура делает университеты прибежищем для некомпетентных преподавателей. Самыми влиятельными в академических кругах становятся как раз сотрудники с постоянным контрактом: они занимаются исследованиями, ходят по библиотекам. Вряд ли многие из них признаются, но снующие вокруг студенты, которые то жалуются на оценки, то просят помощи, то подсовывают контрольные работы, рассматриваются как препятствие на пути настоящей работы профессора колледжа.
Нигде в мире нет такой профессии, в которой, проработав семь лет, можно получить пожизненную гарантию занятости. Только в университете. Будучи врачом или партнером в юридической фирме, все равно нужно давать результат. Если же вы к тридцати пяти добились тенуры в университете, больше можно не доказывать свою профессиональную пригодность: если только вы не сожжете университет или кого-нибудь не убьете, ваша работа останется при вас на всю жизнь. А работа профессора колледжа при таком подходе превращается во что-то вроде политического патронажа или способа отмывания денег. Когда я был ординарным профессором, то подсчитал, что в среднем мог бы выполнть свои рабочие обязанности за пять часов в неделю.
Тенура – относительно недавнее изобретение американской системы образования. И основание для нее, академическая свобода, в наши дни кажется несколько нелепым. Должен ли профессор бухгалтерского дела обладать тенурой, чтобы защищать в аудитории свои политические взгляды? А профессор физики? И что это за политические убеждения – об активах и пассивах, о воздействии гравитации на падающие тела? Профессорам, возможно, нужна защита друг от друга, но это вряд ли может служить оправданием для пожизненного рабочего контракта.
Тенура – один из тех аспектов, которые делают американское высшее образование одним из самых больших пузырей нашего времени. Сейчас обучение в Принстоне стоит 56 тысяч долларов в год, и это только стоимость обучения, проживания и питания. Сюда не входят ни цены на перелет к месту учебы, ни пиво. Итак, четверть миллиона за четырехлетнее обучение, и каждый год эта сумма растет. Скоро она будет в пятьдесят раз выше, чем стоило мне в 1964 году отправиться в Йель. Все колледжи Лиги плюща – Стэнфорд и другие – убеждают нас, что это справедливая цена за великолепное образование, похоже, весь мир и попался на эту приманку, как было и в случае с пузырем на рынке недвижимости. Для участия в очередном пузыре всегда есть «хорошие» основания и «солидное» подкрепление. Между тем через три-четыре года стоимость базового курса в Принстоне составит уже 65 тысяч долларов в год.
Я учился в двух таких колледжах: в Йеле и Оксфорде. Мне нравилось там все, это были прекрасные времена, которые меня сформировали. Но хорошее образование сейчас можно получить где угодно, и все это уже давно знают. То, что предлагают сегодня эти организации, – не более чем наклейка, бренд, ярлык. А когда наступают нелегкие времена, все меньше людей может позволить себе платить так много за такую малость.
Если бы Принстон позиционировал себя как азиатский университет, его аудитории действительно могли бы наполниться умными студентами-иностранцами, которые смогли бы за себя платить. В Оксфорде можно сформировать все группы из способных китайцев, и за всех них их семьи могут охотно и довольно легко выложить плату в полном объеме. Но если американский мальчишка хочет поступить в один из таких колледжей и берет на это ссуду, то, выходя из колледжа, он несет бремя нескольких сотен тысяч долларов долга, что вряд ли можно считать блестящим будущим, которое обещают колледжи, основываясь исключительно на громком имени. Кредиты на образование, согласно американским законам о банкротстве, не списываются. В США, если вы обанкротились, можно списать почти что угодно, кроме того самого кредита на образование, который, по всей вероятности, и подтолкнул вас изначально к банкротству.
Поскольку на Западе, судя по всему, продолжается кризис, найти студентов этим вузам становится все сложнее. Расходы растут, образовательные учреждения продолжают вздувать цены, и в итоге все больше американцев не сможет оплатить обучение, а иностранные студенты найдут себе университеты поближе к дому и с лучшей репутацией. Если посмотреть на рейтинг университетов, публикующийся в течение последних двадцати лет, можно увидеть, что туда впервые вошли некоторые азиатские университеты, предоставляющие отличное образование. Наступает конкуренция.
Кроме того, технологии существенно облегчают жизнь современных студентов. Зачем вставать к восьми утра и тащиться на занятия по испанскому три раза в неделю, когда можно учиться эффективнее и по собственному графику с помощью компьютера? Действительно ли Америка нуждается в тридцати тысячах дорогостоящих преподавателях испанского на тенурах? Действительно ли профессор испанского в Принстоне научит вас испанскому лучше, чем кто-либо другой? Конечно, вы сможете освоить язык гораздо быстрее, возможно, лучше и уж точно на порядок дешевле с помощью онлайн-курсов. То же самое относится к бухгалтерскому учету, физике, математическому анализу. Все, что нужно, – это хороший учитель. Почему бы не найти одного очень талантливого профессора и не предложить ему читать курс через интернет? Почему бы не найти двух-трех отличных преподавателей, у которых могут учиться миллионы студентов, получая самое лучшее образование?
Для некоторых учебный заведений, возможно, уже слишком поздно. Несколько элитных американских университетов находятся сейчас на грани банкротства. Бремя расходов стало для них непосильным. Нельзя вести любой бизнес, если ведущие сотрудники работают всего пять, да пусть даже десять часов в неделю. Это неизбежно приведет к банкротству, особенно если отягощено такими прелестями, как тенура, когда никого нельзя уволить, даже тех, кто благодаря системе имеет право не ставить работу во главу угла. Добавим к этому, что университеты Лиги плюща традиционно перегружены персоналом, поскольку не хотят казаться грязными капиталистами, – и банкротство будет выглядеть уже благословением Божьим. Мы уже видели это на примере автомобильной промышленности: профсоюзы нажимают на автокомпании с требованием повысить зарплату, и те уступают, начиная просто раздавать прибыль. Это обанкротило в итоге всю индустрию.
Проблема обостряется тем, что этими учреждениями управляют ученые, а не менеджеры-профессионалы, и управляют плохо, так что спонсорские фонды уже не могут их спасти. Дело в том, что эти фонды во многом дутые: многие капиталовложения образовательных учреждений, сделанные за последние двадцать лет, оказались неликвидными; для ряда активов просто нет публичных рынков, будь то древесина, недвижимость или, что самое страшное, акции закрытых компаний.
В пузырях многим финансовым организациям принадлежат так называемые активы третьего уровня. Это такие активы, стоимость которых не более чем гипотетична, например краткосрочные субординированные заимствования. Их рыночная стоимость определяется с помощью «модели оценки справедливой стоимости». Если ваша компьютерная программа определила, что стоимость этой бумаги равна 96 долларам, вы так и пишете. Агентства Moody’s и Standard & Poor’s присваивают акциям рейтинг ААА, то есть они действительно стоят 96 долларам. Однако сейчас-то мы знаем, что все это по большей части ерунда. И такой ерунды в образовательных фондах очень много.
Гарвард, как и все элитные школы, самостоятельно не управляет большей частью этих денег: появляется какой-нибудь крутой парень с рынка прямых инвестиций, убеждает инвестировать в его фонд, и Гарвард дарит ему 100 миллионов. Он вкладывает их в новые предприятия или покупает компании, но так или иначе оценивает результаты на основе модели, и Гарвард доверяет его цифрам. Затем управляющий фонда испытывает искушение приподнять эти оценки, как это и сделали Fannie Mae и Citibank, да, впрочем, и все, кто использовал оценку на основе моделей. А Гарвард любит с гордостью принимать такие цифры.
И все они на бычьем рынке думали, что делают кучу денег. Они тратили, повышали зарплату сотрудникам. Гарвард даже купил большие участки земли в Бостоне, как и Йель. Они считали, что деньги есть, пора расширяться, можно быть щедрыми. А потом наружу выплыла правда, финансовый кризис, и многие из них стали залезать в долги – продавать облигации, спекулируя своими престижными названиями и оценками ААА, а рынок на это купился.
Сейчас некоторые университеты впервые в истории оказались в долгах. У них есть обязательства, по которым надо платить. В то же время многие управляющие активами покупали с маржей, увеличивая активы в долг, и это классический пример того, как компании и организации создают себе проблемы. Они берут в долг, и им говорят, что никаких проблем нет. Потом дела начинают идти плохо, потом еще хуже, и становится ясно, что теперь так будет всегда, что это серьезная проблема. И особенно для академических учреждений: они не могут урезать траты, ведь у них есть профсоюзы и преподаватели на тенуре.
Есть еще и обязательства, не входящие непосредственно в балансовую ведомость. Одно из самых абсурдных обязывает заведение платить за обучение в колледже детей любого сотрудника – не только профессора, – проработавшего в университете десять лет. Таким образом, сотрудник с тремя-четырьмя детьми – это будущие обязательства на миллион долларов. Инвестиционная деятельность может потребовать непрерывного потока расходов, который не найдет отражения в балансовом отчете: хорошо, если дела идут на лад, но когда администраторам требуются деньги и наступают черные дни, возникают проблемы. И подобных обязательств у каждого колледжа миллионы.
Некоторые руководители финансовых отделов этих университетов не отличаются особым умом. Такая же ситуация и в других фондах, например пенсионных. Многие государственные и муниципальные пенсионные программы давно банкроты. На следующем медвежьем рынке, когда он наступит (а наступит он явно скоро), все зайдет еще дальше. Мир будет в шоке, когда Гарвардский университет, Принстон или Стэнфорд обанкротятся, когда эти учреждения, существующие десятилетия, порой даже столетия, обнаружат, насколько все плохо у них с финансами.
Когда в 2008–2009 году случился большой кризис, учебные заведения столкнулись с необходимостью сокращения расходов. Раньше они просто брали, например, 5 % из фонда. Но внезапно в результате кризиса капитал фонда из 40-миллионного превращается в 24-миллионный и руководство начинает искать, на чем бы сэкономить. Но ведь они уже увеличили минимальные расходы, включили постоянные задолженности в балансовые отчеты, в результате чего погрязли в проблемах, и теперь могут только наделать еще больше долгов, потому что считают, что рынок вот-вот повернет вспять. Они уговаривают сами себя: у нас талантливые менеджеры, и они убеждают нас, что все будет в порядке.
Мы проходили это несколько раз. Все развивается по нисходящей спирали, и когда люди спохватываются, то бывает слишком поздно, как в случае с Lehman Brothers и Bear Stearns. Одно из преимуществ здесь, разумеется, состоит в том, что мы можем наконец-то разделаться с тенурой. Кроме того, поднимутся азиатские университеты, которые пока не испытывают таких проблем, как огромные зарплаты, огромные обязательства перед профсоюзами и по тенуре.
Один из наиболее характерных аспектов американского университетского образования переживет даже схлопывание нынешнего пузыря. Я говорю о возможности уехать из дома и учиться среди сотен и тысяч других молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. Спортивные команды, дискуссионные клубы, социализация – все это устоит, даже если большая часть университетской жизни будет проходить за компьютером в общежитии. Может быть, сохранятся даже лекционные аудитории, но лекции будут транслироваться через спутник. Библиотеки же исчезнут или будут переоборудованы под теннисные корты.
«Созидательное разрушение», вызванное развитием технологий в сочетании с абсурдной и неприемлемой финансовой структурой, даст жизнь совершенно новым способам и центрам образования, как мы уже видели в истории. Всеми давно забыты названия великих некогда университетов в Марокко, Тимбукту, Португалии, Италии, Азии… и этот список можно продолжать.
ПОКА я преподавал в Колумбийском университете, я получил от китайского правительства разрешение проехать на мотоцикле по территории Китая, что и сделал в 1988 году. Это нашло отражение в эпизоде документального сериала Travels («Путешествия») компании PBS под названием The Long Ride («Долгий путь»). После Китая я проехал пять тысяч миль по Пакистану и Индии.
Вернувшись домой из этого трехмесячного приключения, я получил от декана Колумбийской школы бизнеса предложение. Он заявлял, что предложение впечатляющее и от него невозможно отказаться. Я же понятия не имел, что такого университет мог бы мне предложить, чтобы я хотя бы заинтересовался.
– Мы собираемся, – сказал он, – сделать тебя ординарным профессором.
На Морнингсайд-Хайтс[16] и в кампусах колледжей это звучало громко. Академики проводят исследования, интригуют, спорят друг с другом, проводят всю жизнь в поисках возможности стать ординарным профессором. Мне вспомнилось наблюдение, которое последовательно приписывалось самым разным людям и восходит, в несколько другой форме, еще к Вудро Вильсону, но полную завершенность оно приобрело в законе Сейра (профессора политологии Колумбийского университета): «Борьба в академических кругах такая жестокая потому, что ставки слишком низкие».
Я занял предложенное место, но работал в университете всего год. Только я начал преподавать, как получил известие из Москвы: мне разрешили пробег по СССР. Теперь совершить кругосветное путешествие было возможно. Этого я и ждал, ради этого и работал почти десять лет.
Мне понравилось время, проведенное в Колумбийском университете. Вне колледжа я был очень занят и не так уж много вращался в преподавательской среде, зато тратил довольно много времени на то, чтобы помочь студентам вне аудиторных стен. Параллельно с преподаванием я вел на телевидении шоу «Погоня за прибылью с Джимом Роджерсом» на канале Financial News Network, где пять дней в неделю беседовал с гостями. FNN был первым каналом такого направления. Впоследствии его купила CNBC, что дало этой компании, по меньшей мере временно, монополию в данной отрасли.
Несколькими годами позже я был одним из ведущих передачи CNBC под названием «Мой портфель» вместе с финансовым журналистом Биллом Гриффитом. Это был все еще ранний этап эволюции финансовых телепрограмм, как, кстати, и в эволюции мобильных телефонов. Мы с Биллом вели передачу в прямом эфире, отвечали на звонки и давали комментарии, и однажды оба услышали, как раздался другой телефонный звонок.
– Это твой мобильный, – догадался Билл.
Я и не подумал отключить свой сотовый или, что было бы еще умнее, оставить его в гримерке перед выходом на сцену. Если этого недостаточно, чтобы понять, насколько малокомпетентным ведущим я был, то я добавлю, что я еще и ответил на звонок. Да, в прямом эфире.
Это была моя мама: она звонила просто узнать, как дела.
– Я только хотела проверить: ты же вроде болел.
Я сказал только:
– Мама, я сейчас не могу говорить, я сижу в телевизоре!
Да уж, я был великим тележурналистом!
Директор шоу, который был намного разумнее меня, быстро дал рекламу. Мне до сих пор припоминают эту историю…
ТОЛЬКО НА СВОЕМ пятом мотоцикле – BMW R100RT с объемом двигателя 1000 кубов, я сумел наконец осуществить свою мечту и отправиться в кругосветное путешествие. Когда русские прислали разрешение, я оставил работу и в университете, и на телевидении и вместе со своей девушкой Табитой Эстабрук, у которой был собственный BMW, собрался в путь летом 1990 года.
Мы с Табитой познакомились за пару лет до этого через мою давнюю подругу – ее маму. Она любила приключения больше, чем все мои знакомые девушки (я тогда еще не повстречал Пейдж Паркер). Табита проехала со мной на пассажирском месте по Пакистану и Индии. Она выросла на западе Манхэттена, недавно окончила колледж Амхерст, была на год младше меня (если мой возраст уменьшить наполовину!) и в то время распределяла гранты небольшого фонда в Нью-Йорке.
Отец Табиты, Ник, когда учился в Гарварде, провел как-то раз лето в Европе, колеся на тайно приобретенном BMW. Он так и не рассказал родителям о мотоцикле, который прятал в Европе. Тем не менее он твердо воспротивился тому, чтобы его дочь поехала на мотоцикле в кругосветное путешествие. Интересно, как бы отреагировал я, если бы с такой нелепой идеей ко мне обратились Хэппи или Бэби Би?
Мы с Табитой отправились из Ирландии в конце марта 1990 года, через Европу поехали в Центральную Азию, через Китай на восток, задержались в Японии, после чего направились назад, в Сибирь и европейскую часть России. После Польши мы вернулись в Ирландию, проехали через Западную Европу на юг, в Северную Африку, и оттуда наш маршрут лежал прямо в сердце континента. Из Южной Африки мы морем отправили мотоциклы в Австралию, а из Новой Зеландии – через Тихий океан в Аргентину, через Южную и Центральную Америку и Мексику, через все Соединенные Штаты в Нью-Йорк. Побыв там некоторое время, мы через США и Канаду поехали в Анкоридж на Аляску, а закончили свое путешествие в Северной Калифорнии, дома у моего приятеля по Йелю Лена Бейкера. Всего мы провели в дороге двадцать дв месяца, покрыли расстояние в более чем 160 тысяч километров – и попали в Книгу рекордов Гиннесса. Мы пересекли шесть континентов[17] и более пятидесяти государств.
Я обнаружил, что пересечение дальних границ страны позволяет наилучшим образом узнать всю ее подноготную. Оказавшись за границей, первое, что выясняешь, – надо ли давать взятки. Все ли здесь честно и прямо? Насколько эффективен бюрократический процесс? Можно ли управиться за десять минут, как и должно быть, или на переход границы придется потратить целый день? Кроме того, сразу получаешь представление о местной валюте, ведь первое, что делаешь после пересечения границы, – меняешь деньги. Конечно, официальные обменники есть везде, и я всегда менял там немного денег, потому что знаю, что деньги, приобретенные у правительства, не являются контрабандой, так что их можно использовать для сравнения с наличными, которые я собираюсь купить на черном рынке. А потом я нахожу черный рынок, если он в стране есть, – или скорее черный рынок находит меня.
Наличие черного рынка – неотъемлемая часть оценки страны. Вы сразу узнаете, есть ли он здесь вообще и, если да, насколько расходится его курс с официальным. Черный рынок – как измерение температуры. Если я ставлю вам градусник и оказывается, что температура есть, напрашивается вывод: что-то не так. Мы точно не знаем, что именно не так, но что-то точно идет не так, как надо. Если температура высокая, становится ясно, насколько все плохо. Черный рынок работает примерно так же: если он существует, вы не знаете, что именно не так, но сразу чуете неладное. А уж если на черном рынке существует большая премия, то есть расхождение между официальным и рыночным курсом валюты, то дела совсем плохи. Чтобы узнать побольше о стране, лучше поговорить не с главой ее правительства, а с дельцом с черного рынка.
И вот вы отъехали от границы – и тут же можете оценить состояние дорог. Есть ли фонари? Есть ли по дороге хорошие магазины или за них выдают какие-то сараи? Есть ли настоящие гостиницы или приходится довольствоваться тем, что есть? Таким образом можно многое узнать о стране, и часто увиденное может оказаться большой неожиданностью, каким бы умным себя ни считал путешественник.
Мы с Табитой отправились из Туниса и Алжира к центру Африки, и, когда доехали до границы Ботсваны, я сразу понял (ну, если не сразу, то в течение часа), что в этой стране, какова бы она ни была, нет ничего такого, что мы видели повсюду в других африканских государствах, да и в других местах: в России, Азии… Ни черного рынка, ни взяток – полная эффективность, хорошие шоссе, фонари, дорожные знаки, торговые центры, которые могли бы стоять в любом американском городке. А в столице нас ожидали гостиницы. До того мы уже долго не видели ничего подобного.
Уезжая из Нью-Йорка, я столкнулся с проблемой: что делать с инвестициями, пока меня не будет? К счастью, я оптимистично оценивал несколько секторов, которые не требовали ежедневного мониторинга, поэтому поместил большую часть капитала в акции коммунальных компаний, государственные облигации и иностранную валюту, по сути, оставив в ожидании путешествия деньги там, где они и лежали. В случае своей правоты я получил бы доход, но, ошибившись, не разорился бы. Я отказался от фьючерсных позиций. Путешествие никак не было связано с инвестициями, но я остаюсь собой в любом случае и вижу открывающиеся возможности. Я знал, что в Ботсване есть биржа, и тут же начал вкладывать. Я купил все акции, которые там были.
Только не подумайте, что я олигарх: листинг на Ботсванской фондовой бирже в то время прошли всего семь компаний. Я держал акции пять или шесть лет. Когда выпускались новые акции или же акциями выплачивались дивиденды, я прикупал еще. Ботсвана – очень большая страна с небольшим населением, но ей повезло иметь на своей территории одну из самых крупных алмазных шахт на Земле. Я продолжал инвестиции в Ботсвану примерно до 2007 или 2008 года, когда решил продать все, что у меня было, на развивающихся рынках, поскольку посчитал, что они слишком интенсивно используются. Между тем по всему миру сновали двести тысяч выпускников программы MBA в поисках нового перспективного рынка. А я тем временем продал Ботсвану, после восемнадцати лет больших доходов.
Мы с Табитой вернулись с конечного этапа турне в конце лета 1992 года. К тому времени я закончил писать книгу «Мотоциклист-инвестор» о нашем путешествии, а Табита поступила в университет по специальности «Международные отношения». В то время она была лучше подготовлена к преподаванию этого предмета, чем ее учителя, которые изучали его, не выходя из аудиторий. Что с нею сейчас, я не знаю.
Глава 6. Подъем рынка сырьевых товаров
На встрече с читателями в рамках кампании по продвижению книги «Мотоциклист-инвестор» в музее искусств Минт в городе Шарлотт, я встретил женщину, которая стала матерью моих детей. Ее звали Пейдж Паркер. Она была родом из Роки-Маунта, что в трехстах двадцати километрах от Шарлотта, и это лучшее, на мой взгляд, что вышло из этого города кроме музыки его уроженца Телониуса Монка[18]. Пейдж было двадцать семь лет, и она работала специалистом по привлечению спонсорских средств в Квинс-колледже Шарлотта. «Мотоциклиста-инвестора» она прочитала по рекомендации президента колледжа, который сообщил ей, что я собираюсь приехать в их город, и предложил прийти на встречу.
Я шел в аудиторию, а она стояла в дверях. Мы разговорились. Она сказала: «В жизни вы выглядите лучше, чем по телевизору» (при этом по телевизору она меня не видела), потом добавила: «Я всегда хотела поездить по Соединенным Штатам»… И когда я спросил, что ей мешает, она ответила: «У меня нет необходимых оборотных средств…», пользуясь соответствующей терминологией.
На следующий день, приехав домой, я позвонил ей.
– Приезжай на выходные в Нью-Йорк, – сказал я. – Сходим на балет.
– Только я буду жить не у тебя, а в гостинице.
Она уже бывала несколько раз в Нью-Йорке, и ей было известно, что это дорогой город и что на Манхэттене в основном живут в маленьких квартирах, так что когда я сказал, что в моей квартире так просторно, что мы могли бы там вообще не встретиться за все время ее приезда, она решила, что я либо сумасшедший, либо сознательно ее обманываю. Она настаивала на гостинице, за которую заплатит самостоятельно. И я согласился.
Мы сходили на балет – парижская труппа давала «Баядерку». Мне нравился балет, и Пейдж, к моему удовольствию, тоже его любила, к тому же большую часть жизни танцевала сама. От Линкольн-центра мы поднялись по Бродвею до моего таунхауса на Риверсайд-драйв с видом на Гудзон. Там я выкатил велосипед-тандем, и мы поехали в Центральный парк на ужин в кафе Boathouse. Я рассказал, что собираюсь на Хенлейскую регату, и пригласил ее с собой. Она согласилась, через несколько недель мы вместе отправились на регату… Дальнейшее известно. Если вы не влюбитесь на Хенлейской регате, сидя под солнцем на деревянных стульях, попивая шампанское и смакуя клубнику с взбитыми сливками, то вы не влюбитесь вообще.
Мы встречались чуть больше года, прежде чем Пейдж решила уйти с работы в Шарлотте и переехала в Нью-Йорк. Она сняла отдельную квартиру осенью 1997 года и стала работать директором маркетинговой компании. Я уже прочно был на крючке и через год сделал ей предложение. К тому времени я разрабатывал планы трехлетнего «путешествия тысячелетия», во время которого мы должны были объехать весь мир на машине – специально построенном полноприводном кабриолете «мерседес», наполовину покрыв расстояние, которое я проехал на мотоцикле. Я хотел нажиться на историческом моменте, держать руку на пульсе мировых событий в конце одного тысячелетия и начале следующего. Мы не собирались обсуждать свадебные планы (кто знает, где мы окажемся или захотим оказаться), но назначили дату церемонии на 1 января 2000 года.
Мы начали путешествие 1 января 1999 года в Исландии и проехали 116 стран, включая некоторые из тех, которые посещаются нечасто: Саудовскую Арави, Мьянму, Анголу, Судан, Конго, Восточный Тимор… Мы проезжали через джунгли, пустыни, зоны военных действий, эпидемий и метелей. Мы вставали лагерем рядом с кочевниками и верблюдами в Сахаре и потягивали пиво на сибирских пустошах с русскими рабочими и бандитами. Вместе с шестьюдесятью миллионами индуистов в Аллахабаде мы смывали свои грехи в Ганге во время Великой Кумбха-мелы[19], которая случается каждые 144 года. Мы ели шелковичных червей, игуан, змей, термитов, морских свинок, дикобразов, крокодилов и кузнечиков. И это было не только замечательное приключение, но и элемент самообразования, которым я непрерывно занимался всю свою жизнь.
На этот раз я решил проехать на юг по западному и на север по восточному побережью Африки, посетив при этом более тридцати стран. Из Африки через Аравию и Индийский субконтинент мы направились в Индокитай, Малайзию и Индонезию. За время путешествия мы оказались в зоне действия примерно половины из тридцати ведущихся гражданских войн. Пейдж планировала свадьбу по мобильному телефону и электронной почте за несколько месяцев до церемонии, пока мы проезжали по Сибири, Монголии и ряду европейских стран. Мы поженились во время смены тысячелетий[20], и церемония была сказочной: карета, белые лошади… Это было в Хенлее, где мы и влюбились друг в друга три с половиной года назад. В Нью-Йорк мы вернулись 5 января 2002 года, проехав 245 тысяч километров и установив очередной рекорд для книги Гиннесса как участники самого продолжительного путешествия на машине.
В течение всей поездки, где бы мы ни останавливались – в Африке ли, в Сибири или Соединенных Штатах, – наш эксклюзивный гибридный ярко-желтый «мерседес» привлекал внимание. В Калифорнии, в Пало-Альто, ближе к концу путешествия, поужинав в Spago (Вольфганг Пук закрыл этот ресторан в 2007 году), мы вступили в разговор с парнем, рассматривавшим нашу машину на улице. Когда мы рассказали ему, чем занимаемся, он сказал: «Вы осуществляете мечту многих людей».
Очарование и азарт путешествий по миру привлекало множество людей, повстречавшихся нам за три предыдущих года. Собственно говоря, независимый опрос, который случайно совпал с нашим возвращением, показал, что мечта номер один для людей по всему миру – послать все к черту, прыгнуть в машину и отправиться путешествовать.
– Я всегда хотел это попробовать, – сказал он.
Он рассказал, что недавно заработал кое-какие деньги благодаря буму доткомов и теперь думает, что наконец-то сможет реализовать эту мечту. Я одобрил его решение.
– Машина двухместная, – сказал он, глядя на нас с интересом. – То есть вы вдвоем сидели рядом друг с другом все это время?
На счетчике к тому времени было уже более двухсот тридцати тысяч километров.
– Да, – ответил я.
– Три года? И вы до сих пор вместе?
Казалось, он не верил. Он рассказал, что они с невестой решили отправиться в пятидневную поездку от одного побережья к другому и еще до конца путешествия разорвали помолвку. «В Денвере я вышел из машины, а она даже не замедлила ход».
ПРЕЖДЕ ЧЕМ мы с Пейдж отправились путешествовать, я создал товарный биржевой индекс Rogers International Commodity. В конце 1990-х я пришел к выводу: медвежий рынок сырьевых товаров скоро закончится. На эту тему я постоянно выступал в прессе, что теперь, после публикации «Мотоциклиста-инвестора», это стало важной частью моей жизни. Я видел, что на товарные биржи вскоре придет бычий рынок, но инвестировать в товары во время путешествия было практически невозможно: когда речь идет о сырьевых товарах, нужно держать руку на пульсе постоянно. Сырьевые контракты истекают, кто знает, будет ли у меня к ним доступ? Я подумал, что решением может стать товарный индекс и, чтобы инвестировать, нужно запустить собственный. В то время товарных индексов не существовало вовсе: сырьевые товары оставались малоизученным сектором, на который не обращали особого внимания.
За свою карьеру инвестора мне доводилось вкладывать в акции и облигации, валюты и сырье по всему миру, открывая длинные и короткие позиции. Когда я впервые начал читать товарные страницы в Wall Street Journal, страница там, собственно, была всего одна, я сразу осознал ее значимость. Я порылся у себя в библиотеке и выяснил, что первый ежегодник CRB[21] у меня за 1971 год. Так что по крайней мере с этого момента, то есть в промежуток между 1968 годом, когда я нашел первую постоянную работу на Уолл-стрит, и до времени получения этого ежегодника я не поленился найти главный источник информации по этой области знаний.
В то время, конечно, хотя я успешно вкладывал средства в сырьевые товары, большинство людей не обращали на них никакого внимания. Возможно, часть проблемы (или моего успеха) заключалась в том, что я не понимал, что и я должен был игнорировать сырьевые товары. Если бы я ходил в школу бизнеса, то узнал бы там, что сырьевые товары не имеют особого значения и ими можно пренебречь, но ведь я бизнес-школу не посещал и не проходил должного обучения в инвестиционном банке.
Как я уже говорил, мы неплохо обогатились на акциях, когда в августе 1971 года Ричард Никсон закрыл «золотое окно». Когда через три года он открыл его заново, мы нажились на товарах. За год до выхода в отставку Никсон в ответ на требования, звучавшие во всем мире, восстановил возможность конвертации американского доллара и золота для американских граждан, которую ликвидировал в 1933 году Франклин Рузвельт, хотя ранее обещал этого не делать. В то время золото на мировых рынках стоило 35 долларов за унцию. В первый день торгов, на которых золото могли купить американцы, 1 января 1974 года, цена золота в предвкушении ажиотажного спроса выросла на 600 % – до 200 долларов за унцию.
В тот день представители Merrill Lynch появились в компании London Gold Fixing, чтобы покупать золото для американских клиентов. И наш фонд продал им золото без покрытия, потому что мы знали о рынках достаточно, чтобы понять: весь ажиотаж связан с ожиданием крупного покупателя: цена выросла слишком быстро. Merrill Lynch запасался в предвкушении крупной покупки. Это принцип, освященный веками, но, оказалось, очень многие не понимали: когда рынок ожидает прихода крупного игрока, то соответствующим образом повышается цена. Рынки очень умны и всегда опережают события. В итоге за следующие несколько месяцев золото упало до 100 долларов за унцию, то есть на 50 %, и мы неплохо заработали.
Но даже 100 долларов – это уже вовсе не 35. К 1974 году производство золота не расширялось почти полвека. С установившейся международной ценой на золото (сначала 20 долларов за унцию, потом 35) не стоило разрабатывать новые месторождения. Если у промышленника не было доступа к крупной жиле, он заработал бы не много, ведь цены не собирались подниматься. Однако с повышением спроса и взлетом цен производство стало постепенно расширяться, ведь золотодобытчики не идиоты. Они могли сказать примерно следующее: «Ту жилу, которую я обнаружил в 1966 году, тогда не стоило разрабатывать, ведь золото стоило всего 35 долларов за унцию, но теперь, когда оно идет по 100 долларов за унцию и цена продолжает расти, пора снова открывать эту шахту».
Через шесть лет, весной 1980 года, когда основания были действительно достаточно вескими (недостаток предложения, подорванные позиции американского доллара, национальный долг, крупный торговый дефицит), цена золота достигла уровня 850 долларов за унцию.
Бычий сырьевой рынок длился более пятнадцати лет. Цены повышались, производство расширялось, но, когда предложение превысило спрос, цены на золото и другие сырьевые товары стали снижаться, и эта тенденция закрепилась почти на двадцать следующих лет. Наиболее заметно это было в энергетическом секторе. Цены на нефть в 1970-е годы выросли более чем на 1000 %, а потом на рынке появилось сырье с новых месторождений: нефть поступала из Северного моря, с Аляски, из Мексиканского залива. И в то же время мир начал, в великой мудрости своей, сокращать потребление. Джимми Картера показали по телевизору у камина в свитере. Опустили ручки термостатов. По всему миру распространились малолитражки. Потребление снизилось, предложение увеличилось, стоимость нефти пошла вниз на 18–19 лет. Медвежий сырьевой рынок продолжался до 1990-х.
Это классическая ситуация: средство от высоких цен – сами высокие цены. И это средство работает всегда.
На самом деле сырьевые товары просчитать проще, чем акции. Никто не может рассчитать истинную стоимость IBM, даже президент компании. Для анализа IBM нужно учитывать сотни, тысячи факторов: сотрудников, продукты, запасные части, поставщиков, конкурентов, балансовые отчеты, профсоюзы… Хлопок же, например, просчитать, напротив, очень просто. Все, что нужно знать о хлопке, сводится к следующему: его на рынке слишком мало или слишком много? На хлопок не оказывает влияние то, кто сейчас председатель Федеральной резервной системы. А главе IBM следует знать подобную информацию. Итак, хлопок: много его или мало? Вообще, конечно, ответить на этот вопрос может оказаться совсем непросто, но сам по себе он несложен, к тому же это вообще единственный вопрос, который должен вас интересовать.
Я собирался учредить сырьевой фонд, поэтому мне был нужен собственный индекс. В то время уже существовали товарные индексы, но я не мог доверить им свои деньги из-за плохой организации расчетов и слишком узкого взгляда на положение вещей. Например, сырьевой индекс Goldman Sachs на две трети состоял из энергоресурсов. Что это за индекс такой? С тем же успехом можно вложить средства просто в нефть. Более того, методика расчета индекса менялась ежегодно. Например, животноводческий сектор в один год составлял 26 %, а через несколько лет – 4 %. Нельзя было понять, чем вы будете владеть через три-четыре года. Причем в самом Goldman Sachs этого тоже не знали. А ведь я инвестировал не деньги клиентов, а свои. Банк Goldman Sachs массированно скупал ценные бумаги, играя против собственных клиентов. У меня клиентов не было, я хотел получить что-то, что принесло бы доход мне и тем, кто пожелает инвестировать вместе со мной.
Постоянно изменялся и товарный индекс Доу-Джонса. К тому же в нем, например, алюминий оценивался выше, чем пшеница. А ведь есть люди, которые не только никогда не использовали, но и вообще в глаза не видели алюминия. Зато все зависят от пшеницы! Индекс Reuters/Jefferies CRB (его я тоже рассматривал), одинаково оценивал апельсиновый сок и нефть-сырец.
Еще одна проблема индексов состояла в их географической близорукости. Большинство из них отражали только то, что происходило в тех часовых поясах, где они работали. Они ограничивались товарами, продаваемыми в Лондоне и США. Я не понимал, как с их помощью хоть кто-то может серьезно инвестировать. Это даже нельзя назвать игрой на бирже: в ходе азартной игры по крайней мере знаешь, сколько карт на столе.
Я начал использовать собственный индекс 1 августа 1998 года, что, как выяснилось впоследствии, было очень удачным временем: эта дата попала в пределы тех четырех или шести месяцев, когда девятнадцатилетний медвежий рынок достиг своего дна. Я не очень хорошо выбираю время для операций на рынке и занимаюсь краткосрочной торговлей, но здесь мои расчеты оказались абсолютно верными. Все свои успехи в инвестировании я обычно отношу к своему чутью на крупные изменения и развитие новых тенденций и, как я уже говорил, привык, что обычно я предвосхищаю рынок на год или два, порой даже на три. Но это заметное исключение.
Эпоха медвежьего рынка сырьевых товаров уходила в прошлое, наступало время бычьего. Индекс Rogers International Commodity стал универсальным инструментом для инвестиций в сырье, подсчитанным по котировкам тридцати шести товарно-сырьевых фьючерсов на тринадцати международных биржах. С самого начала его значение было больше, чем у других индексов. На август 2012 года этот показатель составил 281 %, в то время как, например, S&P – всего 62 %.
ВО ВРЕМЯ нашего с Пейдж кругосветного путешествия, я узнал, что экономист Goldman Sachs Джим О’Нил придумал термин BRIC[22]. Еще в 2001 году он предсказал перемещение центра мирового могущества от стран Большой семерки к развивающемуся миру, в частности Бразилии, России, Индии и Китаю (отсюда и аббревиатура). Эти четыре государства, каждое из которых мы объездили с Пейдж, занимают четверть земной суши, на их территории проживает 40 % населения земного шара, так что, согласно О’Нилу, их общая экономика к середине XXI века должна затмить суммарную экономику богатейших наций мира. Его предположения казались мне необоснованными, о чем я неоднократно говорил ему в разговорах с глазу на глаз (например, в год написания этой книги). Такой прогноз отражает непонимание логики изменений современного мира. Но отказаться от своих слов Джим О’Нил, конечно, уже не может, ведь именно благодаря этой концепции он стал мировой знаменитостью, и на публике он не выказывает ни тени сомнения в ее правильности.
Предсказание успеха Китаю – между прочим, это не единственная страна из группы, в которой О’Нилу не удалось побывать, – не делает его великим провидцем. К тому времени ее экономические достижения можно было разглядеть уже без особого труда. Я писал и рассказывал об этом по телевидению уже более десяти лет, со времени своей поездки по Китаю на мотоцикле в 1988 году.
Незнание бразильской истории заставляет О’Нила отрицать тот факт, что своим процветанием эта страна обязана сырьевому бычьему рынку, а все бычьи рынки когда-нибудь заканчиваются. Ограничения на покупку земли иностранцами, жесткий контроль валютных операций, протекционизм, повышение тарифов – все те глупости, к которым неизбежно скатываются политики, – все это негативно скажется на будущей эффективности экономики Бразилии. Жители этой страны любят повторять: «Бразилия – это еще одна великая мировая держава, она всегда была такой и всегда будет». Но при этом добавляют: «Бразилия – избранная Богом страна, Бог любит ее больше всех, но, к сожалению, послал управлять ею бразильцев».
Любое улучшение ситуации в России берет начало все с того же сырьевого бычьего рынка, который радует и Бразилию (соответственно, столь же непродолжительно). У России сейчас серьезные проблемы, в частности, демографическая: очень низкая рождаемость, быстрое старение населения, активная эмиграция. Все было бы совсем печально, если бы многих этнических русских, живших в бывших советских республиках, не заставили бы уехать с насиженных мест и вернуться в Россию. Учитывая низкую среднюю продолжительность жизни по сравнению с другими странами, сложно понять, как вообще можно принимать гипотезу О’Нила всерьез. В России, которая уже тяжело ранена, продолжатся сепаратистские тенденции. Они уже существуют в приграничных регионах, где живут различные этнические группы, со своими религиями и языками. Мне нравится нынешняя политика Москвы, но надо все же быть реалистом.
В отличие от России, в Индии высокая рождаемость, но это порождает еще больше проблем. Предполагается, что скоро Индия обгонит по населению Китай, в три раза превосходящий ее по размеру. И Индия не сможет накормить всех этих людей. Собственно, она уже доказала свою неспособность накормить и нынешнее население. Индия должна быть одной из ведущих сельскохозяйственных стран мира, но этому мешает политика правительства: индийские фермеры не могут пользоваться более чем пятью гектарами земли, так что массовое производство практически невозможно. Инфраструктура во многих сельскохозяйственных регионах либо заброшена, либо ее вовсе не существует, поэтому продукты даже в урожайные годы портятся еще до того, как попадут на рынок. Страна связана по рукам и ногам бюрократией, а правительство мало того что коррумпировано, так еще и на редкость некомпетентно.
Индия, какой мы видим ее на карте, – не естественное образование. Она не существовала в таком виде до 1947 года. Это земли, в панике брошенные англичанами, стремившимися оттуда убежать. Англичане определили границы Индии, в которые они заключили самые разные этнические группы, с различными языками и религиями, и очень многие из них не ладят друг с другом. В этом государстве есть мусульманское меньшинство, но в Индии проживает почти миллиард человек, поэтому она становится одним из крупнейших мусульманских государств в мире. И при этом мусульмане и индуистское большинство продолжают беспощадно убивать друг друга.
Однако в 1947 году, когда Индия обрела независимость, она была демократической страной, одной из самых преуспевающих в мире, но, несмотря на демократию, а может, и благодаря ей, не смогла реализовать свой потенциал. В 1980 году, когда Китай был отсталой, нищей страной, ситуация в Индии была намного лучше. Но с тех пор Китай обошел свою соседку по уровню развития: страна открыла границы и экономику миру, во многих провинциях уже появились супермаркеты Walmart. Меж тем в протекционистской Индии иностранцы не могут открывать магазины: это расценивается как угроза национальной безопасности. Китай процветает, а Индия продолжает пребывать в упадке. Соотношение ее долга к ВВП составляет уже 90 %, так что серьезный рост для нее практически невозможен.
Джим О’Нил, надо сказать, вообще никогда не бывал в Индии, тогда как мы с Пейдж два с половиной месяца колесили по этой стране. И он не единственный «знаток» этой страны. «Международный эксперт» Стивен Роуч, глава азиатского направления Morgan Stanley, впервые посетил Индию в 2004 году. Он еще долго вспоминал свой визит в Тадж-Махал, расположенный в Агре (действительно, нельзя упустить шанс его увидеть), и описывал множество неприятных ситуаций на дороге, из-за которых, по его мнению, поездка из Дели затянулась на целых пять часов. Само расстояние между городами составляет всего 200 километров. Но Стивен не мог знать и вряд ли понял бы за время своего трехдневного пребывания в стране, что дорога из Дели в Агру всегда занимает пять часов. И это еще если повезет. Но именно подобные рассуждения считаются на Уолл-стрит мудростью.
К 2001 году каждый на Уолл-стрит был знаком хотя бы с одним индийцем, поскольку именно они, как правило, управляли отделами деривативов. Когда в конце 1990-х я обедал с двумя топ-менеджерами из разных компаний, эти руководители обсуждали, как идет торговля, в частности говорили и о деривативах. В ответ на вопрос: «Как попасть на этот рынок?» прозвучал ответ: «Найдите себе индийца».
В Индии очень мало университетов, поэтому индийцы, если у них есть амбиции, получают образование за границей, преимущественно в США. Известно, что в основном их интересуют математика и инженерные специальности, но многие увлекаются и финансами. В итоге, отучившись, они попадали в трейдинговые залы, офисы и отделы управления средствами нью-йоркских финансовых компаний, где использовали свои математические способности для создания производных финансовых инструментов, с которыми в то время Уолл-стрит переживала настоящий роман.
Итак, в 2001 году, поскольку в совете директоров почти любой компании присутствовали индийцы, не самые умные ребята с Уолл-стрит решили, что в Индии что-то происходит. Джим О’Нил предположил, что страна станет одной из восходящих звезд наряду с Китаем. Он развернул карту и обнаружил, что эти государства находятся рядом. Так-так! Оба они занимают большую площадь, населены большим количеством людей – кстати, подумал он, это свойственно и Бразилии с Россией. Но все равно ясно, что он понятия не имел об Индии, как, между прочим, и Стивен Роуч, который был назначен главой Morgan Stanley по Азии, хотя в то время в Индии даже не был. Но, так или иначе, аббревиатура была готова: B – Бразилия, R – Россия, I – Индия, C – Китай… Собственно, О’Нил ошибся всего на три буквы!
(Здесь добавлю: хотя я порой не согласен с этими ребятами, оба они мне нравятся. Мое бурчание в основном отражает недовольство их «международными познаниями» в мире инвестиций.)
Глава 7. Дом на Гудзоне
«Путешествие тысячелетия» стало темой моей второй книги – «Приключения капиталиста» (Adventure Capitalist).
В Нью-Йорке через семнадцать месяцев после возвращения домой (первые восемь из которых были потрачены на ожидание результатов прививок) я впервые стал отцом: Пейдж родила дочь – Хилтон Огасту Паркер Роджерс, которая потом сама себе дала прозвище Хэппи. Еще до появления на свет нашей второй дочери, Билэнд Андерсон Паркер Роджерс по прозвищу Бэби Би, мы с Пейдж стали строить планы, связанные с продажей дома в Нью-Йорке и переездом в Азию.
В своем нью-йоркском доме я прожил к тому времени тридцать лет. Я купил его в 1976 году. Работая на Уолл-стрит, я жил в манхэттенской квартире, которую снимала Лоис, пока мы были женаты. Во время службы меня расквартировали в Форт-Хэмилтоне, и я понял, что жить в квартире мне не нравится. После развода я внимательно изучал объявления и по выходным разъезжал на мотоцикле по городу, осматривая дома. Моя квартира находилась на Риверсайд-драйв, и само место мне нравилось: не только рядом с Гудзоном, но еще и вблизи парка. Я исколесил все пять городских районов, забирался даже в Нью-Джерси и Коннектикут в поисках дома у воды рядом с парковым пространством. Я уже стал думать, что вряд ли смогу найти и то и другое, и уж точно не мог предположить, что нужный мне дом расположен прямо по соседству.
Однажды в 1976 году я катался на велосипеде по Риверсайд-драйв, и женщина, составлявшая мне компанию, указав на пятиэтажное здание, которое мы проезжали, сказала, зная, что я хочу переехать: «Этот дом, кажется, пуст».
Собственно, это был не дом, а два соединенных таунхауса, с северной и южной стороны окруженные двором. Дом, стоявший ближе к центру, граничил еще с одним домом с двором, поэтому по южную сторону владения было метров тринадцать открытого пространства. Здание – большое, величественное и красивое – действительно пустовало. В мэрии я узнал о владельце и отправил ему письмо с оплаченным конвертом для ответа, интересуясь, продается ли дом, и выражая готовность его купить.
Здание принадлежало католической церкви. Раньше оно было частью Вудстокского колледжа, старейшего иезуитского колледжа в США; он переехал в 1969 году из Вудстока на Манхэттен и потом из-за финансовых трудностей, а также из-за потери учеников, которые предпочли суетную жизнь большого города, в 1974 году закрылся. С тех пор церковь пыталась продать дом. Не получалось это во многом потому, что, в то время как северная часть была в 1930-х переделана в многоквартирный дом, южная по-прежнему оставалась домом на одну семью. Таков был первоначальный замысел архитектора в 1899 году, когда Нью-Йорк переживал бум и являл собой образцовый рынок для недвижимости на десять тысяч квадратных футов жилой площади. В церкви уже решили, что дом они смогут продать только в составе какой-нибудь крупной сделки.
Мое внимание привлекло южное здание, и меня беспокоило, что купив оба дома, я не смогу потом перепродать северную часть. Ремонт десяти квартир огромного дома – не то, на что мне хотелось бы тратить свое время и силы. Я работал на Уолл-стрит, управлял хедж-фондом, трудился по пятнадцать часов в день, и, хотя я смог бы заработать, сдавая квартиры внаем или продав их, это было бы для меня пустой тратой времени. Я поговорил с Дональдом Портером, моим приятелем из мира недвижимости, и рассказал ему о здании. Осмотрев его, он согласился купить северную половину владения. В то время галопировала инфляция, рынок недвижимости по всей стране был в сложном положении, процентные ставки взлетели до небес, получить долгосрочные кредиты было очень сложно, но церковь так обрадовалась, что сможет избавиться от зданий, что предложила нам тридцатилетнюю ипотеку по очень низкой цене. Дональд немедленно приступил к ремонту и довольно быстро продал все квартиры. Я же переехал в южное здание.
Я планировал немного пожить в доме, чтобы понять, насколько он мне по вкусу, а уж потом начать его ремонтировать и обставлять. Я продолжал работать на Уолл-стрит и отчаянно пытался пробиться наверх, поэтому располагал очень ограниченным временем. У меня никогда не было такого просторного жилья: я всегда жил в однокомнатной квартире почти без мебели и вот теперь оказался в совершенно пустом пятиэтажном особняке конца прошлого века площадью более трех тысяч квадратных метров.
Как-то раз, вскоре после покупки дома, я отправился осматривать его ночью. Пришлось взять с собой фонарик: освещение было тусклым. После этого я зашел в хозяйственный магазин и накупил там лампочек на 200 долларов. Наверное, хозяин никогда не продавал их в таком количестве. В 1977 году на 200 долларов можно было купить очень много лампочек, но их не хватало для того, чтобы хорошо осветить дом. Однажды я пригласил к себе девушку и нескольких ее друзей, один из них заметил: «Приближается Марди-Гра[23], а у тебя такой большой пустой дом, он очень подошел бы для бала».
Мы сколотили группу под названием «Команда Южного дома», которая состояла в основном из тех, кто был на той вечеринке: три журналиста, юрист, профессор Колумбийского университета, банкир и два финансиста с Уолл-стрит, – и устроили костюмированный бал Марди-Гра. Бал стал впоследствии ежегодным и приобрел известность в Нью-Йорке. Каждый из нас мог пригласить ограниченное число гостей, и мы рассылали особые приглашения… Шли годы, репутация вечеринки крепла, и появлялись люди, которые стали приходить на нее без приглашения. Мы их не выгоняли (это было бы негостеприимно). Мне эта атмосфера напоминала Вудсток.
Гостиную я сделал из комнаты, которую иезуиты использовали как часовню. Там был алтарь, он же один из восьми каминов в здании. Поднимаетесь по великолепной лестнице – и по левую руку оказывается большая столовая, разделяющая этаж пополам, а по правую – закрытая тяжелыми дверями из красного дерева часовня, где по-прежнему возвышается алтарь. Мы убрали дверь, сделали просторный зал для бала, он проходил в столовой под аккомпанемент музыкальной группы. В столовой мы организовали бар.
Бал проходил шесть лет подряд, потому что все эти шесть лет у меня не было времени начать дома ремонт. Когда же ремонт и отделка дошли до такой стадии, что проведение бала стало невозможным, мы отказались от этой идеи.
К 1982 году, через два года после ухода в отставку, я решил приступить к реконструкции. В доме были замечательные изделия из красного дерева и дуба, и я нанял специалистов для их реставрации. В некоторых случаях дерево нужно было сначала очистить от краски. Иезуиты мало интересовались дизайном помещения; они сосредоточивали усилия на попадании в рай, а не на построении мира земного. Инфраструктура, впрочем, была в прекрасном состоянии: конструкция стояла прочно, все трубы и проводка тоже находились в хорошей форме. Нужно было просто почистить дом, чтобы он заблестел. Я пригласил архитектора и дизайнера интерьеров и вместе с последним начал обставлять десять спален; некоторые из них мы приспособили для других целей – так, среди всего прочего, появились библиотека и бильярдная. Лифт изначально поднимался до пятого этажа, но я продлил его до крыши, где обустроил своего рода пентхаус (установил гидромассажную ванну, парную и летнюю кухню) – это дополнительное жилое пространство служило по большей части зоной отдыха. Ресторанный критик из New York Post, как-то раз заглянувшая ко мне, сказала, что это единственное барбекю, которое она видела на Манхэттене.
Здание потихоньку превращалось в мой дом в США. У меня было все, чего я хотел. Однажды ко мне в гости зашла семейная пара с детьми, через три-четыре часа их сын спросил: «А когда мы поедем обратно в Нью-Йорк?» Его семья жила в квартире, все его знакомые жили в квартирах, поэтому он решил, что они выехали за город. А ведь он мог собственными глазами видеть Риверсайд-драйв. Вряд ли я когда-нибудь еще смогу найти такой прекрасный дом…
ВЕРНУВШИСЬ ИЗ «путешествия тысячелетия», мы с Пейдж еще больше уверились, что Китай – следующая мировая сверхдержава. Я писал об этом и выступал с лекциями еще после первого посещения этой страны и много лет, появляясь на телевидении, рекомендовал зрителям учить детей китайскому. Сейчас, когда я сам стал отцом, настало время последовать собственному совету.
Плохое знание иностранных языков всегда казалось мне серьезным недостатком, особенно учитывая, что я занимался международными инвестициями и путешествовал по всему миру. Бывая во многих интересных местах, я понимал, что теряю отличные возможности из-за того, что должен воспринимать многое только через переводчика. Все мы знаем, как много теряется при переводе. Это было серьезное ограничение, и я, как и все родители, которые хотят исправить собственные ошибки и дать детям то, чего сами недополучили, считал очень важным сделать так, чтобы мои дети не прожили всю жизнь, страдая этим недостатком.
В демополисской школе я два года учил французский. В Йеле мне тоже нужно было учить иностранный язык, и, когда я туда поступил, меня направили в группу со студентами, которые тоже два года учили французский. Занятия проходили полностью на французском языке, вел их, как оказалось, француз, и я совершенно не понимал, что вообще происходит. Как я уже говорил, в Йеле я вообще чувствовал себя очень некомфортно: все здесь имели лучшее образование, чем у меня, происходили из лучших семей, многие ходили в частные школы и почти все приехали из зажиточных районов страны. Я чувствовал себя чужаком. Поэтому я стал считать изучение иностранного языка еще более важным.
Как путешественник я прекрасно понимаю значимость хорошего знания языка и возможности говорить на нем как носитель, то есть не задумываясь и без акцента. Опыт пребывания за границей убедил меня, что отъявленный злодей, если он хорошо разговаривает на иностранном языке, может встать рядом с доктором наук, мультимиллионером или дипломатом, если они не так хорошо владеют языком, и получит больше внимания и доверия слушателей, чем трое остальных, вместе взятые, которые, разумеется, не смогут так искусно вести беседу. Во мне крепло убеждение, что мои дети должны не просто отлично знать иностранный язык, но говорить на нем как на родном.
Конечно, я понимаю, что мои дочери могут уехать куда-нибудь в Боливию – и китайский им вообще до конца жизни не понадобится. Двуязычность вовсе не гарантирует успеха. В конце концов, есть посудомойки, прекрасно говорящие на китайском и английском, но их вряд ли можно считать успешными и состоявшимися людьми. Я встречал сотни настоящих билингвов, не преуспевающих в жизни. Но, так или иначе, это умение, которым не обладают многие люди, в том числе и я, дает большое преимущество умным, мотивированным, упорным. Если бы я считал, что в будущем самым могучим государством станет Бразилия, мы стали бы учить девочек португальскому и, вероятно, жили бы сейчас в Южной Америке.
В Нью-Йорке мы пригласили для Хэппи гувернантку Ширли Ни, говорящую на мандаринском диалекте китайского, а в 2006 году записали ее в школу святых Хильды и Гуго – единственную на Манхэттене, где трехлеткам преподавали китайский язык. Дети разговаривали на нем час в неделю – уже хорошо, но скоро стало ясно, что этого недостаточно. У меня много знакомых китайцев в США, которые разговаривают со своими детьми на родном языке, но к восьми-девяти годам дети начинают отвечать родителям исключительно по-английски: все их школьные и уличные друзья говорят на английском, мандаринский диалект не котируется – и они, как все дети, были настроены идти собственным путем. Однажды Хэппи, которой тогда было два или три года, прийдя домой из парка, заявила: «Хочу говорить на испанском». Оказалось, что в Риверсайд-парке на испанском говорят многие: все нянечки были из Пуэрто-Рико или Центральной Америки, поэтому и дети разговаривали на испанском, а Хэппи чувствовала себя чужой, «потому что я говорю на китайском».
Стало понятно, что в Нью-Йорке Хэппи никогда не будет говорить на мандаринском диалекте как его носитель. Если мы хотим, чтобы она знала китайский в совершенстве, нужно отправить ее туда, где она вынуждена будет говорить на этом языке, чтобы общаться. Куда-то, где она не могла бы сказать: «Я не хочу говорить на китайском». Естественно, это невозможно там, где все говорят по-китайски. И это решение совпадало с тем, которое я принял из-за периода серьезного упадка Америки – неконтролируемого долга, неприемлемой внешней политики и отсутствия в самом Нью-Йорке какой-либо финансовой дисциплины или контроля. Скоро в этом городе будет не так-то приятно жить. Все это подтолкнуло меня к решению о смене места жительства. Поэтому мы выставили дом на продажу и стали подыскивать жилье в Азии. Раньше я высмеивал родителей, которые переезжают ради блага своих детей; теперь сам стал одним из них.
Глава 8. Крупнейшая в истории нация должников
Когда мы с Пейдж продали дом, я испытал острый приступ сожаления, потому что понимал, что никогда больше не буду жить в таком прекрасном доме. Собственно, таких домов вообще мало. Я никак не мог перестать думать, что продал неотъемлемые права Хэппи и она больше никогда не сможет жить в этом доме. В контракт на продажу я добавил пункт, согласно которому имею первоочередное право обратной покупки дома, если покупатели решат его продать. Такая возможность позволила с более легким сердцем выставлять дом на продажу.
В то время, в 2007 году, я часто выступал с критикой пузыря в сфере недвижимости. Все те тридцать лет, что я владел домом, недвижимость неуклонно росла в цене, и я понимал, что рынок достиг своего пика. Я стал играть против девелоперских акций, в частности против Fannie Mae. На телевидении я публично предсказал кризис. «Почему бы тебе не помолчать насчет недвижимости? – спрашивала Пейдж. – Хватит уже обсуждать жилищный пузырь при каждом появлении в прессе, мы же пытаемся продать этот дом!»
Однако мы продали его на пике рынка. Кризис случился чуть позже. И если сегодня владельцы дома решат продать его мне, то, наверное, уже запросят меньшую цену, чем та, которую заплатили сами. Но теперь я его уже не куплю. Я и представить теперь не могу жизни в Нью-Йорке. По крайней мере раз в год мы ездим в США повидать родителей Пейдж и мою маму, которой уже за девяносто. Пользуясь случаем, мы навещаем и друзей в Нью-Йорке, но останавливаемся в гостиницах. Нью-Йорк всегда был и остается моим любимым городом, но, как бы я ни любил его, нужно смотреть правде в глаза.
Я прожил в Азии несколько лет, и теперь уверен: когда вы прибываете в аэропорт Нью-Йорка, вы прилетаете в аэропорт третьего мира. Потом садитесь в такси третьего мира, едете по автомагистралям третьего мира, и даже если вы остановились в пятизвездочном отеле, то это пятизвездочный отель в третьем мире. Пятизвездочные гостиницы Нью-Йорка не могут сравниться с такими же в Азии. Как и инфраструктура. Как и транспорт. Нью-Йорк больше не развивается. Аэропорт имени Кеннеди – самое настоящее недоразумение. Посмотрите для сравнения на Шанхай, Гонконг, Сингапур – это другой мир, живой и прогрессирующий.
Разумеется, Восток, и особенно Китай, вскоре столкнется с множеством проблем, с которыми всегда сталкиваются общества на подъеме, на пути к власти и славе. Америка на этом пути пережила крупные неудачи, долгую гражданскую войну, ряд экономических депрессий, нарушение гражданских прав, нежизнеспособность законов, массовые убийства, политическую коррумпированность. В Америке XIX века большинство людей даже не могли голосовать, существовало не так много гражданских прав, конгрессменов можно было покупать и продавать. (Собственно, покупать и продавать их можно до сих пор, просто тогда они стоили дешевле: на ту сумму, которую сейчас стоит один, раньше можно было купить четверых или пятерых.) В 1907 году вся эта система рухнула, когда Соединенные Штаты уже были готовы стать самой успешной страной ХХ века. Конечно, и у Китая будут свои неудачи. Но траектория, тем не менее, вполне ясна.
В Азии царит очевидное возбуждение. Выйдите на улицу, и вы сразу поймете, что регион движется вперед. Здесь ощущается тот динамизм, которого больше нет в Америке. Это чувство я испытывал в Нью-Йорке, но больше его там нет. Конечно, не везде оно есть и в Азии – например, ничего подобного я не ощущал в Дели. Но поезжайте в Гонконг, сходите там в рестораны, прогуляйтесь по улице, и вы поймете, что центр мира сейчас там. Иногда это можно почувствовать сегодня и в Нью-Йорке, но именно в Азии это ощущение присутствует сейчас всегда.
Нью-Йорк – экономическая и культурная страница самой большой в мире нации должников, самой большой в истории нации должников. А крупнейшие современные нации-кредиторы находятся как раз в Азии. Здесь сосредоточены все активы, здесь динамизм и энергия: Китай, Япония, Корея, Сингапур, Гонконг. Их уровень накоплений и инвестиций очень высок. У Китая, когда я пишу эти строки, он составлял более 30 %, а у Сингапура в 1980-е годы достигал 40 %, поэтому Сингапур и стал крупнейшей в мире историей успеха. Даже Карл Маркс понимал, что без капитала, накоплений и инвестирования развивать экономику очень трудно. (Его предположение, что страна будет прогрессировать, а люди станут богаче, если государство станет накапливать капитал и инвестировать его, оказалось в корне неверным. Но в вопросе развития капитала Маркс был совершенно прав.) Экономическая эффективность Америки сегодня составляет 4 %, а большую часть прошлого десятилетия колебалась на уровне 2 % и пару раз даже была отрицательной. Мы быстро истощаем свой капитал, следуя неверным путем Британии периода после Первой мировой войны.
Еще в 1987 году Соединенные Штаты Америки были нацией-кредитором. В 1945 году, после Второй мировой войны, мы, единственная в мире страна, не лежавшая в руинах, стали и крупнейшим в мире кредитором. Сменилось всего три поколения – и мы уже крупнейшие в мире должники, и вряд ли что-либо спасет нас от банкротства. Америка вышла из Второй мировой войны с большими долгами, но имела доступ к огромным накоплениям – к тем деньгам, которые нельзя было потратить во время войны и Великой депрессии; их пришлось накапливать. В течение пятнадцати лет спрос сдерживался. Америка обладала необходимой индустриальной мощью для его удовлетворения и благодаря большим объемам личных и корпоративных накоплений, продолжавшимся до середины 1960-х, имела здоровые банковские балансы, чтобы за этот спрос платить. Американцы стали тратить свои капиталы, что привело к крупным инвестициям, росту экономики и длительному периоду процветания, во время которого нация способна была оплачивать свои долги. Сейчас же США столкнулись с огромным долгом и отсутствием капитала.
В конце XIX века и вплоть до 1914 года США уже были нацией должников. Государство занимало крупные суммы. Но эти средства шли на постройку каналов, заводов, железных дорог. Нет ничего страшного в том, чтобы брать взаймы деньги, если вы умеете их правильно вкладывать или у вас есть другие активы. В итоге Америка стала страной-кредитором, оплатила эти долги и выросла в самое успешное государство ХХ века, пожиная плоды тщательно продуманных инвестиций. Сейчас же она занимает средства, чтобы платить за военную технику, без дела ржавеющую под открытым небом. Деньги получает владелец завода, но других выгодоприобретателей в этой ситуации нет. Инвестиции идут не в неиссякаемый источник производства, например в канал или железную дорогу. Сейчас мы тратим взятые взаймы деньги на социальные выплаты (на них уходит более 60 % всех государственных расходов), и те, кто получают эти деньги, безусловно, наслаждаются жизнью, но с будущей эффективностью это никак не связано. Если нация только потребляет, а не инвестирует и не копит капитал, то кредиты не принесут ничего хорошего.
Хуже всего, что люди, которым мы доверили ответственность за решение проблемы излишнего потребления и лишнего долга, сочли, что панацея состоит в еще больших долгах и еще большем потреблении.
НАМИ УПРАВЛЯЮТ те же люди, которые привели нас к краху в 2008 году. Чтобы у вас не появилось искушения приписать мое недоверие к ним мстительности, вызванной, например, собственным убыткам, напомню, что к началу краха, вызванного схлопыванием жилищного пузыря, я уже вывел большую часть своего капитала из акций за следующими исключениями: я играл против Citibank, всех инвестиционных банков, девелоперов и Fannie Mae. Некомпетентность Вашингтона и Уолл-стрит таким людям, как я, только на руку. Пока многочисленные американцы смотрят на то, как испаряются их капиталы, циничный инвестор извлекает огромную выгоду. (Как, кстати, и многие некомпетентные банкиры, с чьей подачиамериканцы и лишились сбережений – еще одна позорная несправедливость, за которую можно благодарить только американское правительство.)
Некомпетентность политиков и бюрократов – то, на что я всегда могу рассчитывать. Мы уже не удивляемся, когда слышим очередное сообщение о плачевном состоянии американской системы образования, которое подтверждается результатами тестирования: европейские и азиатские дети лучше пишут стандартизированные тесты, чем американские. 63 % американских студентов в возрасте от 18 до 24 лет не могут найти Ирак на карте, а половина не покажут и штат Нью-Йорк; наконец, 11 % не могут обнаружить и собственно США. Другое исследование показало, что 28 % студентов считают, что Война за независимость завершилась битвой при Геттисберге[24]. Менее половины сумели узнать во фразе «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными…» цитату из Декларации независимости. Наверняка вы знакомы и с другими исследованиями. В них утверждается, что американцев, способных перечислить пятерых членов семьи Гомера Симпсона[25], больше, чем тех, кто смог бы назвать хотя бы пять из первых десяти поправок к Конституции, которые образуют Билль о правах. Что ж, теперь эти люди заседают в конгрессе. И они гораздо более некомпетентны, чем предыдущее поколение политиков. Треть из них появляется в Вашингтоне даже без загранпаспорта. (Потом-то они, конечно, быстро оформляют себе паспорта, чтобы разъезжать по бессмысленным заграничным командировкам.) От иммигрантов, подающих документы на американское гражданство, требуется значительно более глубокое знание истории, географии и политологии, чем от тех, кого вы выбрали своими представителями.
Их познания в финансах и экономике не менее убоги. Однажды я вместе с несколькими финансистами был на ужине у сенатора-республиканца от Айовы Чарльза Грассли, который тогда возглавлял Финансовый комитет Сената. Кто-то за столом выразил обеспокоенность слабым долларом и спросил, что сенатор собирается делать, чтобы изменить ситуацию. Грассли ответил, что доллар не входит в сферу интересов его комитета. Все за столом были удивлены, и вовсе не тем, что он ничего не собирался предпринимать по поводу доллара (я бы тоже посоветовал не вмешиваться, поскольку рынок сам в состоянии определить его курс), но тем, что он проявил так мало познаний о финансовых рынках. Он не только совершенно не знал о том, что происходит с долларом и к чему это может привести, но даже не имел представления о том, что курс национальной валюты явно входит в сферу интересов его комитета и лежит в пределах его ответственности. И ведь он один из старейших членов законодательного собрания и сумел проскочить через американскую образовательную систему раньше, чем большинство его коллег.
Бездарностей из Вашингтона, которые поставили страну на грань выживания, много, но первый среди равных тот, кто руководил процессом в течение девятнадцати лет. Он был не избранным, а назначенным лицом. Это глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен, сам Маэстро, как назвал его невежественный журналист Боб Вудворд в апологетической книге, которая так и называлась.
Гринспен, экономист средней руки с Уолл-стрит, постоянно просил о правительственном назначении, лет пятнадцать надоедая этим Вашингтону, пока в 1987 году президент Рейган наконец не вознаградил его за неадекватность. После этого он служил подряд трем следующим президентам. Сторонник теории легких денег, Гринспен печатал их каждый раз, когда в экономике начинались проблемы, особенно если они касались его бывших коллег из Нью-Йорка. Он запустил станок в 1987 году, когда произошел обвал рынка, к которому он тоже приложил руку, а потом еще раз в 1994 году, в качестве реакции на кризис мексиканского песо. За несколько следующих лет он включал станок еще трижды. Он заполонил мир долларами после азиатского кризиса, после того как стали раздаваться истерические звонки от его друзей из нью-йоркских финансовых контор. Все они были кредиторами одного предприятия с Уолл-стрит – Long Term Capital Management – хедж-фонда, который вот-вот должен был разориться.
Если зубной техник из Колорадо-Спрингс или пожарный из Омахи попробует позвонить в Федрезерв, он, конечно, не дозвонится. Но уж если звонок поступил от директора Citibank или главы J. P. Morgan, то, будьте уверены, трубку снимет сам председатель. И когда ему говорят, что это конец западной цивилизации в нынешнем виде, что катастрофа приведет к очередной Великой депрессии, председатель, поскольку он не очень-то умный и грамотный человек, начинает разбрасываться деньгами направо и налево. Именно так и поступает Гринспен, когда ему звонят друзья, – принимает меры по спасению сомнительных финансовых типов.
Если бы кто-нибудь из этих кредиторов в итоге обанкротился, начались бы проблемы. Наверняка последовал бы медвежий рынок. Прибыли уже находились под прессом американской экономики. Но если бы он оставил рынок в покое, дал бы ему следовать собственным курсом, Lehman Brothers и Bear Stearns все еще оставались бы на плаву. Эти компании потерпели бы такие убытки и испытали такие проблемы, что смогли бы уволить кучу некомпетентных сотрудников. Балансовые отчеты оказались бы не в порядке, но это сыграло бы им на руку. Именно переизбыток сомнительных денег, оказавшийся в распоряжении самоуверенных бездарей, которые организовали очень спорные финансовые структуры, неотвратимо увлек эти компании на дно.
Гринспен не дал рынку работать самостоятельно. Он вторгся на него, будучи уверенным в том, что выручить друзей из беды – значит принести пользу всем и каждому. У него не было долгосрочной стратегии, а действовал он из панических соображений. (Так, доктор Гринспен был убежден, что проблема нового тысячелетия 1 января 2000 года ввергнет мир в хаос, поэтому на всякий случай подготовил печатные станки.) Его самые сильные стороны – качества политика. Капитализм должен работать так: когда люди попадают в трудную ситуацию, они разоряются. Приходят умные, компетентные люди, овладевают активами, реорганизуются и начинают заново на более прочных основаниях. Гринспен же считал, что надо предотвратить падение. Он со своими друзьями-политиками забирал деньги у умных, отдавал их дуракам и говорил дуракам: «Смотрите, правительство на вашей стороне, теперь вы можете конкурировать с умниками с нашей поддержкой и их деньгами». Во-первых, это ужасно с моральной точки зрения (хотя ни политики, ни бюрократы все равно не руководствуются моралью), во-вторых, плохо с точки зрения экономики. Рецессии, банкротства, финансовый кризис подобны лесным пожарам. Лесные пожары опустошительны, но они расчищают подлесок, сжигают мертвые деревья, а когда все выгорает, лес вырастает более крепким и здоровым.
«Этот процесс созидательного разрушения ключевой в капитализме. В нем и заключается капитализм, и с этим должен мириться любой предприниматель», – писал экономист и политолог Йозеф Шумпетер в 1942 году.
Вспомните наши старые мобильные телефоны. На них сделали целые состояния, но в итоге они были сметены с рынка после создания BlackBerry, которые, в свою очередь, пострадали от появления продуктов Apple. Или вы предпочитаете вернуться к стационарной связи и постоянным поискам телефонов-автоматов? Даже Кларк Кент отказался от телефонных будок[26].
Если бы Гринспен предоставил рынку возможность работать по собственным законам, мы избежали бы пузыря доткомов. Компании с Уолл-стрит пережили бы свои лесные пожары. Когда лопнул и этот пузырь, Гринспен опять принялся печатать деньги, что в итоге привело к жилищному пузырю и пузырю потребления. Он никак не мог напечатать достаточно. Не подозревая о своей профнепригодности, Гринспен активно искал интеллектуальное прикрытие для своей пагубной политики – и нашел таковое: позвал в свою команду Бена Бернанке, члена научного сообщества Лиги плюща, профессора Принстона на тенуре, доктора экономики, марионетку, заменившую его в Федеральном резерве.
Перед заседанием Национального экономического клуба в Вашингтоне, вскоре после назначения в совет директоров Федеральной резервной системы в 2002 году, Бернанке сформулировал свой подход к монетарной политике. Известны его слова: «Американское правительство имеет в своем распоряжении технологию, известную как печатный станок (или в наши дни его электронный эквивалент), что позволяет практически бесплатно производить нужное количество долларов США… Мы заключаем из этого, что при системе бумажных денег последовательное в своих решениях правительство всегда может поддерживать высокий уровень расходов и при этом удерживать инфляцию».
Это просто Гринспен-младший, их целая династия. Вместе эти гиганты мысли начали игру в музыкальные стулья, которая привела к всемирному финансовому кризису 2008 года.
Пока Гринспен ободрял всех, призывая тратить как можно больше, брать закладные под выгодный процент и приобретать дома, а лучше два или три, и притом без всякой предоплаты, разве только покупатель – безработный; пока он сдерживал процентные ставки, чтобы удерживать покупательскую лихорадку, на том нелепом основании, что цены на недвижимость все равно не могут упасть; пока банки залезали в астрономические долги и выдавали плохие кредиты, а потом продавали их как ценные книги, тем самым снимая с себя всякую ответственность (с одобрения Гринспена); когда двадцатишестилетние молодцы из рейтинговых агентств, только что вышедшие из колледжа, без всякого опыта работы на рынках, стали ежедневно выдавать сотни рейтингов ААА этим мусорным деривативам; пока все это происходило, я и мои единомышленники не уставали повторять, что король-то голый.
Я предупреждал о жилищном пузыре еще в 2003 году (в «Приключениях капиталиста»), но, как бывает во время всех маний, скептикам мало кто верит: их или игнорируют, или высмеивают. Более того, я не только предсказал жилищный пузырь, но и удачно вывел все свои деньги в надежное место. Когда меня спросили, как я буду покрывать продажу без покрытий акций Citibank (тогда 50 долларов за акцию) и Fannie Mae, я ответил, что буду покупать, когда акции упадут до пятерки. Конечно, и пресса, и аналитики выказывали мне недоверие, но акции обеих компаний в итоге упали ниже доллара за штуку.
А ведь я предупреждал.
В любой игре в музыкальные стулья, как неоднократно случалось в истории рынков, проигрывает последний, число проигравших постоянно растет – и дела идут все хуже и хуже. Алан Гринспен, организатор игры, довел ситуацию до критической, но тут срок его работы в Федрезерве подошел к концу, и он предоставил право заключительного аккорда Бернанке и таким парням, как Хэнк Полсон.
В 2008 году Хэнк Полсон был секретарем Казначейства. Когда грянул кризис субстандартного ипотечного кредитования, все банкиры в Нью-Йорке стали обрывать ему телефон, вереща, что мир катится в пропасть. Да, их мир действительно близился к концу (или по крайней мере так казалось). И конечно, когда такие люди видят, что банкротство близко, они звонят своим друзьям из правительства! Полсон направился к президенту Джорджу Бушу-младшему, чтобы сообщить, что новая Великая депрессия на пороге. Буш (он сначала ничего не знал и вообще вряд ли знал, сколько букв «с» в слове «депрессия») сказал Полсону: «Делай что хочешь». Таким образом, он переложил ответственность на человека, за два года до этого бывшего СЕО Goldman Sachs – одного из банков, который сейчас и нужно было спасать. Именно Полсон в Goldman Sachs восемь лет стоял во главе неистовой обжираловки, в течение которой ненасытный банк объедался субстандартными закладными – мусорными бумагами, от каких теперь невозможно избавиться (от них задыхаются сейчас его коллеги по прежней работе).
Вопрос состоял даже не в том, нужна ли срочная эмиссия, а только в ее размере. И Полсон мог в любом случае рассчитывать на поддержку Бернанке, великого незнайки, который крайне талантливо организовал катастрофу, и Тимоти Гайтнера, президента Нью-Йоркского федерального резервного банка – на него легла обязанность руководить банковской системой, пошедшей ко всем чертям. Гайтнер, разумеется, понимал еще меньше, чем Бернанке. Президент же Джордж Буш-младший, у которого с мозгами было еще хуже, чем у любого из предыдущих, швырял деньги страны в крысиную нору в течение восьми лет: только на Ирак ушло по меньшей мере 845 миллиардов (прямые издержки Казначейства США; общие издержки составили приблизительно 3 триллиона). Потратить еще 700 миллиардов налогоплательщиков на поддержку банков ему ничего не стоило. Он уже посадил государственный корабль на мель и, первым выпрыгнув за борт, не нашел лучшего способа попрощаться, как сжечь все спасательные жилеты.
Прекрасный пенсионный вклад Полсона в Goldman Sachs, оставшийся нетронутым после всех потрясений, был лишь частью его состояния, которая составляла на момент его ухода из Казначейства около 700 миллионов долларов. Работать по-настоящему ему было не нужно, и он стал преподавать. Гайтнер был вознагражден за профнепригодность – его назначили новым секретарем Казначейства. Его навязало новой администрации Обамы банковское сообщество Нью-Йорка, которое ценило его как глупого маленького слизняка из Нью-Йоркского федерального резерва, делающего все что ни прикажут. Он стал лакеем, нужным им в Вашингтоне, простофилей, который должен был защитить банкиров, когда те скажут ему, что мир рушится. Что мог знать Обама? Он, возможно, был удивлен, так же как и все мы, когда оказалось, что Гайтнер не в состоянии правильно заполнить собственную налоговую декларацию. Наградой за некомпетентность Бернанке стало его переизбрание главой Федрезерва.
Глава 9. «Капитализм без банкротства – все равно что христианство без ада»
По закону, председатель Федеральной резервной системы должен дважды в год докладывать в конгрессе о монетарной политике своего учреждения, и иногда его вызывают для прояснения разных других вопросов. Я слышал несколько таких выступлений Бернанке – был в гостинице, где работал телевизор. Например, когда его попросили прокомментировать понижение курса доллара, он ответил, что ни для кого это не имеет никакого значения, кроме американцев, выезжающих за границу. Тут я бросил все и пристально посмотрел на человека на телеэкране, чтобы понять, врет он или правда ничего не понимает. Ведь то, что он сказал, было сродни уверениям в том, что восход солнца на востоке имеет для среднего американца значение только тогда, когда тот смотрит на восток.
Допустим, вы владелец акций IBM, которые подскочили в стоимости со 100 до 200 долларов. Вы получили прибыль в американских долларах, но если тем временем курс доллара упал на 50 %, то никакой прибыли нет: вы не сможете купить себе больше шотландского виски, чем раньше, не продвинетесь на пути к покупке «тойоты» – оба этих импортных товара удвоились в цене. Вы не сможете приобрести на полученный доход ничего поступающего из-за границы. В том числе, например, бензин. Даже если цена товара остается прежней, падение курса доллара означает падение качества вашей жизни.
Когда падает доллар, возрастает стоимость импортных шин, и это влияет на вас как на американцев, даже если вы не покупаете Michelin, потому что Goodyear тоже взвинтит цены, хотя бы для компенсации стоимости импортируемой резины. Если доллар падает, Саудовская Аравия, экспортирующая нефть, стоимость которой во всем мире привязана к доллару, получит меньше дохода. Сколько времени она будет это терпеть? Цена «мерседеса» каждого шейха растет, и саудовцы, чтобы не потерять в качестве жизни, повысят цены на нефть, а самый разумный и эффективный способ сделать это – сократить экспорт.
Это ночной кошмар инфляции. Вы думаете, что заработали, потому что стоимость акций IBM или, скажем, размер вашей зарплаты выросли вдвое, но, оглянувшись вокруг, вы поймете, что стали больше платить за все: за бензин, за еду… Доллар стоит меньше относительно всего – других валют, риса, золота…
Снижение курса доллара влияет на все, что покупает американец, на все, что он делает, да и вообще на все, что происходит в мире. Это начальный уровень понимания экономики. Бернанке, заявив перед конгрессом, что падение доллара пройдет без последствий, вроде бы не лгал, к тому же можно предположить, что под присягой он воздержался бы от подобных высказываний. Поэтому я посчитал, что он знает еще меньше, чем я думал.
Вспомните многочисленные заявления и проекты Бернанке, и вы увидите, что он редко оказывался прав. Он мало знает об экономике и финансах, не понимает, как работают рынки, а валюту умеет только печатать. Ему еще только предстоит понять, что текущий кризис связан не с ликвидностью, а с платежеспособностью. Вокруг достаточно ликвидности. Частично кризис наступил из-за того, что американские и европейские центробанки в течение 10–15 лет обеспечивали на рынке слишком большую ликвидность. Накопилось слишком много дешевых денег, что привело к жилищному и потребительскому пузырям, а после их схлопывания мир столкнулся с кредитной проблемой. Взяв на себя повышенные финансовые обязательства, люди, компании и даже целые государства не смогли их выплатить, в результате банки превратили все эти мусорные бумаги в субстандартные облигации. Нельзя сказать, что сейчас взять кредит – большая проблема для платежеспособного населения. Дело не в ликвидности, а в том, что слишком многие стали банкротами.
Бернанке, похоже, этого не понимает. Во время Великой депрессии проблема действительно состояла в ликвидности. Из-за непродуманной государственной политики начала замирать торговля, ликвидности было недостаточно для поддержки банков, и вся система рухнула. Бернанке же не может отличить ликвидность от платежеспособности и рассматривает оба кризиса как идентичные. Этого момента он ждал всю свою жизнь. Вся его карьера ученого была посвящена вопросам печатания денег. Дайте этому парню печатный станок, и он тут же его запустит, подобно тому как обладатель молотка во всем видит гвозди. Но нельзя решить проблему долга, наделав еще больше долгов. Если бы печатание денег вело к процветанию, больше всего преуспевали бы в Зимбабве.
С Бернанке у руля финансисты не становятся банкротами. На следующий год все получают большие бонусы и сохраняют свои «ламборгини», а бедная девушка – зубной техник из Колорадо-Спрингс теряет работу и дом, потому что государство закачивает кучу денег, отобранных у нее и других таких же налогоплательщиков, в финансовую систему, чтобы поддержать плохие активы банков. Поощряя крахи, некомпетентность и порой противозаконность, государство приобретает облигации зарекомендовавших свою несостоятельность предприятий, управляемых посредственностями. Хорошие деньги отправляются вслед за плохими, что в итоге препятствует росту. Все компетентные специалисты видят эти плохие активы, обладатели которых требуют себе хорошие, и вместе со своими деньгами стараются держаться от них подальше. Результатом становится стагнирующая экономика без каких-либо новых динамичных импульсов.
В начале 1990-х годов Швеция пала жертвой сходного пузыря на рынке недвижимости и пережила кризис. Но правительство отказалось приходить на выручку. Многие стали банкротами; это были ужасные два или три года. Но после этого в Швеции начался экономический бум, и теперь это одна из самых развитых экономик в мире. Сейчас у страны одна из сильнейших в мире валют, и во многом именно благодаря тому, что она пережила за то трудное время. То же самое происходило в Мексике в 1994 году, в России и Азии в конце 1990-х. Все эти нации прошли через свои кризисы. Люди становились банкротами, но благодаря этой жуткой боли экономика стала мощной, надежной и быстрорастущей.
В начале 1990-х в Японии лопнул большой пузырь недвижимости и акций. Когда я проезжал через эту страну на мотоцикле во время первого кругосветного путешествия, стоимость членства в загородном клубе в Японии превышала стоимость дома. Желание японцев поиграть в гольф просто поражало. Пузырь в то время был на пике. Естественно, он лопнул, и все пошло крахом. Правительство решило не давать никому обанкротиться. В результате мы имеем так называемые «зомби»-банки и «зомби»-компании – «организации – ходячие мертвецы». Когда я приехал в Японию десять лет спустя, во время второго кругосветного путешествия, число самоубийств там превышало показатели остальных развитых стран. Все были подавлены и искали хоть какой-то безопасности. Был огромный конкурс на места в госструктурах. Японцы называли 1990-е годы «потерянным десятилетием».
Сейчас таких десятилетий уже два. Прошло более двадцати лет, а японский рынок акций на 75 % ниже показателей 1990 года. Процент самоубийств по-прежнему высок, а рождаемость едва ли не самая низкая среди развитых стран. Чувство незащищенности, неуверенности не оставляет людей. Даже в самые тяжелые периоды Великой депрессии американский фондовый рынок, упав на 90 %, пребывал на дне всего несколько месяцев. В Японии же ничего не меняется вот уже больше двадцати лет. Поддерживая рушащиеся активы страны, японское правительство усугубило кризис. Этот подход взяли на вооружение теперь и Соединенные Штаты.
В Америке уже были великие кризисы. В 1907 году обвалилась вся финансовая система. Но в ХХ веке мы стали сильнее. В американской истории несложно найти примеры обвалов банков и страховых компаний, банкротств штатов, округов и муниципалитетов. После Первой мировой войны в США наблюдался серьезный экономический регресс, однако правительство сумело сбалансировать бюджет: Федрезерв повысил процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию. Мы терпели лишения несколько месяцев, но затем были вознаграждены бурными двадцатыми годами. Возможно, если бы в Вашингтоне сейчас лучше знали историю или понимали экономику, мы перестали бы вкладывать деньги налогоплательщиков в спасение банкротов.
Мир страдает от финансовой паники и кризисов с начала времен. В этом нет ничего хорошего, но так бывает. И однако мир держится. В 1966 году Япония пережила страшнейший кризис. Все японские брокеры разорились. Повторяю, все брокеры! Был ли это конец света? Нет. Всем брокерам и инвестиционным банкам позволили стать банкротами. В течение следующих двадцати пяти лет Япония наслаждалась феноменальным успехом, беспрецедентным для второй половины XX века.
Но в США предпочитают пользоваться последними японскими «достижениями». Политики, беспокоясь о результатах следующих выборов, и банкиры, беспокоясь из-за следующего бонуса, диктуют свои правила игры. Как и любая другая группа заинтересованных лиц, входящих в состав самой крупной в истории нации должников, где у каждого свой интерес и где федеральное правительство действует подобно Таммани-холлу[27]: богатеи должны получить свое. Никакого кризиса не будет. Банкротство – что это такое? Богатые должны благоденствовать. «Ламборгини», дом в Хэмптонсе[28] – все это останется при них, а пожарный из Омахи и зубной техник из Колорадо-Спрингс будут только счастливы видеть это, особенно если у них есть другая работа. Чтобы не заставлять вас ликвидировать нестабильные активы, мы заплатим вам, чтобы вы держали их, а лучше сами их у вас купим. Вы получите полную компенсацию за ваш провал.
Японцы говорят о двух потерянных десятилетиях. В Америке их будет как минимум два, а то и больше.