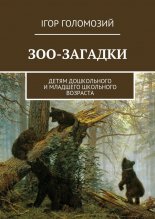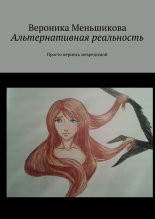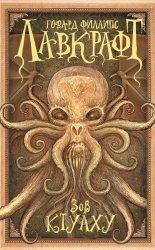Полет сокола Широков Алексей

– Сезонная лихорадка, – кивнул Ян Черут со знающим видом. – Она или убивает человека, или делает крепче.
«Некоторые люди, похоже, обладают естественной устойчивостью к этим болезням, и есть основания полагать, что невосприимчивость передается по наследству», – писал Фуллер Баллантайн в трактате «Малярийные лихорадки тропической Африки: причины, симптомы и лечение».
– Посмотрим, прав ли старый черт, – бормотал Зуга сквозь клацающие зубы, кутаясь на ходу в полы мокрой кожаной куртки. Ему и в голову не приходило остановиться и хоть немного передохнуть. Он не делал послаблений ни себе, ни своим людям.
Баллантайн упорно брел вперед: при каждом шаге колени подгибались, перед затуманенным взором вспыхивали искры, оставляя извивающиеся следы, похожие на червячков и мошек. Рука готтентота то и дело ложилась майору на плечо, возвращая заплетающиеся ноги на тропу. По ночам пылающий лихорадкой мозг терзали кошмары, наполненные оглушительным хлопаньем темных крыльев и тошнотворной змеиной вонью. Зуга просыпался с криком, глотая ртом воздух, и Ян Черут, успокаивая, придерживал рукой его трясущиеся плечи.
Первый приступ лихорадки прошел, и в тот же день дождь в очередной раз отступил. Казалось, яркое солнце, палившее еще жарче в душном влажном воздухе, рассеяло вязкий туман, висевший перед глазами, и выжгло ядовитые миазмы из крови. В голове прояснилось, озноб прекратился, но в руках и ногах осталась слабость, а справа под ребрами засела глухая боль. Печень увеличилась и стала твердой на ощупь – обычное последствие лихорадки.
– Все будет в порядке, – радостно заверил Ян Черут. – Редко кто так быстро поправляется после первого приступа. Ja! Теперь вы наш человек – Африка приняла вас.
Однако ноги у Зуги еще подгибались, голова кружилась – казалось, он не ступает по раскисшей земле, а летит над ней.
В тот же день они заметили след.
Огромный слон проваливался в липкую красную грязь на целый фут – цепочка глубоких ям протянулась по земле, как ожерелье из бус. Громадные подошвы отпечатались, как в гипсе: видна была каждая морщинка, каждая трещина на коже. В одном месте размякшая почва не выдержала невообразимого веса, и слон провалился почти по брюхо. Выбираясь, он помогал себе длинными толстыми бивнями, оставив в грязи их отпечатки.
– Это он! – восторженно выдохнул Ян Черут, не отрывая глаз от огромных следов. – Я его след где угодно узнаю.
Не было нужды уточнять, о ком шла речь: слон-патриарх с горного кряжа на краю долины Замбези навеки отпечатался в памяти у обоих.
– Обогнал нас не больше чем на час, – добавил Черут почтительным шепотом, словно вознося молитву.
– И ветер не меняется, – заметил Зуга так же тихо.
Он не сомневался, что когда-нибудь столкнется со старым знакомцем. Почти со страхом майор взглянул на небо: с востока тяжело наползали грозовые тучи, краткая передышка закончилась. Следующий натиск бури обещал быть свирепым – эти глубокие, четкие отпечатки скоро растекутся в жидкую грязь.
– Следы идут против ветра, – уточнил Зуга, стараясь выкинуть из головы угрозу дождя и сосредоточиться на охоте, собрав в кулак ослабленную лихорадкой волю.
Старый слон и его оставшийся спутник, похоже, не подозревали об опасности, иначе бы они не двигались против ветра. Однако жизненный опыт, накопленный долгими десятилетиями, рано или поздно заставит их повернуть, чтобы учуять возможного преследователя. Имела значение каждая минута, потому что, несмотря на слабость в ногах и дурман в голове, Зуга не желал упускать этот шанс: даже если они уже на сотню миль зашли в глубь страны Мзиликази и пограничные импи висят у них на хвосте, даже если часы, потраченные на охоту за двумя слонами, помешают экспедиции уйти из зараженного лихорадкой леса и кости незадачливых охотников сгложут гиены – уйти от такого следа невозможно! Зуга и Ян Черут принялись сбрасывать ненужное снаряжение: фляги не понадобятся, воды вокруг и так предостаточно, мешки с едой все равно пусты, а одеяла намокли. Укрыться на ночь можно за могучей тушей слона.
– Идите за нами, и побыстрее, – крикнул Зуга измученным носильщикам, бросая им свой ранец. – Если успеете, вечером набьете животы мясом и жиром.
Зуга рискнул всеми оставшимися у него силами, чтобы обогнать дождь и добраться до слонов прежде, чем те повернут по ветру и учуют запах. Он со всех ног кинулся по следу, хорошо зная, что даже здоровый человек выдерживает такой темп час-два, не больше, иначе у него разорвется сердце. Через полмили в глазах у Зуги замелькали искры, все вокруг начало расплываться. Истощенное тело заливал пот, майор шатался как пьяный.
– Беги дальше, пройдет, – угрюмо буркнул Ян Черут.
Усилием воли Зуга заставил себя продолжать бег, и маленький сержант оказался прав. В глазах внезапно прояснилось, ноги обрели твердость, тело неслось вперед, как на крыльях. Готтентот, взглянув на него искоса, кивнул с восхищенной улыбкой, но Зуга даже не обратил внимания – он бежал как заведенный, вскинув голову и зачарованно глядя перед собой.
Солнце достигло зенита, однако Ян Черут не решался замедлить темп, догадываясь, что Зуга рухнет как подстреленный. Солнце, отступая перед грозными легионами надвигавшейся бури, начало опускаться, а охотники все бежали, отбрасывая тени на слоновий след под ногами. Следом тесной кучкой трусили четверо оруженосцев с заряженными ружьями наготове.
Готтентот то и дело оборачивался и осматривал местность, и охотничий инстинкт не подвел его. В полумиле позади маячили два серых силуэта, сливаясь с темной тенью промокших акаций. Слоны уверенно замыкали круг, пересекая собственный след, чтобы зайти к преследователям с подветренной стороны. Они двигались своей обычной, обманчиво ленивой походкой враскачку. Через несколько минут они обнаружат горячий след, оставленный маленьким отрядом охотников поверх глубоких отпечатков в красной глине.
Ян Черут легко тронул майора за руку.
– Перехватим их, пока не учуяли, – хрипло шепнул он.
Не прерывая мерного движения онемевших ног, Зуга оглянулся и заметил две огромные фигуры, величаво вышагивавшие под высокими зонтиками акаций. Взгляд майора прояснился, на бледном восковом лице появилась краска. Слоны неотвратимо приближались к цепочке зловонных человеческих следов.
Большой слон шел впереди, тяжело переставляя длинные костлявые ноги. Его высоченный остов был слишком велик для иссохшей плоти, грубая складчатая кожа свисала по бокам тяжелыми мешками и болталась на ногах, как небрежно сметанные штаны. Громадные желтые бивни отягощали старческую голову, изборожденные шрамами уши падали на морщинистые щеки рваными лохмотьями. Старик только что принял грязевую ванну, и его тело влажно блестело, покрытое густым слоем скользкой красной глины. Следом шел аскари, казавшийся карликом рядом с вожаком, несмотря на немалый рост и тяжелые бивни.
Зуга и Ян Черут бежали нога в ногу, дыхание с хрипом вырывалось из пересохших глоток. Из последних сил охотники спешили подойти к слонам на расстояние ружейного выстрела, уповая на то, что слабое зрение великанов подведет их. На этот раз капризы погоды оказались кстати. Густая серая пелена дождя повисла над лесом, скрывая людей, и последние сотни шагов они преодолели незамеченными, а стук дождя и свист ветра в кронах акаций заглушили шаги.
Старый слон наткнулся на след человека и остановился, словно налетел на невидимую скалу. Он осел на задние ноги и высоко вскинул морщинистую голову с огромными бивнями. Рваные знамена его ушей раздулись, как грот-парус флагмана, и с пушечным грохотом захлопали по плечам. Он долго ощупывал кончиком хобота оскверненную человеком землю, поднял хобот к носу и выдохнул в раскрытые розовые бутоны обонятельных органов. Ощутив страшный ненавистный запах, старик высоко задрал хобот и стал величественно разворачиваться. Вместе с ним, плечом к плечу, развернулся и его спутник, и оба пустились бежать, как слаженная пара лошадей в упряжке.
Готтентот упал в грязь на одно колено и вскинул ружье. В тот же миг аскари замедлил бег и свернул влево, пересекая след вожака. Возможно, он отстал не нарочно, но поверить в это было трудно. Охотники понимали, что молодой слон принимает огонь на себя, защищая старика собственным телом.
– Ты этого хочешь? Так получай, разрази тебя гром! – сердито крикнул Ян Черут, понимая, что сильно отстал, остановившись для выстрела.
Молодой слон получил пулю в бедро и пошатнулся. Из ноги брызнула кровь, он сбился с шага и повернулся к охотникам боком. Бегущий старик остался один.
Зуга мог бы добить искалеченного слона выстрелом в сердце – зверь трусил медленной неуклюжей рысцой, выгнув спину и подволакивая разбитую ногу, и до него оставалось не больше тридцати шагов. Однако майор без остановки промчался мимо, даже не обернувшись, уверенный, что Черут доведет дело до конца.
Впереди лежала неглубокая низина, похожая на блюдце, а дальше высился еще один гребень, на котором, как часовые, стояли серые от дождя тиковые деревья. Не сбавляя скорости, слон спустился во впадину; его топот звучал как грохот огромных барабанов. Разрыв между ним и охотником все увеличивался, пока наконец слон не достиг самой низкой точки низины. Раскисшая болотистая почва не выдержала огромного веса, и старый гигант провалился в болото почти по плечи. Ему приходилось выдергивать ноги по очереди, а вязкая грязь громко чавкала при каждом движении.
Окрыленный Зуга быстро добрался до болота и побежал по кочкам, поросшим жесткой болотной травой. Жажда битвы пьянила, возбуждение заставило забыть о слабости и утомлении. До слона оставалось всего два десятка шагов, стрелять можно было почти в упор. Майор остановился, балансируя на островке из переплетенных корней травы.
На дальней стороне болота слон отчаянно пытался выбраться на твердый склон: задние ноги затягивала трясина, на вздыбленной спине из-под грязной шкуры выпирали массивные позвонки, широченные дуги ребер казались деревянным остовом ладьи викингов. Под ребрами почти различимо билось огромное сердце.
На этот раз слон не мог уйти. За долгие месяцы, прошедшие после первой встречи, молодой Баллантайн стал опытным охотником и отлично изучил все уязвимые места гороподобной слоновой туши. Под таким углом и на таком расстоянии тяжелая пуля, не потеряв скорости, раздробит позвоночник между лопатками, погрузится глубоко в тело и пронзит сердце, отключив толстые змеевидные артерии, питающие легкие.
Зуга коснулся спускового крючка, ружье хлопнуло, как детская игрушка. Осечка! Тем временем серый великан выбрался из трясины и двинулся вверх по склону, набирая скорость. Привычной трусцой к ночи он уйдет миль на пятьдесят.
Баллантайн добрался до твердой земли и отшвырнул бесполезное оружие. Приплясывая от нетерпения, он кликнул оруженосцев. Мэтью, пошатываясь, бежал в полусотне шагов; следом за ним, спотыкаясь и скользя по грязи, трусили Марк, Люк и Джон.
– Живей! Живей! – отчаянно вопил Зуга.
Он выхватил у Мэтью новое ружье и бросился вверх по склону. Слона надо настичь до гребня холма, потому что вниз громадина помчится, как орел по ветру. Майор бежал из последних сил, не чуя под собой ног.
Бежавший позади оруженосец остановился, поднял отброшенное ружье и принялся его перезаряжать машинальными, давно заученными движениями. Поверх пороха и пули, уже находившихся в стволе, он всыпал еще горсть пороха и забил четвертьфунтовую свинцовую пулю – оружие превратилось в смертоносную бомбу. Мэтью положил под боек новый капсюль и помчался вверх по склону вслед за хозяином.
Слон приближался к гребню, охотник постепенно нагонял его, но слишком медленно. Сил у Зуги оставалось лишь на минуту-другую. Крутой склон плыл и качался перед глазами, ноги подкашивались и скользили на мокрых, покрытых лишайником камнях, дождь хлестал прямо в лицо. В полусотне шагов впереди слон достиг гребня холма… И вдруг случилось невообразимое – расставив огромные уши, старый великан яростно повернулся лицом к преследователям. Возможно, он тоже выбился из сил, а может быть, ненависть, накопившаяся за долгие годы, как ракушки, облепившие корпус старого корабля, наконец перевесила чашу весов, и слон решил бросить человеку вызов.
Грязная мокрая туша тускло отсвечивала, возвышаясь, как башня, на фоне низкого серого неба. Зуга выстрелил в плечо. Ружье гулко ударило, как бронзовый колокол собора, и в полумраке вырос длинный язык ярко-красного пламени.
От выстрела пошатнулись и слон, и охотник. Закаленная свинцовая пуля пробила слону ребра, он тяжело осел на задние ноги, зажмурив от боли слезящиеся старческие глаза. Открыв их, он увидел человека, ненавистное, зловонное и назойливое существо, которое всю жизнь год за годом неотступно преследовало его. Охотник и дичь поменялись местами. Слон кинулся вниз по склону, как лавина из серого гранита, испуская яростный кровожадный рев. Зуга повернулся и побежал, земля вздрагивала под его ногами в такт шагам разъяренного раненого зверя.
Оруженосец, невзирая на смертельную опасность, остался на месте. Зуга не зря доверял ему больше других. Мэтью готов был выполнить свой долг – вручить хозяину оружие.
Преследуемый по пятам слоном, майор отбросил дымящееся ружье и выхватил у Мэтью новое. Обернувшись, Зуга взвел курок и вскинул длинный толстый ствол. Слон навис сверху, заслоняя набухшее влагой небо: длинные желтые бивни поднимались ввысь, как стропила крыши, хобот торчал вверх, готовый опуститься на человека.
Зуга нажал на спусковой крючок, и на этот раз ружье выстрелило. Ствол с грохотом взорвался, металл раскрылся, как лепестки цветка, горящий порох опалил стрелку бороду и лицо. Оторванный курок рассек щеку до кости. Ружье вырвалось из рук и ударило в плечо с невероятной силой, разрывая связки и сухожилия. Кувыркаясь, Зуга отлетел назад – и лишь это спасло его от удара слоновьего хобота.
Майор тяжело рухнул на груду мокрого щебня, слон на мгновение остановился и присел, отворачиваясь от пламени и дыма… и тут же увидел перед собой Мэтью. Бедный, преданный, храбрый Мэтью попытался отбежать, но не успел он сделать и десятка шагов, как длинный хобот слона обвил его за талию и подбросил в воздух, как куклу. Оруженосец взлетел футов на сорок, молотя руками и ногами, завис на мгновение и упал. Его отчаянные крики утонули в оглушительном трубном реве, напоминающем гудок паровоза.
Слон поймал падающее тело и швырнул снова, на этот раз еще выше.
Зуга с трудом приподнялся и сел. Правая рука безжизненно повисла, кровь из пробитой щеки заливала бороду. Уши заложило от взрыва, и рев слона казался далеким и приглушенным. Майор ошалело смотрел на своего оруженосца, провожая взглядом его падение и удар о землю.
Обдирая о камни колени, Зуга пополз к разряженному ружью, из которого сделал первый выстрел. Оно лежало в пяти шагах, каждый из которых казался израненному телу бесконечным.
Тем временем слон расправлялся с несчастным оруженосцем. Он поставил ногу на грудь Мэтью, и ребра затрещали, как сухие поленья в жарком костре. Мощный хобот обхватил голову человека и легко сорвал ее с плеч – так фермер убивает цыпленка. Голова покатилась по склону: моргали выпученные глаза, подергивались щеки.
Отвернувшись от жуткого зрелища, Зуга положил на колени ружье и стал заряжать его одной рукой. Правая рука висела как мертвая. Превозмогая боль, майор засыпал в дуло ружья горсть пороха.
Пронзенное тело Мэтью повисло на окровавленном бивне, как мокрая тряпка на веревке. Зуга достал из мешочка пулю и опустил ее в ствол, затем, орудуя той же рукой, забил ее шомполом. Старый великан хоботом потянул Мэтью за руку – тело соскользнуло с бивня и упало на землю. Преодолевая сопротивление тугой пружины, майор взвел курок. Он с трудом удержался от стона – каждое движение причиняло боль. Слон с размаху придавил тело Мэтью передними коленями и размазал останки оруженосца в кровавую кашу.
Волоча за собой заряженное ружье, Зуга подполз к груде щебня и залег там, установив ружейное ложе на верхние камни. В ушах стоял яростный рев слона. Припав животом к земле, майор прицелился, едва удерживая громоздкое ружье одной рукой. От боли и изнеможения перед глазами все расплывалось.
Дождавшись, когда пляшущая мушка на миг совпадет с грубой прорезью прицела, он нажал на спуск. Ружье исторгло пламя, взметнулось облако порохового дыма.
Рев слона внезапно смолк. Холодный ветер унес пороховой дым, и охотник увидел, что великан устало выпрямился и медленно переминается с ноги на ногу – голова слона опустилась под тяжестью окровавленных клыков, хобот повис так же безжизненно, как правая рука охотника. Слон издал странный протяжный звук, и из второй раны – вторая пуля прошла чуть ниже плечевого сустава – короткими равномерными толчками стала выплескиваться кровь, заливая тело густым потоком, вязким, как мед. Шаркая, будто смертельно усталый старик, слон медленно двинулся к залегшему за камнями охотнику. Кончик хобота судорожно подрагивал.
Майор попытался отползти, но слон двигался быстрее. Громадная туша заслонила небо, и хобот обвил лодыжку Зуги. Баллантайн яростно дернулся, но хобот сжался сильнее – чудовище могло с легкостью оторвать майору ногу, переломить его, словно спичку. Внезапно воздух с глухим протяжным стоном вырвался из разорванных легких слона, и железная хватка на ноге Зуги ослабла.
Слон умер стоя. Колени его подкосились, и он тяжело рухнул на землю.
Земля вздрогнула под распростертым телом майора. Грохот падения услышал и Ян Черут, только что выбравшийся из болота.
Зуга уронил голову и закрыл глаза, погружаясь во тьму.
Ян Черут не стал переносить раненого на другое место, а лишь соорудил над ним навес из молодых деревьев и мокрой травы и развел рядом на склоне два костра – над головой и в ногах – в ожидании носильщиков с теплыми одеялами. Готтентот помог майору сесть и ремнями притянул к телу раненую руку.
– Боже всемогущий, – простонал Зуга, доставая из швейного набора иголку с ниткой. – Я бы отдал оба бивня за добрый глоток виски.
Ян Черут держал зеркальце, а Баллантайн одной рукой стягивал швами рану на щеке. Он закрепил последний узел и, перерезав нить, откинулся на подстеленную накидку, резко пахнущую мокрым мехом и кожей.
– Умру, но не сдвинусь с места, – прошептал Зуга.
– Либо то, либо другое, – согласился Черут, сосредоточенно нанизывая на прутик ломти слоновьей печенки и сердца, обмазанные желтым жиром. – Идти или помирать тут в грязи.
Носильщики громко затянули погребальную песнь. Они собрали по клочкам растерзанное тело Мэтью, завернули в одеяло и скрепили веревками из коры. Плач и вопли должны были продолжаться всю ночь до самых похорон.
Ян Черут выгреб угли из костра и принялся печь мясо.
– До утра толку от них не будет, – деловито заметил он, – а нам надо еще бивни срезать.
– Мэтью это заслужил, – прошептал майор. – Он отвлек слона. Убеги он со вторым ружьем… – Зуга застонал – плечо взорвалось болью.
Он просунул здоровую руку под кожаное одеяло, на котором лежал, и сдвинул острые камни.
– Мэтью был хороший человек – глупый, но хороший, – согласился Черут, медленно поворачивая мясо над углями. – Будь он поумнее, обязательно убежал бы… Завтра потратим день на похороны и бивни, а потом нужно идти дальше.
Своего слона готтентот прикончил на равнине, под раскидистыми ветвями гигантской акации. Туша старого великана лежала на боку в нескольких шагах от навеса и уже начала раздуваться от скопившихся газов – передние ноги встали торчком над серым шаром брюха. Бивни были невероятной величины: толщиной с девичью талию, в длину футов десять, а то и больше. Зуга до сих пор, глядя на них, с трудом верил своим глазам.
– На сколько они потянут? – спросил он Яна Черута.
Сержант пожал плечами.
– Такого громадного слона я в жизни не видел, – признался он. – Бивень придется втроем тащить.
– Фунтов двести? – не унимался Зуга. Разговор отвлекал его от боли в плече.
– Больше, – покачал головой Черут. – Такого слона уже не встретишь.
– Да, – согласился Зуга. – Таких больше нет.
К боли в руке примешалось глубокое сожаление – о великолепном звере и о храбром человеке, погибшем вместе с ним. Заснуть майору так и не удалось.
На заре маленький отряд собрался под моросящим дождем, чтобы похоронить Мэтью. Встав на ноги с помощью слуг и пристроив больную руку на подвеске из коры, Зуга с трудом взобрался по склону к могиле.
Рядом с покойным положили его пожитки: топор, копье, чашку для воды и калебас для пива, чтобы скрасить ему долгую дорогу на небеса. Распевая протяжные погребальные гимны, туземцы обложили могилу камнями, чтобы до тела не добрались гиены. На этом похороны закончились.
Зуга, шатаясь, добрел до навеса, где снова завернулся в сырое одеяло. У него оставался всего один день на то, чтобы собраться с силами, – на заре предстояло выступать. Майор закрыл глаза, но заснуть никак не мог: мешал стук топоров – слуги под наблюдением сержанта вырубали бивни из черепа старого слона. Баллантайн перевернулся на спину и застонал, ощутив под плечом острый камень. Просунув руку под одеяло, он вытащил обломок и уже было отбросил его в сторону, но внезапно внимательно вгляделся в камень – белоснежный кусок породы блестел, как кусок сахара, который Зуга так любил в детстве, однако внимание майора привлекла вовсе не красота находки.
Даже в полумраке легко было заметить тонкую неровную жилку, которая извивалась между кристалликами кварца, поблескивая золотыми искорками. Зуга зачарованно уставился на камень, поворачивая его так и эдак. Ему казалось, что все это сон.
Обретя наконец дар речи, он прохрипел что-то нечленораздельное, с трудом раздвигая опухшие, обожженные порохом губы. Лицо его перекосилось, правый глаз превратился в узкую щель над распухшей посиневшей щекой. Под навес заглянул Ян Черут.
– Могила, – лихорадочно прошептал Зуга. – Могила Мэтью… почему ее так быстро выкопали?
– Нет, – возразил Черут, – она уже была. На склоне много таких ям.
Ошарашенный Зуга с трудом верил в реальность происходящего. То, что он искал, было совсем рядом, а он чуть не прошел мимо! Майор поспешно выбрался из-под одеяла.
– Помоги! – воскликнул он. – Я хочу посмотреть. Покажи мне эти дыры.
Опираясь на руку сержанта, под дождем, еле волоча ноги, Баллантайн долго бродил по гребню холма. Удовлетворившись осмотром, он кое-как доковылял до навеса и при угасающем свете дня лихорадочно черкал в дневнике неразборчивыми каракулями, коряво выводя слова левой рукой и заслоняя страницы от дождя собственным телом:
«Я назвал их шахтами Харкнесса, так как они очень похожи на древние выработки, которые описывал Том. Золотоносная жила состоит из белого кварца и проходит вдоль гребня холма. Похоже, узкая, но богатая, золото попадается во многих образцах. Рана не позволяет мне разбить камни и промыть песок, но содержание золота в кварце явно больше двух унций на тонну. В склоне горы я насчитал четыре штрека, но могут быть и другие, скрытые кустарником; к тому же шахты пытались засыпать – видимо, для того, чтобы спрятать.
Штреки тесные, щуплый человек вползет в них только на четвереньках. Должно быть, древние использовали труд детей-рабов, и условия труда в этих кроличьих норах наверняка были адскими. Так или иначе, углубиться они могли лишь до уровня грунтовых вод, и в отсутствие насосов для откачки воды шахту приходилось оставлять. Под землей, без сомнения, осталось много золотоносной породы, которую можно добывать современными методами.
Каменный отвал, на котором стоит моя хижина, почти целиком состоит из золотоносной породы, которую осталось лишь раздробить и промыть. Возможно, древние шахтеры бежали под натиском врага, не успев закончить работу.
Я лежу на золотом ложе, как царь Мидас, окруженный сокровищами; однако, как и этот неудачливый царь, проку в них сейчас никакого не вижу…»
Зуга отложил перо, чтобы согреть над костром закоченевшие руки, вздохнул и приписал в конце:
«У меня огромный запас слоновой кости, но он рассеян по всей стране, зарытый в тайниках. У меня больше полусотни фунтов чистого золота в слитках и самородках, я нашел невероятно богатую золотоносную жилу, но не могу купить даже фунта пороху или мазь для ран. Завтра станет ясно, хватит ли у меня сил продолжить путь на юг или мне суждено навеки остаться здесь, в компании Мэтью да старого слона».
Разбудил его Ян Черут. Зуга просыпался с трудом, словно выплывая из холодных темных глубин. Поднявшись наконец на поверхность, он сразу понял, что вчерашние мрачные опасения, записанные в дневник, сбылись. Ноги ослабели и отказывались повиноваться, а сведенные судорогой мускулы плеча и руки застыли, точно каменные.
– Оставьте меня здесь, – сказал он Черуту.
Готтентот силой усадил его, не обращая внимания на стоны, и заставил выпить горячего бульона из слоновьих мозговых костей.
– Оставьте мне ружье, – пробормотал майор.
– Теперь вот это! – Слуга всыпал ему в рот горький белый порошок.
Двое носильщиков подняли раненого на ноги.
– Этот камень я оставляю. – Сержант указал на запакованную статую. – Мы не можем нести вас обоих.
– Нет! – яростно прошипел Зуга. – Птица будет со мной.
– Но как?
Зуга стряхнул руки туземцев.
– Я пойду сам, – сказал он. – Несите сокола.
В тот день отряд не прошел и пяти миль, но на следующее утро выглянувшее солнце разогрело измученные мышцы майора, и экспедиция двинулась быстрее.
Вечером они разбили лагерь в саванне, среди густой травы. Зуга отметил в дневнике десять миль пройденного пути.
Наутро он самостоятельно выбрался из-под одеял и встал на ноги. Опираясь на костыль, майор доковылял до калитки в колючей ограде и вышел наружу. От хинина и лихорадки моча потемнела, но Зуга уверился, что поправляется и сможет продолжить путь.
Баллантайн взглянул на небо: скоро пойдет дождь, нужно выходить немедленно. Решив было вернуться в лагерь и поднять носильщиков, он вдруг заметил какое-то шевеление в высокой густой траве. Казалось, мимо лагеря проходит огромное стадо страусов: странное шевеление наполняло всю равнину, пушистые верхушки травы шелестели и качались, то тут, то там мелькали птичьи перья. Движущаяся полоса охватывала спящий лагерь кольцом.
Зуга замер и следил за происходящим, опираясь на костыль. Он ничего не понимал, в голове еще не полностью прояснилось после сна и лихорадки. Полоса ожившей травы окружила лагерь, и вокруг снова воцарились тишина и покой. Неужели привиделось?
Откуда-то раздался тихий переливчатый свист, словно запела свирель, и движение сразу возобновилось, неотвратимое и зловещее, как рука душителя на горле. Теперь Зуга ясно разглядел страусовые перья: белоснежные и угольно-черные, они качались и плясали над верхушками травы, а следом появились боевые щиты, длинные овальные щиты из пятнистых черно-белых коровьих шкур. Длинные щиты – матабеле.
Ужас засел в груди холодным тяжелым комком, однако майор шестым чувством понимал, что выказать его равносильно смерти, смерти в тот самый миг, когда он снова поверил в жизнь.
Он обвел быстрым взглядом сжимавшееся кольцо воинов, их было не меньше сотни. Нет, больше – сотни две матабелийских амадода в полном боевом убранстве. Над пятнистыми щитами виднелись только перья да глаза, в тусклом свете зари поблескивали широкие лезвия копий. Сплошное кольцо замыкалось, как рога быка, щит перекрывал щит – классическая тактика матабеле, самых сильных и безжалостных воинов, порожденных Черным континентом.
«Здесь пограничная стража короля Мзиликази убивает всех чужестранцев», – писал Том Харкнесс.
Зуга выпрямился и шагнул вперед, протягивая раскрытую ладонь к кольцу щитов.
– Я англичанин, офицер великой белой королевы Виктории! Мое имя Бакела, сын Манали, сына Тшеди. Я пришел с миром.
Из шеренги выступил воин: покачивающийся головной убор из страусовых перьев превращал его в гиганта. Он отбросил щит, открыв тело, стройное и мускулистое, как у гладиатора, с благородной осанкой и гордой посадкой головы. С плеч пучками свисали кисточки из коровьих хвостов – каждая получена от короля за доблесть. Короткая юбочка сшита из пятнистых хвостов дикой кошки. У воина было приятное, круглое, как луна, лицо истинного нгуни с широким носом и полными, рельефно очерченными губами.
Он серьезно и внимательно оглядел белого человека: рваные лохмотья, раненая рука на грязной повязке и костыль, на который Зуга опирался, как старик. От острых глаз матабеле не укрылись ни опаленная борода, ни обожженные порохом щеки, ни черные струпья на бледной опухшей щеке.
Воин рассмеялся звонким мелодичным смехом.
– А я матабеле, – сказал он, – индуна двух тысяч воинов. Мое имя Ганданг, сын Мзиликази, сына высоких небес, сына Зулу, и я пришел с сияющим копьем и горячим сердцем.
После первого же перехода Робин поняла, что серьезно переоценила силы и выносливость отца. Возможно, Зуга инстинктивно чувствовал то, о чем она, опытный врач, не догадывалась. При этой мысли она разозлилась на себя. Расставание усилило ее враждебность и чувство соперничества. Робин бесило, что мнение брата оказалось верным.
К полудню первого дня пришлось остановиться и разбить лагерь. Фуллер Баллантайн сильно ослаб и выглядел хуже, чем при первой встрече. У него был жар, нога страшно распухла и болела так, что при малейшем прикосновении к натянутой бледной коже больной кричал и отбивался. Толчки и тряска при перемещении на носилках сделали свое дело.
Робин велела носильщикам снять с отца меховое одеяло и соорудить из зеленых веток и коры шину, чтобы наложить ее на ногу, а сама села возле носилок и приложила ко лбу страдальца прохладную влажную салфетку, разговаривая с Джубой и женщиной каранга. Не то чтобы они могли что-то посоветовать, просто беседа успокаивала.
– Наверное, все-таки стоило остаться в пещере, – вздыхала Робин. – В ней хотя бы удобнее, но сколько бы нам пришлось там сидеть? – Она размышляла вслух. – Скоро сезон дождей. Нет, оставаться было нельзя, и даже теперь, если идти так же медленно, дожди застанут нас в пути. Надо двигаться быстрее, но как перенесет это он?
На следующий день Фуллер Баллантайн несколько приободрился, лихорадка его немного ослабла, и они шли весь день, но к вечеру больному стало хуже.
Робин сняла повязку. Нога беспокоила отца меньше, однако цвет кожи вокруг язв изменился. Доктор поднесла намокшую повязку к носу и ощутила запах, о котором не раз предупреждал преподаватель медицины в Сент-Мэтью: не обычный запах гноя, а всепроникающее зловоние – вонь разлагающегося трупа. Робин бросила повязку в огонь и с тревогой осмотрела больного. По внутренней стороне бедра, начиная от паха, по тонкой бледной коже протянулись характерные алые полосы, а недавняя повышенная чувствительность бесследно исчезла. Более того, отец, похоже, совсем не чувствовал ногу.
Доктор пыталась уверить себя, что перемены к худшему не связаны с беспокойством от носилок, но в чем же тогда дело? Ответа она не знала. Перед выходом в путь все было в порядке, язвы стабилизировались – ведь с тех пор, как пуля работорговца раздробила кость, минуло почти восемнадцать месяцев. Значит, носилки.
Робин чуть не плакала: надо было слушать Зугу. Газовая гангрена, и целиком по ее вине. Она втайне надеялась, что ошибается, но симптомы не вызывали сомнений. Оставалось лишь продолжать путь, уповая на то, что отец попадет в цивилизованный мир прежде, чем болезнь приведет к неизбежной развязке, однако в душе Робин понимала, что все надежды тщетны. Она так и не смогла в отличие от большинства знакомых врачей развить в себе способность философски примиряться с неизбежным перед лицом болезни или увечья, излечить которые медицина не в силах. Ощущение беспомощности выводило ее из себя, особенно на этот раз – ведь пациентом был родной отец.
Робин наложила на ногу горячий компресс, понимая, сколь жалки ее потуги – все равно что пытаться остановить прилив стеной песка. Наутро нога стала прохладнее на ощупь, плоть потеряла упругость, и под пальцами оставались вмятины, словно на мягком хлебе. Запах усилился.
Они сделали целый дневной переход. Робин шла рядом с носилками. Фуллер Баллантайн не двигался, словно мертвый, и больше не распевал псалмов и не возносил яростных молитв. Робин утешалась тем, что он хотя бы не чувствует боли.
К концу дня они вышли на широкую дорогу, что тянулась с востока на запад и в точности соответствовала описанию отца. Увидев ее, Джуба разразилась слезами и от ужаса не могла сдвинуться с места. Неподалеку оказалось покинутое поселение с ветхими хижинами – возможно, им пользовались работорговцы. Робин велела разбить там лагерь, оставила женщину и дрожащую от страха Джубу ухаживать за больным и взяла с собой на разведку только Карангу, который вооружился длинным копьем.
В двух милях от поселка тропа круто поднималась и исчезала в седловине меж двух невысоких холмов. Не здесь ли проходит та самая Дорога гиен, путь невольников, о котором со слезами рассказывала Джуба, и если да, то как это доказать?
Первое доказательство нашлось в траве в нескольких шагах от дороги – двойное ярмо, вырубленное из развилки дерева и грубо обтесанное топором. Робин изучала рисунки в дневнике отца и сразу поняла, что это такое. Когда у работорговцев нет цепей и наручников, они надевают невольникам на шею такое ярмо и двое рабов оказываются прикованными друг другу. Они все делают вместе: идут, едят, спят – но только не убегают.
Теперь от тех, кто когда-то носил это ярмо, остались лишь обломки костей, обглоданные грифами и гиенами. Грубо вырезанное приспособление вселяло ужас, и доктор не решалась прикоснуться к ярму. Робин произнесла короткую молитву за несчастных погибших рабов и повернула назад в лагерь.
Той же ночью она собрала на совет готтентотского капрала, старого Карангу и Джубу.
– Лагерем и дорогой не пользовались столько. – Каранга дважды показал Робин обе руки с растопыренными пальцами. – Двадцать дней.
– В какую сторону они шли? – спросила Робин.
Она доверяла умению старика читать следы.
– Они шли к восходу солнца и еще не вернулись, – проскрипел Каранга.
– Он прав, – подтвердила Джуба, с видимым усилием соглашаясь с тем, кого она презирала. – Это последний караван перед приходом дождей. Когда реки наполнятся, торговли не будет и Дорога гиен зарастет травой до следующей засухи.
– Значит, впереди идет караван работорговцев, – задумчиво произнесла Робин. – Если их нагнать…
– Это невозможно, госпожа, – перебил капрал. – Они опережают нас на три недели.
– Тогда встретимся с ними на обратном пути, когда они продадут рабов и вернутся.
Капрал кивнул, и Робин спросила:
– Если работорговцы нападут на колонну, вы сможете нас защитить?
– Я и мои люди, – капрал вытянулся во весь рост, – справимся с сотней грязных работорговцев. – Он помолчал и добавил: – А вы, госпожа, стреляете, как солдат!
Робин улыбнулась.
– Хорошо, – кивнула она. – Пойдем к морю этой дорогой.
Капрал радостно ухмыльнулся:
– Меня тошнит от этой страны с ее дикарями. Скорее бы увидеть облака на Столовой горе и промочить горло добрым глотком «Кейп смоук»!
Самец гиены был стар. Его густая косматая шкура изобиловала проплешинами, плоская, почти змеиная, голова покрылась шрамами, а уши он оторвал, продираясь через терновник и участвуя в сотнях драк с сородичами над разлагающимися трупами людей и животных. В одной из стычек ему разорвали губу до самых ноздрей, и она зажила криво – желтые верхние зубы с одной стороны блестели в отвратительной усмешке.
Клыки его истерлись от старости, и он уже не мог разгрызать крупные кости, составляющие основу рациона гиен. В драках от него толку не было, и стая изгнала бесполезного старика.
Колонна работорговцев прошла по дороге давно, и человеческих трупов уже не осталось, а дичь в этой засушливой местности найти было непросто. С тех пор приходилось кормиться лишь свежим пометом шакалов и бабуинов да гнездами полевых мышей, а иногда удавалось найти брошенное протухшее яйцо страуса. От удара лапы оно взрывалось, выбрасывая бурлящий фонтан зловонной жидкости.
Однако, несмотря на вечный голод, старый самец достигал в холке трех футов и весил полторы сотни фунтов. Брюхо под спутанной клочковатой шерстью было впалое, как у гончей. По спине от нескладных высоких плеч к тощим задним лапам спускался костистый гребень.
Как обычно, старик, опустив нос к земле, принюхивался в поисках падали или отбросов, но налетевший ветерок заставил его задрать голову и изуродованными ноздрями втянуть воздух.
Пахло древесным дымом и человеком, что само по себе сулило пищу, однако резче и яснее других был запах, от которого с искалеченных, покрытых шрамами челюстей тягучими серебристыми нитями потекла слюна. Старый самец неуклюжей рысцой затрусил навстречу ветру, доносившему волны самого соблазнительного для гиен аромата – сладковатого зловония разложившейся плоти.
Гиена залегла неподалеку от лагеря за кустиком жесткой слоновьей травы, наблюдая за силуэтами, мелькающими у дымных сторожевых костров. Она лежала по-собачьи, положив морду на передние лапы и поджав пушистый хвост. Рваные огрызки ушей подергивались, ловя звуки человеческих голосов, случайный лязг ведра, стук топора по дереву. Легкий ветерок то и дело доносил восхитительный аромат тления, и гиена принюхивалась, с трудом подавляя жадное повизгивание, рвавшееся из горла.
Вечерние тени сгустились. Из лагеря вышла полуобнаженная черная женщина и направилась прямо к тому месту, где спряталась гиена. Зверь подобрался было для прыжка, но Джуба остановилась и внимательно осмотрелась. Никого не заметив, она приподняла подол расшитого бисером передника и присела на корточки. Вжавшись в землю, гиена пристально следила за ней. Женщина встала и вернулась в лагерь, и тогда зверь, осмелев с приближением ночи, подполз и сожрал ее испражнения. Съеденное разожгло аппетит, и, когда опустилась тьма, самец раздул грудь, задрал пушистый хвост и протяжно визгливо завыл. Никто из обитателей лагеря даже не обернулся, давно привыкнув к подобным ночным звукам.
Постепенно движение у хижин стихло, людские голоса замирали, пламя костров тускнело. Темнота наползала на лагерь, а вслед за ней ползла и гиена. Внезапные громкие голоса дважды заставляли ее галопом скрываться в кустах, но едва наступала тишина, зверь набирался смелости и полз дальше. Уже далеко за полночь гиена отыскала в колючей изгороди слабое место и пролезла внутрь.
Запах вел к открытому навесу в центре огороженной площадки. Припав брюхом к земле, зверь, похожий на огромную собаку, подкрадывался все ближе и ближе.
Измученная усталостью, тревогой и чувством вины, Робин уронила голову на скрещенные руки и уснула, сидя на земле у носилок отца.
Ее разбудил пронзительный крик больного. Лагерь окутывала непроглядная тьма, и на миг Робин почудилось, что это ночной кошмар. В панике она вскочила на ноги, не понимая, где находится, и споткнулась о носилки. Руки наткнулись на что-то большое и волосатое, от которого исходил запах смерти и экскрементов, тошнотворно смешиваясь со зловонием отцовской ноги.
Робин взвизгнула от ужаса, и зверь зарычал – приглушенно, сквозь стиснутые челюсти, как большая собака, грызущая кость. Тем временем крики старика подняли на ноги весь лагерь, кто-то бросил в пепел сторожевого костра пучок сухой травы. После кромешной тьмы оранжевое пламя показалось ярким, как полуденное солнце.
Огромный горбатый зверь тащил Фуллера из носилок вместе с грудой одеял, вцепившись ему в ноги. Робин слышала, как трещат кости, зажатые в страшных челюстях. Обезумев от ужаса, она схватила топор, лежавший возле кучи дров, и рубанула изо всех сил по темному бесформенному телу.
Получив удар, зверь сдавленно взвыл, однако темнота и голод придавали ему смелости. Сквозь одеяла сочился тот самый лакомый запах, и, ощутив его, гиена не собиралась выпускать добычу.
Старый самец оскалился и зарычал. В свете пламени большие круглые глаза сверкнули желтым огнем, ужасные желтые клыки вцепились в рукоятку топора, как челюсти капкана, в каком-нибудь дюйме от пальцев Робин. Зверь вырвал топор у нее из рук, отвернулся и вновь сжал челюсти на хрупком истерзанном теле. Истощенное тело старика весило не больше детского, и гиена быстро поволокла его к пролому в колючей изгороди.
Продолжая звать на помощь, Робин рванулась следом. Она схватила отца за плечи, а гиена вцепилась ему в живот. Тело Баллантайна дергалось между ними. Зверь присел на задние лапы и вытянул шею, кромсая тупыми желтыми клыками живот несчастного старика.
Капрал-готтентот, не успев застегнуть брюки, подбежал к огню, размахивая ружьем.
– Помогите! – визжала Робин.
Ноги ее скользили в пыли, она не могла больше удерживать отца, а гиена уже достигла пролома в изгороди.
– Не стрелять! – завопила Робин. – Не стрелять!
Выстрел мог наделать больше бед, чем клыки зверя.
Капрал подбежал и ударил гиену ружейным прикладом по голове. Дерево глухо стукнуло о кость, и хищник разжал челюсти. Природная трусость наконец взяла верх над жадностью, гиена неуклюже продралась сквозь колючки и исчезла в ночи.
– Боже милосердный, – прошептала Робин. – Разве он мало страдал?
Фуллер Баллантайн прожил всю ночь, но через час после рассвета этот крепкий и упорный человек наконец расстался с жизнью, так и не придя в сознание. С ним умерла легенда, ушла целая эпоха. Убитая горем дочь обмыла хрупкую бренную оболочку отца и обрядила тело для похорон, глядя на себя и на него словно со стороны. Все происходящее казалось ей нереальным.
Старика похоронили у подножия высокого дерева мукуси. Надпись на коре Робин вырезала сама:
Фуллер Моррис Баллантайн.
3 ноября 1788 – 17 октября 1860.
«В то время были на земле исполины…»
Ах, если бы она могла высечь эти слова в мраморе! Забальзамировать тело, отвезти куда должно – в Вестминстерское аббатство. Если бы он очнулся и узнал ее перед смертью, она бы хоть немного облегчила его страдания. Робин терзалась от горя, ее мучило чувство вины.
Три дня они не сворачивали лагерь близ Дороги гиен, и все три дня Робин провела у свежего могильного холма под деревом мукуси, прогнав даже старого Карангу и маленькую Джубу. Робин хотелось побыть одной.
На третий день она опустилась на колени возле могилы и произнесла: «Клянусь твоей памятью, дорогой отец, что, как и ты, я посвящу всю жизнь этой земле и ее людям».
Робин поднялась на ноги и стиснула зубы. Время траура миновало, теперь следует выполнить свой долг – спуститься по Дороге гиен к морю и донести до всего мира свидетельство о чудовищах, которые ею пользуются.
Когда львы выходят на охоту, антилопы это чувствуют и их охватывает беспокойство: они щиплют траву урывками, то и дело вскидывают рогатые головы и застывают каменным изваянием, ловя каждый звук широкими, с раструбом, ушами, а затем с настороженным фырканьем рассыпаются по травянистой равнине, как горсть брошенных игральных костей, и вновь собираются вместе. Животные ощущают опасность, но не всегда могут определить, с какой стороны она приближается.
Старый Каранга обладал тем же инстинктом – машона, «пожиратель грязи», он и сам всю жизнь был дичью, а потому первым почувствовал близкое присутствие матабеле. Он вдруг замолк и стал чаще посматривать по сторонам, чем заразил и остальных носильщиков.
Старик подобрал в траве обломанное перо страуса и долго вертел его в руках, поджимая губы и что-то бормоча. Похоже, перо выпало не из крыла птицы.
Ночью он высказал свои страхи Робин.
– Они здесь, убийцы женщин, похитители детей… – Старик презрительно сплюнул в костер, но его храбрость была пустой, как ствол мертвого дерева.
– Ты под моей защитой, – успокоила его Робин. – Ты и весь караван.
Боевой отряд матабеле появился, как всегда, на рассвете.
Воины словно выросли из-под земли – могучая фаланга пятнистых щитов и качающихся перьев окружила лагерь. В первых лучах солнца блестели широкие лезвия ассегаев.
Старый Каранга растворился в ночи, с ним исчезли и все носильщики. В лагере не осталось никого, кроме готтентотов. Тем не менее предостережения Каранги не прошли даром: солдаты выстроились за колючей оградой с ружьями на изготовку, примкнув штыки.
Матабеле стояли неподвижно, словно статуи из черного мрамора. Казалось, их тысячи и тысячи, хотя здравый смысл подсказывал Робин, что рассветные сумерки и разгоряченное воображение обманывают ее. «Сотня, от силы две», – решила она.
– Номуса, нам ничего не грозит, – шепнула Джуба. – Мы не на Выжженных землях, мой народ здесь не живет. Они нас не убьют.
Робин не чувствовала такой уверенности. Она поежилась, но не от утренней прохлады.
– Смотри, Номуса, – уверяла Джуба. – С ними юноши-носильщики, но многие амадода сами несут исибаму – ружья. Если бы они хотели напасть, то не стали бы нести их сами.
У некоторых воинов и в самом деле виднелись за плечами ржавые мушкеты, а Робин помнила из записок деда, что матабеле, затевая серьезный бой, отдают ружья носильщикам. Воины матабеле не доверяют огнестрельному оружию и плохо умеют пользоваться им, предпочитая испытанное оружие предков.
– Смотри, носильщики несут товары, это торговый отряд, – прошептала девушка.