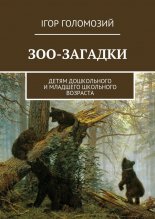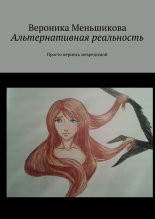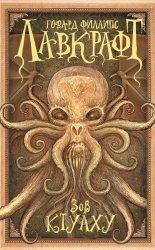Полет сокола Широков Алексей

– Твое дело – разбить лагерь, – холодно ответил Зуга.
Португалец пожал плечами, оскалившись в неизменной улыбке.
– Я чертовски хорошо разбивать – увидишь.
Едва майор исчез среди деревьев, как улыбка Камачо растаяла, он откашлялся и сплюнул в пыль. Рабочие, толпясь, натягивали брезент на шесты и таскали свежесрубленные ветки терновника, чтобы выстроить вокруг колючую изгородь для защиты от рыскающих в ночи львов и гиен.
Проводник стегнул чью-то голую черную спину:
– Пошевеливайся, мать твою и двадцать семь отцов!
Вскрикнув от боли, рабочий засуетился. Плеть из кожи гиппопотама оставила на блестящих от пота мышцах багровый рубец толщиной с палец.
Камачо зашагал к небольшой рощице, которую Зуга облюбовал для себя и сестры. Палатки уже стояли, а доктор, как всегда по вечерам, осматривала больных. Приближаясь, Камачо увидел, как она встала из-за складного походного стола и нагнулась, чтобы осмотреть ногу носильщика, которому неловкий удар топора чуть не отрубил палец.
Португалец застыл на месте, в горле у него пересохло. С тех пор как экспедиция покинула Келимане, женщина не снимала мужских брюк. Они соблазняли больше, чем даже обнаженная плоть. Камачо впервые видел белую женщину в таком наряде и не мог отвести глаз. Всякий раз, заметив Робин, он исподтишка наблюдал за ней, с жадностью поджидая момент, когда она нагнется и ткань на ягодицах натянется – так, как сейчас. К сожалению, длился вожделенный момент недолго: доктор выпрямилась и стала что-то говорить черномазой девчонке, с которой обращалась скорее как с подругой, чем со служанкой.
Камачо прислонился к стволу высокого дерева умсиву. Устремив на женщину затуманенный взор, он тщательно взвешивал последствия того, о чем мечтал каждую ночь. В воображении все виделось в мельчайших подробностях: каждый взгляд, слово, движение, каждый вздох и вскрик… На самом деле все было не так уж и невозможно, как казалось на первый взгляд. Да, она англичанка и дочь знаменитого миссионера, и это серьезное препятствие… но Камачо имел настоящий нюх на женщин. В ее глазах и полных мягких губах сквозила чувственность, и двигалась она со звериной грацией. Переминаясь с ноги на ногу, португалец глубоко засунул руки в карманы и принялся гладить себя, все более возбуждаясь.
Он прекрасно знал, что красив настоящей мужской красотой – густые черные кудри, шальные цыганские глаза, ослепительная улыбка, сильное, хорошо сложенное тело. Привлекательный, даже неотразимый, он не раз видел, что доктор бросала на него по-женски оценивающий взгляд. Смешанная кровь часто привлекала белых женщин; в проводнике была экзотика, притягательность запретного и опасного, а в сестре майора чувствовалось бесстрашное пренебрежение к общественным условностям… «Что ж, пожалуй это возможно, – решил Камачо, – едва ли еще представится такой удобный случай: чопорный братец появится через час, а то и позже».
Очередь больных носильщиков иссякла, служанка принесла в палатку чайник с кипятком, и доктор задернула полог.
Камачо следил за этим ритуалом каждый вечер. Однажды масляная лампа отбросила тень доктора на брезент, и он увидел силуэт – женщина спустила неудобные брюки, потом взяла губку и… Португальца пробрала сладостная дрожь, и он решительно оттолкнулся от ствола дерева.
Робин разбавляла кипяток из чайника в эмалированном тазу. Ей нравилась вода погорячее, чтобы кожа краснела, усиливая ощущение чистоты. Вздохнув от приятной усталости, она расстегнула фланелевую рубашку, как вдруг в брезент палатки кто-то поскребся.
– Кто там? – резко спросила доктор.
Узнав тихий голос, она тревожно вздрогнула.
– Что вам нужно?
– Хочу с вами поговорить, миссус.
– Не сейчас, я занята.
Этот мужчина вызывал у нее отвращение и в то же время привлекал. Робин не раз ловила себя на том, что разглядывает его как красивое, но ядовитое насекомое. Ее раздражало, что проводник это замечает: к такому наверняка опасно выказывать малейший интерес.
– Приходите завтра. – Она вдруг сообразила, что Зуги в лагере нет, а маленькую Джубу она отослала с поручением.
– Не могу ждать, я заболел.
Деваться было некуда.
– Хорошо, подождите.
Застегнув рубашку, доктор, оттягивая неприятный момент, стала перекладывать инструменты, разложенные на столе. Прикосновение к ним успокаивало, сообщало уверенность.
– Войдите, – наконец решилась Робин и обернулась.
Камачо, пригнувшись, вошел, и она впервые ощутила, как он массивен. Проводник словно заполнял собой всю палатку; его зубы, белоснежные и идеально ровные, светились в полумраке. Робин поймала себя на том, что пялится на него, как цыпленок на танцующую кобру. Он был красив какой-то преувеличенной, фальшивой красотой: пышные черные кудри развевались, взгляд черных глаз обжигал.
– Что случилось? – спросила Робин, стараясь говорить сухо и деловито.
– Я покажу.
– Давайте, – кивнула она, и Камачо расстегнул рубашку.
Его кожа темно-оливкового цвета блестела, как влажный мрамор, а волосы на груди курчавились тугими завитками. Живот поджарый, как у борзого пса, талия по-девичьи тонкая. Робин рассматривала мужское тело, как ей казалось, ровным профессиональным взглядом, хотя не могла не отметить, насколько великолепный образчик стоит перед ней.
– Где? – спросила Робин, и португалец одним движением расстегнул и спустил легкие парусиновые брюки – под которыми ничего не было. – Где? – переспросила она.
Голос дрогнул. До нее наконец дошло, что все это тщательно спланированная ловушка и положение очень опасно.
– Болит здесь? – уточнила Робин хриплым шепотом.
– Да, – тоже шепотом проговорил Камачо, медленно поглаживая себя. – Сможешь помочь?
Он сделал шаг вперед.
– Конечно… смогу, – выдавила Робин, шаря рукой по столу с инструментами.
Она почувствовала укол совести – демонстрируемый орган являл собой настоящий шедевр природы – и обрадовалась, когда под руку попался игольчатый зонд, а не острый как бритва скальпель.
За миг до удара Камачо понял, что сейчас произойдет, и его точеное смуглое лицо побелело от ужаса. Он отчаянно пытался убрать то, что достал, но рука онемела от страха.
Зонд попал в цель, и португалец завизжал, как девчонка, завертевшись на месте, словно одну ногу пригвоздило к полу. Он прижал к паху обе руки, и Робин с холодным профессиональным интересом заметила, что смотреть там уже особо не на что.
Увидев, что зонд снова готов к бою, Камачо позорно капитулировал. Подвывая от боли, он поспешно подхватил штаны и бросился к выходу, врезавшись головой в опорный столб палатки. Удар задержал его всего лишь на секунду – португальца и след простыл. Робин тряслась, чувствуя при этом странное ликование. Неожиданное приключение оказалось весьма поучительным, хотя записывать его в дневник пришлось в шифрованном виде.
После того вечера португалец обходил доктора стороной, и Робин с облегчением избавилась от жаркого мужского взгляда, ласкавшего ее на каждом шагу. Сначала она думала рассказать о случившемся брату, но затруднялась подобрать слова и не хотела смущать его. Кроме того, неизвестно, как поведет себя Зуга, за холодной сдержанностью которого, похоже, скрывались тайные страсти и темные чувства. В конце концов, они родные брат и сестра, и если ее это так взбесило, почему он должен отреагировать иначе?
С другой стороны, Робин подозревала, что португалец, как загнанный в угол дикий зверь, представлял смертельную угрозу даже для опытного солдата и храбреца. Разоблачение способно привести к ужасным последствиям, к серьезным ранениям, если не к смерти брата, а Камачо и так больше не доставит хлопот, она справилась с ним сама. Таким образом, Робин выкинула инцидент из головы и целиком отдалась радостям путешествия вверх по реке, до конца которого оставалось всего несколько дней.
Река стала уже, течение быстрее, и продвижение каравана барж замедлилось еще больше. Окружающие виды все время менялись. Сидя рядом с сестрой под навесом, Зуга писал или делал зарисовки, а она показывала ему на незнакомых птиц, зверей и деревья и слушала объяснения, интересные и подробные, хотя сведения обо всем он, разумеется, черпал только из книг.
Холмы проплывали рядами петушиных гребней, сквозь которые колдовским сиянием пробивался рассвет. Солнце поднималось выше, и краски постепенно тускнели, переходя в эфирную голубоватую белизну яичной скорлупы и растворяясь в жаркой полуденной дымке, а к концу дня загорались новыми оттенками – бледно-розовыми, пепельно-сиреневыми, нежно-абрикосовыми.
Лес, ограниченный холмами, узкой полосой обрамлял берега. Стройные колонны деревьев рядами уходили ввысь, сплетаясь раскидистыми кронами, в которых резвились стаи зеленых мартышек. Стволы пестрели многоцветными лишайниками – сернисто-желтыми, ярко-оранжевыми и сине-зелеными, как летнее море. Спутанные лианы – в детстве Робин называла их «обезьяньими веревками» – ниспадали каскадами с верхних ветвей, касаясь поверхности воды или исчезая в густом темно-зеленом подлеске.
По ту сторону леса на холмах тут и там мелькали деревья, росшие на другой, более сухой почве, и Робин ощутила болезненный укол ностальгии, заметив вдали уродливый баобаб с жалким пучком голых веток на толстом раздутом стволе. По африканской легенде, которую так часто рассказывала мать, Нкулу-кулу, великий прародитель, посадил баобаб вверх тормашками, корнями в воздух.
Почти на каждом баобабе среди голых ветвей виднелось гнездо крупной хищной птицы – ворох сухих прутьев и веточек, похожий на стожок сена, висящий в воздухе. Хозяева чаще всего сторожили гнездо, застыв неподвижно на толстом суку, или парили широкими кругами, время от времени лениво взмахивая широкими крыльями и ловя воздушные течения кончиками маховых перьев, как пианист, пробующий клавиши инструмента.
Вдоль этого участка реки животных попадалось очень мало – лишь изредка спешила укрыться в зарослях пугливая антилопа, позволяя мельком разглядеть длинные, закрученные штопором рога или белый хвостик, похожий на пуховку для пудры. В здешних местах уже лет двести непрерывно велась охота, если не самими португальцами, то их вооруженными слугами. Зуга поинтересовался у Камачо, водятся ли здесь слоны, на что тот сверкнул улыбкой и гордо объявил: «Если я их находить, то убивать!» На этом оживленном водном пути подобное отношение к животным разделял едва ли не каждый путешественник, что и объясняло пугливость и скудность дичи.
Камачо развлекался стрельбой по орлам-рыболовам, которые восседали, словно на насесте, на ветвях, нависавших над водой. Птицы имели такие же белоснежные голову, грудь и плечи, как всем известный американский белоголовый орлан, и красивую красновато-коричневую и иссиня-черную окраску тела. Самодовольный хохот Камачо то и дело возвещал об удачном выстреле, и очередная жертва, неловко подвернув непропорционально широкие крылья, шлепалась замертво в зеленую воду, мгновенно теряя свое царственное достоинство под ударом свинцовой пули.
Лишь через несколько дней племянник губернатора избавился от нелепой походки, которой наградила его Робин, а смех его вновь обрел привычную звонкость. Однако раненая гордость и задетое мужское достоинство заживали гораздо медленнее. Вожделение португальца сменила жгучая ненависть, и чем дольше он переживал, тем сильнее она разъедала его душу и заставляла мечтать о мести. Однако личные соображения приходилось отодвинуть в сторону – молодому Перейре предстояла важная миссия. Губернатор Келимане оказал племяннику высокое доверие, и о прощении в случае провала говорить не приходилось. На кону стояли большие деньги, не говоря уже о чести семьи. Семейное же состояние резко пошло на убыль с тех пор, как Португалию вынудили соблюдать Брюссельский договор, и то немногое, что осталось, следовало сохранить любой ценой. Неписаный девиз рода Перейра гласил: «Золото превыше чести, а честь – лишь до тех пор, пока она не мешает прибылям».
Дядя-губернатор со свойственной ему проницательностью сразу заподозрил, что его интересы поставлены под угрозу в этой английской экспедиции, возглавляемой отпрыском известного возмутителя спокойствия. Невероятный ущерб, нанесенный Фуллером Баллантайном, мог в результате лишь усугубиться, а истинные цели экспедиции были известны только самим путешественникам.
Заверения майора Баллантайна, что вояж организован ради поисков пропавшего отца, разумеется, не заслуживали никакого доверия. Слишком простое и прямолинейное объяснение, не характерное для англичан. Одно снаряжение обошлось в несколько тысяч фунтов – сумма огромная, никак не соразмерная с доходами молодого армейского офицера и состоянием семьи миссионера, чьи тщетные попытки пройти по Замбези закончились бесчестьем и насмешками. Больной старик наверняка давным-давно сгинул в неизведанных дебрях Африки.
Нет, незваные гости явились с иными намерениями – и губернатор желал о них знать.
Тайная разведка, проводимая офицером британской армии по заданию его жадного до власти правительства? Кто знает, какие зловещие планы строят британцы – не собираются ли они покуситься на суверенную территорию славной Португальской империи? Алчность этой бесстыжей нации лавочников и торговцев не знает границ. Несмотря на их традиционный союз с Португалией, доверять им невозможно.
С другой стороны, если экспедиция и в самом деле частная, нельзя забывать, чей сын ею руководит. У папаши – глаз острее, чем у стервятника. Неизвестно, что отыскал старый черт в неведомой земле: гору из золота и серебра, мифическую Мономотапу с ее нетронутыми сокровищами – все возможно. А коли так, то наверняка нашел способ переслать весточку сынку. Между тем гора золота – это такая вещь, о которой губернатор совсем не прочь проведать.
Вдобавок, даже если о новых сокровищах речь не идет, есть и старые, которые нужно беречь, и обязанность Камачо Перейры – заставить путешественников обойти стороной места, хранящие секреты, неведомые властям в Лиссабоне. Племянник получил четкий приказ: расписать англичанину в красках неимоверные трудности путешествия в нежелательных направлениях, ссылаясь на болота, горные цепи, болезни, диких зверей и еще более диких людей, и, напротив, всячески расхваливать приятную местность с дружелюбным населением и неиссякаемыми источниками слоновой кости, которая лежит в другой стороне.
Если же такая тактика не пройдет – а майор Баллантайн выказывал все признаки высокомерия и упрямства, свойственные его нации, – то Камачо следует использовать любые другие доступные средства убеждения. И губернатор, и его племянник прекрасно понимали, что под этим подразумевается. Камачо слепо верил, что это единственный разумный образ действий. По ту сторону Тете признавался один-единственный закон – закон ножа, и Камачо всегда чтил его. Теперь он всячески смаковал эту мысль, находя неприкрытое презрение англичанина невыносимым, а отказ женщины – оскорбительным.
Он искренне верил, что причина такого отношения к нему и брата, и сестры лежит в его нечистом происхождении. Камачо всегда относился к этому болезненно, поскольку даже в португальских владениях, где смешанные браки были нередки, примесь негритянской крови тем не менее считалась позорной. Проводник был рад предстоящей работе – она не только смоет все перенесенные оскорбления, но и принесет хорошую добычу, от которой даже после дележки с дядей и остальными останется немало.
Снаряжение английской экспедиции стоило, с точки зрения португальца, целое состояние. Камачо при первом же удобном случае вдоль и поперек излазил нагруженные товарами баржи. Чего там только не было: огнестрельное оружие, ценные инструменты, хронометры и секстанты и даже походный сейф из кованой стали – англичанин держал его на замке и тщательно охранял. Один милосердный Господь знает, сколько там английских золотых соверенов, а если и не знает, то добрый дядюшка-губернатор – тем более, а значит, и делиться куда легче. Чем дольше Камачо об этом размышлял, тем с большим нетерпением дожидался прибытия в Тете и броска в неизведанные земли.
Крошечный городок Тете означал для Робин настоящую Африку, к возвращению в которую она так упорно стремилась и так усердно готовилась. Она даже обрадовалась, когда Зуга, занятый разгрузкой барж, отпустил ее одну.
– Разузнай дорогу, сестренка, а завтра пойдем туда вместе.
Робин снова переоделась в юбки – пусть маленький и заброшенный, Тете был все же клочком цивилизации, и лишний раз шокировать местных обитателей не хотелось. Впрочем, Робин вскоре забыла о неудобной одежде. Она шла по единственной пыльной улочке городка, где когда-то гуляли вместе мать с отцом, и рассматривала глинобитные строения, беспорядочно натыканные вдоль берега реки.
Остановившись в дверях одной из лавчонок, доктор обнаружила, что с хозяином вполне можно объясниться на смеси суахили, английского и нгуни – по крайней мере достаточно, чтобы выяснить, куда идти дальше.
Постепенно деревенская улочка превратилась в лесную тропинку, петлявшую среди акаций. Лес притих в полуденной жаре, смолкли даже птицы, Робин брела опустив голову, полная нахлынувших воспоминаний о давнем трауре. Среди деревьев мелькнуло что-то белое, и она остановилась, зная, что найдет впереди. Воспоминания на миг перенесли ее в детство, в серый ноябрьский день, когда она стояла рядом с дядей Уильямом, провожая уходящий корабль. Слезы туманили глаза, мешая разглядеть любимое лицо на переполненной палубе, а пропасть между кораблем и пристанью разверзалась все шире, как пролив между жизнью и смертью.
Стряхнув воспоминания, Робин двинулась вперед. Среди деревьев обнаружилось шесть могил – она не ожидала, что их будет так много, но вспомнила, что в отцовской экспедиции в Кабора-Басса четверо скончались от болезней, один утонул и один покончил с собой.
Могила, которую она искала, находилась чуть в стороне от остальных, обозначенная прямоугольником из белых речных камней. В изголовье стоял крест, отлитый из цемента и побеленный. В отличие от других могил здесь трава и сорняки были выполоты, побелка сияла, а в простой голубой вазе стоял букет увядших лесных цветов. Цветы сорвали всего несколько дней назад, что удивило Робин.
Она прочитала хорошо различимую надпись на кресте:
В память о ХЕЛЕН,любимой жене Фуллера Морриса Баллантайна.Родилась 4 августа 1814 года.Скончалась от лихорадки 16 декабря 1852 года.Да свершится воля Господня.
Робин прикрыла глаза, ожидая, пока из глубины поднимутся слезы, но они не приходили, потому что были пролиты много лет назад. Остались лишь обрывки воспоминаний, которые снова и снова кружились в сознании. Аромат клубники, которую они собирали в саду дяди Уильяма – маленькая Робин встает на цыпочки, сует матери в рот сочную красную ягоду, а потом съедает оставшуюся половинку… Робин свернулась калачиком под одеялом и сквозь дремоту слушает, как мать читает вслух при свете свечи… Школьные уроки, за кухонным столом зимой и на лужайке под вязами летом – как приятно было учиться, доставляя матери радость… Первая поездка на пони – руки матери удерживают ее в седле, потому что ноги слишком коротки и не достают до стремян… Прикосновение мыльной губки к спине – мать склонилась над железной сидячей ванночкой… Звук материнского смеха, а потом, ночью, ее плач за перегородкой возле кроватки…
И наконец, запах фиалок и лаванды, который щекотал ноздри, когда Робин в последний раз прижалась лицом к материнской груди.
– Мама, зачем ты уходишь?
– Потому что я нужна твоему отцу – он послал за мной.
Робин будто снова ощутила ту всепоглощающую ревность, смешанную с предчувствием неминуемой утраты. Она опустилась на колени в мягкую землю у могилы и стала шепотом молиться. Воспоминания нахлынули снова – счастливые и грустные, вперемешку. За все прошедшие годы она не чувствовала такой близости к матери.
Казалось, за молитвой прошла целая вечность, как вдруг на земле перед ней выросла тень. Робин вздрогнула и подняла глаза, возвращаясь из прошлого в настоящее.
Перед ней стояли женщина и ребенок. Негритянке с приятным, даже красивым, лицом было лет тридцать, хотя возраст африканцев трудно определить. Одежда европейская, возможно, с чужого плеча – поношенное платье с линялым рисунком, но безупречно чистое и накрахмаленное. Робин почувствовала, что женщина принарядилась специально к этому случаю.
Мальчик, хоть и носил короткую кожаную юбочку местного племени шангаан, явно не был чистокровным африканцем. Лет семи-восьми, не больше, крепкий на вид, светлоглазый, с пепельными волосами, он кого-то смутно напоминал.
В руках он держал небольшой букет желтых цветов акации. Мальчик робко улыбнулся Робин, потом опустил голову и принялся смущенно ворошить дорожную пыль ногой. Женщина дернула его за руку и что-то сказала, он нерешительно шагнул к Робин и протянул цветы.
– Спасибо, – машинально откликнулась она и поднесла букет к носу. Аромат был слабый, но приятный.
Подобрав юбки, незнакомка присела на корточки возле могилы, убрала увядший букет и протянула мальчику голубую вазу. Он вприпрыжку помчался к реке.
Женщина принялась усердно выпалывать ростки сорняков, потом аккуратно поправила беленые камни. По ее привычным движениям Робин сразу поняла, кто ухаживает за могилой.
Обе женщины хранили дружелюбное спокойное молчание. Встретившись взглядом, они улыбнулись друг другу, и Робин благодарно кивнула. Расплескивая воду из вазы, прибежал малыш, по колено перемазанный в грязи, но очень довольный собой. Он явно выполнял эту работу и раньше.
Женщина взяла у него сосуд и поставила на место. Они с мальчиком выжидающе взглянули на Робин, и она поставила букет акации в воду.
– Ваша мать? – тихо спросила африканка.
– Да. – Робин постаралась скрыть удивление, услышав родную речь. – Моя мать.
– Хорошая женщина.
– Вы ее знали?
– Простите?
Храбро начав разговор, африканка вдруг замялась, очевидно, исчерпав скудный запас английских слов. Беседа шла через пень-колоду, пока Робин не сказала что-то на языке матабеле. Незнакомка тут же радостно защебетала на языке, явно относящемся к группе нгуни: его склонения и словарь мало отличались от тех, к каким привыкла Робин, общаясь с юной Джубой.
– Вы матабеле? – спросила Робин.
– Ангони, – поспешно поправила женщина: эти близкородственные группы большой семьи нгуни соперничали и враждовали.
Африканка объяснила на своем напевном диалекте, что тридцать лет назад ее соплеменники, вытесненные на север с родных зеленых холмов Зулуленда, пересекли реку Замбези и завоевали земли вдоль северных берегов озера Малави. Там женщину продали одному из оманских работорговцев и в цепях отправили вниз по реке Шире. Когда она совсем ослабела от голода, лихорадки и тягостей долгого пути и не смогла идти дальше, ее расковали и оставили у дороги на съедение гиенам. Фуллер Баллантайн подобрал несчастную и взял в свой небольшой лагерь, где вылечил, окрестил и нарек именем Сара.
– Стало быть, недоброжелатели ошиблись, – засмеялась Робин и добавила по-английски: – Он обратил в христианство не одного человека.
Собеседница ничего не поняла, но охотно рассмеялась в ответ. Близились сумерки, и две женщины, а с ними полуголый мальчуган покинули маленькое кладбище и двинулись по тропинке к поселку. Сара продолжала рассказывать. Когда Фуллер Баллантайн вызвал из Англии жену и та прибыла в Тете вместе с остальными участниками экспедиции, он представил ей Сару личной служанкой.
Дойдя до развилки тропы, новая знакомая, чуть поколебавшись, пригласила Робин в свою деревню, расположенную неподалеку. Робин взглянула на солнце и покачала головой. Через час совсем стемнеет, и Зуга наверняка поднимет на ноги весь лагерь, если сестра к тому времени не вернется. Однако общение с африканкой и ее милым смышленым малышом доставляло доктору большую радость. Увидев, что Сара разочарована, Робин поспешно добавила:
– К сожалению, мне пора, но завтра в это же время я приду опять. Хочу еще послушать о матери и об отце.
Сара послала мальчика проводить новую знакомую до поселка. Пройдя несколько шагов, Робин взяла ребенка за руку. Он приплясывал на ходу, жизнерадостно болтая, и она сама развеселилась рядом с ним.
Не успели они дойти до окраины Тете, как опасения Робин подтвердились: навстречу шагал Зуга с «шарпсом» на плече в сопровождении сержанта Черута. Брат был явно сердит. Вздохнув с облегчением, он принялся выговаривать:
– Черт возьми, сестренка, ты нас всех с ума сведешь! Пять часов прошло!
Малыш, округлив глаза, уставился на Зугу. Ему никогда не приходилось видеть такого большого человека с властными манерами и грозным голосом. Великий вождь, не иначе. Детская ручонка выскользнула из пальцев Робин, мальчик попятился и пустился наутек, как воробей от парящего ястреба.
Посмотрев вслед удирающему мальчугану, Зуга усмехнулся:
– Я уж думал, ты еще кого-то подобрала.
Робин взяла брата за руку.
– Зуга, я нашла могилу мамы, это недалеко, не больше мили.
Зуга взглянул на солнце, которое уже коснулось верхушек акаций, став багрово-красным, как тлеющие угли.
– Вернемся завтра, – мрачно сказал он. – Не стоит шататься здесь ночью, вокруг слишком много шакалов… двуногих шакалов. – Брат продолжал говорить на ходу: – Носильщиков пока нет, хотя губернатор в Келимане уверял, что мы легко их найдем. Видит Бог, тут полным-полно крепких мужчин, но этот напыщенный павлин Перейра каждый раз находит какие-то препятствия. – Зуга нахмурился, сразу показавшись старше своих лет, чему способствовала и окладистая борода, которую он начал отпускать, сойдя с корабля. – Говорит, люди не хотят наниматься, пока не узнают, куда идти и на сколько.
– Звучит разумно, – согласилась Робин. – Я, к примеру, не стала бы нести здоровенные тюки неизвестно куда.
– Не думаю, что дело в носильщиках, – возразил брат. – С какой стати их должно волновать, куда они идут? Я предлагаю самую высокую плату, и ни один пока не вызвался.
– Так в чем же дело?
– Перейра от самого побережья пытается выведать наши планы. Что-то вроде шантажа: пока я ему не скажу, носильщиков не будет.
– Тогда почему бы не сказать?
Зуга пожал плечами:
– Чересчур уж он настойчив. Не похоже на простое любопытство… мне не хочется говорить ему лишнее – не его это дело.
В молчании они дошли до границы лагеря. Зуга разбил его по-военному, окружив частоколом из колючей акации, и выставил у ворот караул из готтентотов. Ряды палаток отделяли сложенное снаряжение от хижин для носильщиков.
– Замечательно, уютно, как дома, – улыбнулась Робин.
Она было двинулась к своей палатке, но навстречу уже спешил Камачо Перейра.
– О! Майор, я вас жду, хорошие новости!
– Неужели? – бросил в сторону Зуга.
– Есть человек, который видеть вашего отца всего восемь месяцев назад.
Взволнованная Робин повернулась к проводнику, на миг забыв о недавнем столкновении.
– Где он? Какая чудесная новость!
– Если она достоверная, – добавил Зуга, скривившись.
– Я приведу его, чертовски быстро, вот увидите! – пообещал Камачо и поспешил к носильщикам, выкрикивая что-то на ходу.
Через десять минут он вернулся, таща за собой перепуганного тощего старика. Тело его едва прикрывали грязные лохмотья звериных шкур.
Как только португалец его выпустил, старик распростерся перед Зугой, который сидел на складном брезентовом стуле под навесом обеденной палатки, и начал едва слышно бормотать в ответ на грозные выкрики Камачо.
– На каком языке он говорит? – тут же прервал допрос Зуга.
– Чичева, – ответил Камачо. – На других не говорит.
Зуга взглянул на Робин, но она лишь покачала головой. Оставалось лишь полагаться на пересказ Камачо.
По словам португальца, старик встречал «Манали», человека в красной рубашке, в Зими на реке Луалаба. Манали стоял там лагерем с дюжиной носильщиков, и старик видел его собственными глазами.
– Откуда он знает, что это был мой отец? – спросил Зуга.
Старик снова забормотал.
– Он говорит, что Манали знают все, от побережья до Чоналанга, где садится солнце.
– Когда он видел Манали?
– За одну луну до начала дождей, в октябре, восемь месяцев назад, – перевел Камачо.
Майор задумался, уставившись на старика столь свирепо, что несчастный стал жалобно подвывать. Красивое жесткое лицо португальца потемнело от гнева. Получив мыском ботинка по выпирающим ребрам, туземец, всхлипнув, умолк.
– Что он сказал? – Робин шагнула вперед.
– Клянется, что говорит только правду, – заверил Камачо, с усилием возвращая на лицо улыбку.
– Что еще он знает о Манали? – спросил Зуга.
– Он говорил с людьми Манали, они сказали, что идут по Луалаба.
«Похоже на правду», – подумал Зуга. Если Фуллер Баллантайн рассчитывал найти истоки Нила, чтобы восстановить свою подмоченную репутацию, то пошел бы именно туда. Луалаба, по слухам, течет прямо на север, и вполне годится в качестве истока.
Допрос длился еще минут десять. Камачо взялся было за плеть из шкуры гиппопотама, чтобы освежить память старика, но Зуга сердитым жестом остановил его. Было ясно, что от старика больше ничего не добиться.
– Выдать ему рулон меркани, один хете бус и отпустить, – приказал майор.
Старик принялся корчиться, изливаясь в благодарностях, на него было жалко смотреть.
Зуга и Робин дольше обычного просидели у лагерного костра, пока тот догорал, изредка выбрасывая снопы искр. Сонное бормотание голосов в хижинах носильщиков постепенно сменилось тишиной.
– Если мы двинемся на север, – вслух размышляла Робин, – то попадем в оплот работорговли, к озеру Малави, – туда, где не ступала нога белого человека, где не бывал даже отец… откуда течет поток рабов на рынки Занзибара и Омана.
– А как же юг? – Зуга посмотрел через поляну на неподвижный силуэт Джубы, терпеливо ожидавшей у входа в палатку Робин. – Эта девушка – живое подтверждение рабства к югу от Замбези.
– Да, но это ничто по сравнению с тем, что творится на севере.
– Торговля в тех местах подробно описана. Пятнадцать лет назад отец дошел до Малави и спустился к побережью с невольничьим караваном, а Баннерман прислал дюжину докладов о занзибарском рынке, – напомнил Зуга, вглядываясь в пепел костра и согревая в руках стаканчик драгоценного виски из быстро идущих на убыль запасов. – А о торговле с матабеле к югу отсюда не знает никто.
– Да, пожалуй, – неохотно признала Робин, – однако отец писал в «Путешествиях миссионера», что Луалаба – исток Нила и он когда-нибудь это докажет, пройдя по реке от самых верховий. Кроме того, старик видел его на севере.
– Да неужели? – усмехнулся Зуга.
– Но старик…
– Лгал. Кто-то его подучил, и не нужно долго гадать кто.
– Откуда ты знаешь? – спросила Робин.
– Поживешь с мое в Индии, начнешь угадывать ложь, – улыбнулся брат. – Да и с чего бы отцу ждать целых восемь лет, прежде чем идти по Луалабе? Если бы он вправду выбрал север, то оказался бы там сразу.
– Ах, братец, – язвительно фыркнула Робин, – уж не легенда ли о Мономотапе заставляет тебя так упорно стремиться на юг? Не блеск ли золота застилает тебе глаза?
– Что за низкая мысль! – хищно усмехнулся Зуга. – Что меня в самом деле ставит в тупик, так это усердие, с которым великий первопроходец Камачо Перейра толкает нас на север…
Робин ушла, и свет в ее палатке погас, а Зуга еще долго сидел у костра со стаканом в руке, глядя в тлеющие угли. Наконец он решительно встал, опрокинул в рот последние капли спиртного и зашагал к палатке португальца, которая стояла последней в ряду.
Было совсем поздно, но внутри еще горел фонарь. Зуга позвал – в палатке взвизгнула женщина, в ответ что-то прорычал мужской голос. Камачо Перейра, голый, с накинутым на плечи одеялом, откинул полог и осторожно выглянул. В руке он держал пистолет и, лишь узнав майора, неохотно опустил оружие.
– Мы пойдем на север, – грубо бросил Зуга, – вверх по Шире к озеру Малави и дальше по Луалабе.
Лицо Камачо осветилось улыбкой, как полная луна.
– Очень хорошо! Очень хорошо! Много слоновой кости, найдем вашего отца – увидите, совсем скоро найдем!
К полудню следующего дня португалец, покрикивая и щелкая плетью, пригнал в лагерь сотню сильных здоровых мужчин.
– Носильщики! – гордо подбоченясь, провозгласил он. – Много носильщиков – чертовски здорово, да?
На следующий день Робин снова пришла в акациевый лес. Христианка Сара дожидалась ее у могилы.
Малыш первым увидел Робин и подбежал с радостным смехом. Доктор снова удивленно вгляделась в темнокожее личико. Глаза и линия подбородка были настолько знакомы, что она застыла на месте, пытаясь вспомнить, кого же он напоминает. Мальчик взял ее за руку и потянул к матери.
Ритуал замены цветов на могиле повторился, затем женщины сели бок о бок на ствол упавшей акации. В тени было прохладнее, в ветвях над головой охотилась на зеленых гусениц парочка красногрудых сорокопутов. Перья их отливали ярко-алым, как кровь умирающего гладиатора. Тихо беседуя с Сарой, Робин увлеченно наблюдала за птичками.
Сара рассказывала о Хелен Баллантайн, какой храброй она была и никогда не жаловалась на удушающую жару Кабора-Басса, где черные скалы, накаленные солнцем, превращали ущелье в настоящее пекло.
– Плохое время, – пояснила Сара, – самая большая жара перед приходом дождей.
Робин вспомнила дневник отца, в котором тот возлагал вину за промедление на своих подчиненных, старого Харкнесса и капитана Стоуна, из-за которых экспедиция упустила прохладный сезон и достигла ущелья лишь в убийственно жарком ноябре.
– Потом пришли дожди, и с ними лихорадка, – продолжала Сара. – Очень плохо. Белые люди и ваша мать сразу заболели, и даже сам Манали, прежде я не видела его больным. Злые духи владели им много дней. – Малярийный бред, очень точное описание, подумала Робин. – Он не знал, когда умерла ваша мать.
Снова наступило молчание. Мальчик, которому наскучила нескончаемая беседа женщин, запустил камушком в птиц, щебетавших в ветвях акации. Сверкнув ослепительно алыми грудками, сорокопуты упорхнули к реке. Робин снова бросила взгляд на детское личико – казалось, она знала его всю жизнь.
– Моя мать? – переспросила Робин, не спуская глаз мальчика.
– Ее вода стала черной, – кивнула Сара.
От этих слов у Робин мороз пробежал по коже. Иногда тропическая малярия меняет свое течение и атакует почки, превращая их в хрупкие мешочки со свернувшейся темной кровью, которые лопаются при малейшем движении. При черноводной лихорадке моча больного становится темно-фиолетовой и густой, и редко, очень редко, кто после этого выживает.
– Она была сильной, – тихо продолжала Сара, – и ушла последней. – Африканка оглянулась на остальные могилы. Простые холмики укрывал толстый слой завитых стручков акации. – Мы похоронили ее здесь, когда злые духи еще владели Манали. Потом, когда он встал, то пришел сюда с Книгой и сказал слова. Он сам поставил крест.
– А потом снова ушел?
– Нет, Манали был очень болен, им опять овладели духи. Он плакал о вашей матери. – Мысль о плачущем отце была настолько дикой, что Робин не могла себе этого представить. – Все время говорил, что река его погубила.
Обе женщины взглянули на заросли акации, сквозь которые просвечивала широкая гладь зеленой воды.
– Манали стал ненавидеть реку, будто она живая и стоит на его пути. Он был совсем безумный, лихорадка не оставляла его. Иногда он сражался со злыми духами, кричал и вызывал их на бой, как великий воин, который танцует гийя перед строем врагов. Еще говорил о машинах, которые укротят реку, о стенах, которые он построит поперек потока, чтобы корабли шли над ущельем…
Сара смолкла, воспоминания затуманили ее круглое, как луна, лицо. Почувствовав грусть матери, мальчик, подбежал и положил запыленную головку к ней на колени. Она рассеянно гладила плотную кудрявую шапку волос.
Робин вздрогнула – узнавание пришло внезапно, как удар. Сара проследила за ее взглядом, потом снова взглянула белой женщине в глаза. Слова были не нужны, вопрос был задан, и ответ получен. Сара притянула малыша к себе, словно защищая.
– Это было потом, когда ваша мать… – пробормотала Сара и снова смолкла.
Робин продолжала разглядывать мальчика. Перед ней был Зуга в детстве, маленький черный Зуга. Только цвет кожи помешал разглядеть это сразу.
Земля под ногами качнулась – и стала на место. Робин внезапно почувствовала странное облегчение. Фуллер Баллантайн больше не был величественным идолом, вытесанным из гранита, который омрачал всю ее жизнь.
Она протянула к мальчику руки, и тот подошел, доверчиво, без колебаний. Робин обняла его и поцеловала, детская кожа была гладкой и теплой. Душу наполнила волна любви и благодарности.
– Он был очень болен, – тихо произнесла Сара, – и совсем один… Все ушли или умерли, он так горевал, что я боялась за его жизнь.
Робин понимающе кивнула.
– Ты его любила?
– В этом не было греха, ведь он был богом.
«Нет, – подумала Робин, – он был мужчиной. А я, его дочь, просто женщина».
Она поняла, что никогда теперь не будет стыдиться своего тела и желаний, что исходят из него. Робин снова прижала к себе малыша – живое подтверждение человеческой природы Фуллера Баллантайна, и Сара счастливо улыбнулась.
Впервые в жизни Робин сумела признаться самой себе, что любит отца, и поняла, что так сильно тянуло ее сюда, по его следам. Простое дочернее чувство так долго подавлялось благоговением перед мифом, но теперь она осознала, почему оказалась здесь, на берегах необъятной реки, на границе неизведанного мира. Она разыскивала не великого Фуллера Баллантайна, а своего отца… и себя – настоящую, какой до сих пор не знала.
– Где он, Сара, где мой отец? Куда он ушел?
Африканка печально потупилась.
– Не знаю, – прошептала она. – Однажды утром я проснулась, но Манали уже не было. Я не знаю, где он, но буду ждать, пока он не вернется к нам. – Она быстро взглянула в глаза Робин: – Он вернется? Если не ко мне, то хотя бы к ребенку?
– Вернется, – ответила Робин с уверенностью, которой сама не чувствовала. – Конечно, вернется.
Отбор носильщиков оказался делом долгим. Зуга хлопал очередного годного с виду туземца по плечу, и тот отправлялся в палатку доктора на осмотр. Потом началось распределение поклажи.
Зуга заранее увязал и взвесил каждый тюк, убедившись, что ни один не превышает положенных восьмидесяти фунтов, однако новые носильщики непременно хотели убедиться в этом лично, и каждый упорно торговался, стараясь уменьшить вес груза, который ему предстояло нести долгие месяцы, а может быть, и годы.
Майор решительно отстранил от руководства Перейру с его плетью и охотно принял игру, торгуясь и добродушно подшучивая, – на самом деле он пользовался удобным случаем, чтобы оценить настроение людей, отсеять слабых духом и отобрать природных лидеров, за которыми пойдут остальные.
На следующий день семеро носильщиков получили по хете бус и были без всяких объяснений отправлены домой. Потом Зуга вызвал пятерых самых толковых и назначил их старшими групп, каждая в двадцать человек. Они должны были отвечать за скорость передвижения каравана, сохранность грузов, разбивку лагеря, распределение пищи, а также передавать жалобы своих людей начальнику экспедиции.
В конечном счете в отряд вошло сто двадцать шесть человек, включая готтентотов Черута, носильщиков, нанятых в Келимане, переводчика-португальца и двух главных лиц – Робин и самого Зугу.