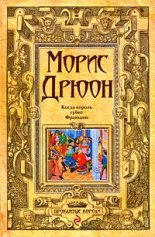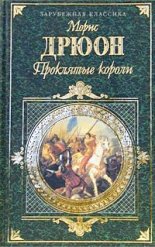Московский лабиринт Кулагин Олег

ПОКА ЖИВУ — НАДЕЮСЬ
(Вместо предисловия)
Еще два десятка лет назад антиутопий в нашей фантастике не существовало. Точнее, они имелись, но описывали события, происходящие не у нас, а где-то далеко-далеко, на другом континенте, а еще лучше на иной планете в соседней галактике. Страшное могло произойти, но только не с нами, писатели-фантасты изучали его взглядом сторонних наблюдателей, находящихся но ту сторону стекла, в чистой и светлой лаборатории…
Лет пятнадцать назад все очень круто изменилось. На какое-то время антиутопия вышла в лидеры, романы, повести и рассказы-предупреждения начали кропать даже те, кто в иное время фантастикой брезговал, считая ее литературой второго сорта. Разного рода «Невозвращенцы» заполонили страницы журнальной-газетной периодики, время от времени броской обложкой выплескиваясь на книжные лотки. Имена их авторов возникали из небытия и спустя пару лет точно так же исчезали в никуда — когда выяснялось, что одними предсказаниями бед неисчислимых, мора и глада следа в литературе не оставишь.
Впрочем, сюжеты этих антиутопий были удивительно однообразны, различаясь только в деталях. Основных сценариев было два: военный переворот и грядущая жестокая диктатура или же «парад суверенитетов» ad infiniyum, выливающийся в полную дезинтеграцию страны. Даже традиционное для западной фантастики описание будущего после катастрофы (ядерной, экологической либо какой-то другой) не было у нас настолько популярно, как два этих сюжета — вместе или по отдельности.
Характерно, что утопий в те же времена появилось гораздо меньше. Почему-то писателей совершенно не интересовали картины процветания и благоденствия новой, рыночной России. В лучшем случае авторы могли касаться «злобы дня» — описывать успешное избавление России от готовящегося переворота и уготованной стране участи, как это сделал Эдуард Тополь в романе «Завтра в России».
Зато в публицистике утопия процветала. С газетных и журнальных страниц, из теле— и радиопередач потоком хлынули велеречивые рассуждения опытных экономистов о благотворности свободного рынка, о грядущем процветании. Притом ничего для этого делать не требовалось — следовало лишь ненадолго затянуть пояса, закрыть глаза и расслабиться в предвкушении удовольствия. И вот тогда все пойдет предначертанным путем, Россия вернется в общемировую колею, войдет в лоно рыночной экономики, а там нас уже будут ждать молочные реки и кисельные берега…
Но сладкий дурман ожиданий рассеялся, а утратившая иллюзии страна, возмечтавшая о столбовом дворянстве, подобно пушкинской старухе, оказалась у разбитого корыта. Похоже, своеобразным рубежом стал кризис 1998 года, когда люди вдруг почувствовали, что антиутопия уже наступила — и, следовательно, худшее осталось позади.
Примерно в это время в «футурологической» фантастике начались два разнонаправленных, но в то же время связанных между собой процесса. С одной стороны, началась разработка более или менее «оптимистических» (по крайней мере не деструктивных) вариантов развития страны <Долгое время единственным претендентом на роль подобной утопии был роман Вячеслава Рыбакова «Гранилет „Цесаревич“» (1994). В 1999 году одновременно появились «Сверхдержава» Андрея Плеханова и «Выбраковка» Олега Дипова, рисующие пусть и неоднозначные, но всё же конструктивные варианты будущею России, не сводимые к дихотомии демократия/диктатура. Напротив, в более раннем романе Сергея Абрамова «Тихий ангел пролетел» подобная дихотомия сохранялась, лишь со сменой знака — грядущая диктатура объявлялась благом для России.>. А с другой — в «чистых» антиутопиях, то есть произведениях, описывающих дальнейший развал страны и дезинтеграцию социума, причины подобных явлений из внутренних стали превращаться во внешние. Проще говоря, авторы перестали искать внутренних врагов и обратились к врагам внешним.
Первой ласточкой нового направления стала небольшая повесть Ника Перумова «Выпарь железо из крови» (1997) — яркое и прочувствованное описание будущего России под сапогом оккупанта. Международные миротворческие силы под флагом ООН оккупируют Россию и уничтожают ее как самостоятельное государство. Противостоять агрессору не готов никто, кроме маленькой кучки героической молодежи. И не только потому, что страна растеряла союзников и утратила волю к сопротивлению, но и потому, что для большинства ее граждан любая альтернатива ситуации середины 90-х выглядела бы хуже, чем текущая реальность.
Перумову удалось добиться потрясающей реалистичности в описании обыденного ужаса и ощущения безнадежности борьбы, ибо оккупанты действительно навели в стране порядок, добившись лояльности большинства населения (позднее тема лояльности оккупантам была развита автором в дилогии «Череп на рукаве» и «Череп в облаках»). Подобную же картину можно встретить и в статье Андрея Столярова «Оккупация»: бороться с оккупантами бесполезно, потому что они сумеют управлять Россией лучше нас.
Однако события последних лет — операция НАТО в Косове, свержение талибов в Афганистане, война в Ираке — показали, что Америке вполне под силу разгромить практически любого противника, но вот с наведением порядка на оккупированных территориях она справляется плоховато. Нет никакой гарантии, что так же не произойдет и в России. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги», Как известно, у нас все стройные, продуманные и идеально выверенные планы имеют обыкновение идти вкривь и вкось из-за разного рода непредвиденных случайностей и неустранимых деталей. И вряд ли самый лучший западный план имеет шанс избежать общей участи. Как говаривал незабвенный российский премьер, «хотели как лучше, а вышло как всегда».
Роман Олега Кулагина рисует нам завершающий акт этой трагедии. Четвертая мировая война проиграна, даже не начавшись. Соединенные Штаты и послушная им Европа захватывают Россию, свергают ее правительство, подавляют слабые попытки сопротивления и делят страну на несколько самостоятельных государств, во главе которых оказываются вполне узнаваемые фигуры политических деятелей «ельцинской когорты».
Ни о каком процветании речь даже не идет, кругом царят нищета, коррупция и беззаконие. Отчаянные попытки населения сопротивляться оккупантам (даже не из патриотических соображений, просто от голода и тотальной безысходности) топятся в крови наемными «национальными» армиями — сами американцы отнюдь не горят желанием проливать кровь своих солдат и бросают их в бой лишь в самых крайних случаях.
Но повстанческое движение все же существует — в буквальном смысле загнанное в подполье, в подземные катакомбы и сети метро умирающей Москвы. Трусость и безразличие тех, кому есть что терять, — и отчаянное сопротивление людей, которым терять уже нечего. Партизанские отряды, неотличимые от уличных банд, и бандиты, как две капли воды похожие на преуспевающих политиков, одинаково ловко обделывающие свой бизнес как наверху, так и внизу. И все они завязаны в тугой клубок, выпутаться из которого почти невозможно…
Фантастика? Увы, описанные автором страсти-мордасти слишком хорошо подтверждаются опытом и тактикой всех партизанских войн. Ибо такая война — самая страшная из войн. И не только потому, что на ней никогда нельзя твердо знать, кто друг, а кто враг, приходится постоянно ждать удара в спину, а каждый сделанный шаг может стать последним. Дело в другом. Партизанская война является тотальной в прямом смысле этого слова, она касается всех людей, находящихся на затронутой ей территории, — без различия пола, возраста, моральных качеств или политических убеждений. Жестокость здесь превращается из отдельных «эксцессов исполнителей» в естественную и неизбежную тактику обеих противоборствующих сторон. Ведь полем действия такой войны становится не местность с ее рельефом, дорогами и мостами, а люди, население этой местности, от поддержки или противодействия которого в итоге зависит итог борьбы. А самым простым и надежным орудием в этих условиях становится террор.
Однако террор — оружие обоюдоострое. С его помощью можно запугать людей и заставить их отказаться от поддержки повстанцев, но с таким же успехом можно восстановить население против себя, добившись лишь усиления такой поддержки. Поэтому террор может иметь самый разный характер и различную степень интенсивности. Уничтожать целые селения или даже местности за поддержку повстанцев — метод надежный, но хлопотный, требующий привлечения больших сил и средств. Кроме того, скрыть столь масштабную акцию крайне трудно, а современное международное законодательство относится к подобным способам ведения войны весьма негативно. А главное — такой способ войны можно применить к отдельной местности, но не ко всей территории, которую требуется взять под полный контроль.
Гораздо проще создавать так называемые «стратегические деревни» — резервации для местного населения, своеобразные концлагеря или гетто, изолированные друг от друга и от повстанцев «извне». Точно так же тверские власти в романе поступают с Москвой и другими регионами, находящимися под их контролем: разбить на отдельные, строго охраняемые зоны, жестко ограничить передвижение между ними, время от времени проводить массированные зачистки и облавы.
Причем такие акции, как правило, даже не зависят от действий партизан, поскольку бессмысленно наказывать население за каждое конкретное выступление повстанцев. Во-первых, этим методом в свое время прославились нацисты, а любые аналогии с их действиями в «цивилизованном» обществе будут восприняты негативно. Во-вторых, запугивать надо не тех, кто уже находится в твоей власти, а тех, кто остается на свободе.
Террор, отвращающий население от поддержки партизан, должен быть максимально обезличенным. Это своего рода децимация — когда за провинность римского легиона подвергался смертной казни каждый десятый его боец. Точно так же за поддержку партизан после каждой их боевой акции должна нести наказание какая-то часть населения данной местности, выбранная совершенно случайно, наугад, sine ira et studio. Впрямую расстреливать мирных граждан сейчас не принято, но кто мешает провести массированную бомбардировку, артиллерийский или ракетный обстрел района, где скрываются партизаны? После этого можно будет выразить сожаление по поводу гибели десятка-другого мирных жителей, оказать семьям пострадавших гуманитарную помощь и даже выплатить какую-то компенсацию. Этим убиваются сразу два зайца: отводится обвинение в умышленном убийстве и хоть как-то смягчается вспышка ненависти со стороны родственников погибших, ведь психологически довольно трудно ненавидеть того, из чьих рук ты принял помощь.
Как ни парадоксально это звучит, но зачастую повстанцы сами заинтересованы в провоцировании террора оккупантов, поскольку он толкает население на борьбу с захватчиками. Таким образом, оккупантам требуется запугать население, а повстанцы стремятся превратить этот страх в ненависть, в свою очередь запугивая социальные группы, лояльные оккупантам. Причем последнее им удается лучше, чем их противникам, потому что повстанцы действуют «снизу», имея постоянный контакт с массой населения и обладая возможностью совершать более тонкие, ювелирные действия.
Создается своеобразное равновесие — «оккупанты» контролируют ситуацию на «макроуровне», повстанцы раз за разом побеждают на «микроуровне», где их преимущества несомненны. И такая борьба может продолжаться до бесконечности, особенно если партизаны имеют подпитку ресурсами и оружием извне. В описанной Кулагиным ситуации такая подпитка идет через полумафиозные структуры, тесно связанные с коррумпированным правительством генерала Русакова.
Американские военные теоретики говорят, что подавить повстанческое движение прямой военной силой невозможно. С другой стороны, американские военные историки утверждают, что партизанская война во Вьетнаме не была проиграна Соединенными Штатами, которые не потерпели в ней ни одного поражения. По большому счету и те и другие правы. Партизанская война является не только тотальной, но и потенциально перманентной, заканчиваясь лишь тогда, когда теряет смысл или становится чрезмерно обременительной для одной из сторон. Если же у обеих сторон хватает сил продолжать ее, то война может длиться вечно, пусть и с разной степенью интенсивности, — пример такой войны мы можем наблюдать в Колумбии на протяжении последних пятидесяти лет.
Впрочем, есть еще один способ прекратить такую войну: появление с одной из сторон фактора, который противник не в состоянии парировать, возможности, которой нельзя противостоять. Для партизан Второй мировой войны таким фактором стал приход советских или союзных войск, в повести (точнее, дилогии) Ника Перумова — появление у героев магического оружия. Олег Кулагин тоже вводит в сюжет подобный «решающий фактор», граничащий с магией… впрочем, не будем пока забегать вперед.
Можно сказать, что у повстанцев из романа Кулагина на протяжении всей книги существует только одна надежда — надежда на чудо. Чудо, которое мгновенно изменит соотношение сил и принесет им если не победу, то хотя бы возможность драться с врагом на равных. Но вопреки мнению скептиков и пессимистов, чудеса иногда все-таки случаются — и не только в фантастике. Ведь зло не имеет права побеждать. Вот только знать бы, когда и на чьей стороне оно окажется завтра…
Владислав Гончаров
* * *
В детстве мне казалось — где-то недалеко начинается удивительный мир. Может, за рощей по ту сторону длинного оврага, а может за башнями «высоток» у горизонта…
Как радуга, он манит и отступает. Но иногда удивительный мир совсем близко — только протяни руку… Долетает тихая мелодия, всплывает за окном луна… И ты чувствуешь, ты знаешь, сразу его не отличишь. Он прячется и не хочет открывать свои тайны. Но если посмотреть, как вспыхивают звезды, как дрожат в ручейках тепла над нагретыми крышами, — понимаешь, что в заурядном, скучноватом мире не бывает такого неба.
Да, все плохое — такое же ненастоящее, как бумажные цветы. Однажды оно развеется. И вместе с самыми дорогими тебе людьми, папой, мамой и братишкой, ты окажешься там, где волшебству уже не надо прятаться…
В девять лет я впервые попала в Москву. Вместе с родителями поднялась из суматошного тесного метро под ясное майское небо, через арку ворот прошла на Красную площадь.
И все ненужное вдруг потускнело. Словно и не было хмурой толпы в переполненных вагонах и нищих у выхода со станции.
Осталась лишь залитая солнцем площадь, огромное бесконечное небо над ней. Небо, в которое хотелось взлететь.
Люди здесь были совсем другими. Хмурые лица разглаживались, взгляды светлели. И я знала, что иначе и быть не могло. Ведь это — кусочек настоящего мира. Здесь не надо притворяться плохими. Здесь все фальшивое отпадало, словно лепестки бумажных цветов.
Счастье для всех — это так просто…
Я долго не хотела уходить, и родители, улыбаясь, терпеливо ждали. Они тоже чувствовали…
Семь лет спустя, когда я поступила в МГУ, я часто бывала на площади. Одна или с друзьями. Когда мне было очень трудно или очень хорошо — приходила сюда. И каждый раз плохое рассеивалось, а настоящее ярче проступало внутри и вокруг, словно акварель через тонкую бумагу.
И счастье казалось возможным и близким — только руку протяни…
Но однажды я не успела. Я пришла слишком поздно.
Высокоточные бомбы уже упали на площадь и на застывшие, как солдаты на посту, башни Кремля. В пламени исчез собор Василия Блаженного, осколком ракеты снесло головы бронзовым Минину и Пожарскому. Огромные воронки свежими ранами задымились на теле убитой площади.
Сквозь слезы я посмотрела в небо. Оно было чужое. Оно несло смерть и уже мне не принадлежало.
В тот мартовский вечер все кончилось.
1. ВРАГИ И ДРУЗЬЯ
Глава 1
— Пошла! — толкнули в спину. Тяжелая дверь захлопнулась. Шаги удалились.
Я замерла, выжидая. После яркого неонового света в коридоре глаза должны привыкнуть к сумраку.
Экономят электричество? Впрочем, еще день. Врубить освещение на всю катушку еще успеют.
Ночи здесь длинные… Лучшее время для допросов.
Я огляделась.
Подвал как подвал. Небольшой — три на четыре метра. Со всеми «удобствами»: в углу — санузел, в вентиляционном отверстии — «зрачок» наблюдения. Для него света вполне достаточно.
Крохотное окошко у самого потолка выходит во внутренний двор. Бронестекло? Сквозь пыльные разводы проглядывают толстые прутья решетки. Окно не перекрыто «намордником». Не успели они, что ли?
А кладка стен прочная, даже в том месте, где еще свежая. Длинное помещение совсем недавно разделили кирпичными перегородками на камеры.
Нет, отсюда не убежишь.
Даже если каким-то чудом удастся выскользнуть наружу. Во дворе и вокруг, по периметру забора пулеметные вышки, прожектора, часовые с собаками. И видеоглазки — повсюду.
Даром, что Служба Охраны Конституции переехала сюда меньше месяца назад.
В этой камере я — первая. Воздух пока не успел пропитаться испарениями человеческих тел, хлоркой и еще чем-то неизвестным. Тем, что вместе составляет такой въедливый, будто наполненный мертвящей безысходностью, запах…
Я открутила кран, плеснула холодной воды в лицо. Утерлась рукавом. Поудобнее взбила тюфяк на деревянных нарах. Стащила с себя куртку, кинула поверх и легла.
Запах тюрьмы. Я хорошо его знаю… Года в питерском «централе» хватило, чтобы все намертво отпечаталось в памяти…
Воспоминания лезут в голову. Галдят, как непрошеное воронье… Сейчас не до них. Я должна быть спокойной и логичной…
Коснулась голым плечом стены и зябко поежилась. Камень холодный как лед. Хорошо, что сейчас июнь, а не зима. Что здесь было раньше? Какой-нибудь склад?
Чины из «охранки», наверное, были недовольны, когда им достались эти подвалы…
Сегодня я вернулась из Москвы около десяти утра. Поезд опоздал на два часа. Пришлось раскошелиться и взять такси. Подумала, что Старик наверняка уже волнуется. Квартала за три до нашего дома расплатилась и пошла пешком — дальше дороги не было. Аварийное здание неделю назад обрушилось, и улицу до сих пор не расчистили.
Как раз перебиралась через завалы, когда вдалеке хлопнули пистолетные выстрелы: один… второй. Тишина.
Остановилась. Выстрелов больше не было. И я сделала глупость. Вместо того чтобы выждать, затаиться — снова двинулась вперед. Мало ли из-за чего стрельба. Несмотря на военное положение, бандитские разборки на улицах Тулы — обычное дело. Особенно в нашем районе.
Не было у меня никакого предчувствия. И настроение хорошее. Встретилась в Москве с нужным человеком. Тот согласился помочь с чипами для пропусков.
Дело, в общем, пустяковое, но все равно на душе легко. Небо ясное. Впервые за последнюю неделю. В такое утро не хочется думать о плохом.
Когда я сообразила и повернула назад, было уже поздно. Несколько фигур в штатском преградили дорогу:
— Эй, девка…
Я метнулась в боковой переулок. Там тоже ждали. Сбили с. ног, заламывая руки за спину. Надели «браслеты» и облапали, проверяя одежду. Поволокли к здоровенной «душегубке», ожидавшей за углом.
Старик и Локи уже в машине. Лежали на полу, лицом вниз. Вокруг — целая орава вооруженных полицаев в масках и камуфляже.
«Штатский» достал фотографию. Сравнил со мной и осклабился:
— Загружайте, пассажирку!
Внутри екнуло. Это не обычная облава, когда хватают всех подозрительных и неделями мурыжат в фильтрационном лагере. А еще я ощутила взгляд Локи. Безысходная тоска темнела в зрачках, но он нашел силы улыбнуться, когда меня швырнули рядом:
— Наверное, сам Рыжий захотел с нами повидаться…
— Не разговаривать! — заорал СОКовец и наотмашь ударил Локи по лицу. Красная струйка поползла из разбитой губы.
Я изловчилась и впилась «штатскому» в руку. Тот взвыл от боли и отшвырнул меня носком тяжелого башмака. Скривился, вытирая руку платком:
— Тебе это зачтется… сука.
Знаю. И все равно, не жалею.
Где-то в коридоре шаги. Я приподнялась и села па нарах. Неужели так быстро? Кажется, и получаса не прошло…
Сердце стучит, колотится птичкой в клетке… Глупости! Я в состоянии перебороть эту слабость, я не покажу им страх…
Шаги поравнялись с камерой. Потом удалились.
Не за мной…
Все равно скоро поведут на допрос. Что буду говорить? Конечно, все отрицать. Прямых улик против меня нет. Даже оружия при себе не было. Только фальшивый пропуск. Но это мелочь. Половина Тулы ходит с такими. Сами же «миротворцы» ими и торгуют.
Где-то на дне души зародилась крохотная надежда. И тут же умерла.
Правильно. Надеяться не стоит. Здесь не Балтийская Конфедерация, хотя бы для внешнего приличия играющая в правосудие. В «охранке» на такие пустяки внимания не обращают…
Я встала, подошла к окошку и сквозь запыленное стекло попыталась разглядеть там, вверху, кусочек неба. Но внутренний двор был совсем крохотный, и шестиэтажное здание начисто перекрывало обзор. Единственное, что доступно, — едва различимые отражения облаков в зарешеченных окнах.
Пока ходишь на воле, не осознаешь, что это счастье — просто смотреть на небо. Запретное счастье… Еще повезло, что окошко совсем не замазали краской…
…Сначала нас доставили в ближайшее отделение и приковали наручниками в «обезьяннике».
Конечно, там были микрофоны.
Поэтому Локи начал рассказывать о «тараканах» в «Вин-де-2013».
— …Программерами у Гейтса работают сержанты-морпехи. Зачем обрывать цикл именно в этом месте?
— Ты не знаешь?
— Нет, Таня…
Глаза оставались серьезными. Локи понятия не имел, в чем мы прокололись.
А Старик молчал. И это было тяжелее всего.
Выглядел Михалыч плохо. Сидел, будто в забытье, привалившись к стене. Кажется, ему становилось хуже. Повязка поперек груди, наспех кем-то сделанная, разбухла от крови. И я ничем не могла помочь…
Да и как? Лучшим лекарством было бы оказаться где-то далеко отсюда. Здесь, за этими степами и решетками, здоровье нам уже не понадобится…
Конечно, я знала, что это может случиться. Но никогда не верила, что это произойдет с нами…
Офицер в незнакомой форме с голубой ооновской нашивкой. Раскрыл черную папку. Таращится на Старика. Глаза у «миротворца» белесые, бесцветные, пустые. Голос скрипучий, как несмазанная дверь:
— Вы есть Виктор Карпенко. Я есть майор Улафсон. Я иметь ордер.
Старик поднимает веки. Равнодушно смотрит.
Офицер хмурится, бормочет по-своему. Исчезает и появляется уже в сопровождении двух солдат с носилками.
Машет бумажкой с печатью:
— Я полномочен заявлять. Вы арестован и предстать Международный Трибунал.
— Какая честь… — Бледные губы Старика изгибаются усмешкой.
Еще три года назад его объявили в розыск. Три года назад отряд ополченцев под его командой разгромил американский десант у Ставрополя. Пленных в том бою не брали.
Когда Михалыча укладывают на носилки, он глядит па нас — совсем спокойно. Он в нас верит.
И еще я понимаю — сдаваться он не собирается.
Четверть часа спустя меня и Локи ведут к дожидающейся во дворе спецмашине. И будто холодом обдает. Я вижу тела на асфальте. Пять тел, накрытых серыми простынями. Полицейский фотограф откидывает одну. И незрячим, остановившимся взглядом на меня смотрит Ярослав. Запачканная кровью рубаха пробита — след автоматной очереди. Правая рука до сих пор судорожно сжата в кулак.
СОКовцы побывали не только на нашей квартире…
Шаги. Снова шаги. Двое… На этот раз остановились у моей камеры. Лязгнул замок. Ослепительный неоновый свет ворвался внутрь. На фоне дверного проема фигуры казались черными.
— Гольцова! На выход!
Как будто кроме меня здесь есть кто-то еще.
Вспыхнула лампочка.
Я поднялась. Неторопливо. И надзиратель, выругавшись, вошел сам:
— Руки давай!
Опять надели «браслеты». Вывели из камеры:
— Вперед!
Несколько «шлюзов». Крутая лестница.
Верхний коридор. Я надеялась хотя бы отсюда увидеть небо. Но окон не было. Лишь пятна свежей побелки на стене. Все заложили кирпичом, когда переделывали здание.
Еще коридор. Последний «шлюз»:
— Гольцову на допрос к Фатееву!
Снова лязг замка.
Много ли мне известно? Не очень. Вся организация разбита на ячейки. Люди разных ячеек друг друга не знают.
Но там, во дворе, кроме Ярослава было еще несколько погибших. Не из нашей группы. Значит, предатель в штабе Среди двух или трех людей, державших все информационные нити.
Самое дрянное из того, что могло случиться.
Единственное, о чем не ведал штаб, — физики. С ними встречались только мы с Михалычем. И только мы знали про нуль-генератор. Прибор, помещавшийся в средних размеров чемоданчике, но способный на многое. Например, с десяти километров превратить в колебания вакуума бронированный «мерседес». Вместе с теми, кто окажется внутри.
Нам должны были передать опытный образец. Не успели.
Пожалуй, это единственная по-настоящему ценная информация, которая мне известна.
Последний десяток шагов. Дверь.
Огромный кабинет. И уже вечернее солнце за решетчатым окном. Мне оно показалось ослепительно ярким.
— Здравствуй! — улыбнулся СОКовец с забинтованной рукой. Тот самый. Теперь — не в штатском, а мундире полковника.
Взял меня за подбородок:
— Ну что, больше не будешь кусаться?
И ударил кулаком в живот.
Радужные блики заплясали перед глазами. Я согнулась, пытаясь восстановить дыхание.
Он повалил меня на пол и несколько раз «впечатал» тяжелым армейским ботинком.
— Перестаньте, Фатеев!
Пока я хватала ртом воздух, что-то изменилось. Кое-кто ещё появился в кабинете и оттянул полковника.
— Не позорьте свой мундир! — В голосе — металлические нотки.
Надо мной склонились, сняли «браслеты» и осторожно похлопали по щекам.
— Вам лучше?
Мне помогли встать и усадили в удобное кресло. Подниматься было больно — теперь-то этот гад точно сломал мне ребро.
Лишь приняв вертикальное положение, я оклемалась достаточно, чтобы разглядеть «спасителя».
Он в хорошо пошитом сером костюме. Немолод. Лет сорок пять. Но фигура стройная, почти атлетическая. Дубленая, загорелая кожа, короткий ежик черных как смоль волос. Лицо — скорее привлекательное. Взгляд — внимательный, цепкий. Взгляд, в котором чувствуется многолетний опыт.
— Прошу прощения за моего коллегу. Иногда он бывает грубым.
Фатеев отвернулся, отошел в дальний конец кабинета, извлек пачку «Мальборо». Брюнет хотя и не смотрел в его сторону, среагировал мгновенно:
— Пожалуйста, не курите здесь.
Фатеев что-то пробормотал под нос, но пачку спрятал. Ясно, кто подлинный хозяин в этом кабинете.
Он не спешил. Ждал, пока я окончательно приду в себя. Наконец посчитал, что я «созрела», и представился;
— Меня зовут Алан. А вас?..
Американец? Надо же, говорит практически без акцента. Конечно, он прекрасно знал, как меня зовут. Но спорить из-за таких мелочей не стоило.
— Татьяна Гольцова.
— Я сожалею, что наше знакомство происходит в не слишком приятной обстановке. — Алан улыбнулся, обнажив ровные белоснежные зубы.
Задумчиво повторил:
— Татьяна. Прекрасное русское имя. Классическое.
Сел в кресло и продекламировал:
— «Письмо Татьяны предо мною — его я свято берегу…»
Опять улыбнулся, еще более обворожительно. Думаю, он знал, что улыбка ему идет, и старался использовать ее как можно чаще.
— Фатеев, распорядитесь насчет кофе!
Полковник вышел, и кофе принесли буквально через минуту. Наверно, заранее сварили и лишь слегка подогрели. А булочки выглядели такими аппетитными, что я сразу вспомнила: ничего не ела с самого утра.
— Не стесняйтесь, — сказал Алан и пригубил из чашки, подавая пример. — Кофе довольно хорош. Поверьте, в чем в чем, а в этом я разбираюсь.
— По-моему, в МакДоналдсах кофе всегда одинаковый.
Он рассмеялся. Вполне искренне.
— Ну да. Все американцы — примитивные идиоты. Шагу не могут ступить без передвижных сортиров и МакДоналдсов. А в России по улицам городов скачут сумасшедшие казаки и бродят белые медведи.
Насчет медведей не знаю, но однажды зимой на улицах разрушенного Курска я едва спаслась от волчьей стаи. Только об этом я говорить Алану не буду. И про то, чьи именно бомбы сделали Курск таким — тоже. Зачем портить приятную беседу? Лучше выпью кофе.
— Некоторые стереотипы очень живучи, — весело констатировал Алан. — Но культурным людям и в Америке и в России вполне по силам их преодолевать. — Тут же поправился: — Преодолеть.
Интересно. Он второй раз сказал «в России». Обычно американцы добавляют «бывшей». Или вообще стараются не использовать «устарелое название».
Пока я налегала па булочки, Алан смотрел на меня умильным взглядом любящего отца. Где-то после второй чашки кофе в этом взгляде что-то изменилось. Он начал переходить к делу:
— Знаете, Татьяна, я в трудном положении. Я очень хочу вам помочь. Но не смогу этого сделать, если вы не захотите помочь себе сами.
Ну конечно. Добрый дядя прогнал злого и теперь рассчитывает на мою откровенность. Господи, как однообразно… Прием, описанный в сотнях книжек и фильмов. Неужели даже в цээрушных разведшколах не могут придумать что-нибудь оригинальнее? Или сама ситуация располагает к шаблону?
Будем подыгрывать, ничего не остается. Кофе действительно хороший, а булочки и впрямь замечательные. Когда еще удастся такие попробовать. Может, вообще никогда…
Я прожевала и изобразила глуповатую невинность:
— Что вы имеете в виду?
Он сверкнул белоснежными зубами:
— Не пытайтесь казаться менее умной, чем вы есть на самом деле. Вы — способная девушка. Я знаю, вы учились на первом курсе биохимического факультета. Почему бросили учебу?
— Потому что вы разбомбили университет.
Алан качнул головой:
— Мне очень жаль. В любом серьезном деле бывают маленькие оплошности. Я уверен, что университет пострадал по ошибке. И кстати, вы еще так молоды, перед вами открыты перспективы… Почему бы вам не продолжить учебу за границей? Это можно устроить.
— Мне нравится жить здесь.
— Понимаю ваши чувства. Но нельзя позволять иллюзиям лишать вас будущего. Сейчас Россия лишь устарелое географическое понятие. — Он торопливо поправился: — Я имею в виду то трудное положение, в котором оказалась ваша родина. Приобретя квалификацию, опираясь на знания, а не на старые химеры, вы могли бы лучше ей помочь. — Доверительно склонился в мою сторону: — Поверьте, милая Татьяна, я уже немолод и имею кой-какой опыт. Экстремизм не решает ни одной проблемы. Наоборот, он их создает. И никто сейчас не делает больше для этой страны, чем правительство Гусакова и Международный Совет.
— И Рыжий? — уточнила я, наивно хлопая ресницами.
Это становилось почти забавным. Он действительно рассчитывает так запросто меня обработать? Что называется, «промыть мозги» в дружеской беседе. Нет, на дурака не похож. Какой-то козырь у него должен быть. Пока что он развлекается. «Чешет» по шаблону, не задумываясь, а сам не спускает с меня глаз, будто хочет насквозь увидеть.
Алан засмеялся:
— Я же говорил, некоторые иллюзии трудно преодолевать. Так часто бывает. Великих реформаторов современники не ценят. А потомки — ставят памятники. Анатолий Борисович делает все, чтобы экономика бывшей России стала эффективной. Многие предыдущие правители любили рассуждать об этом. А он не только говорит, но и делает.
Ну вот. Наконец прорезалось словечко «бывшая».
Уловив что-то в моем взгляде, американец посерьезнел:
— Да, это тяжело. Порой это больно. Я сам искренне переживаю за великий русский народ. Но это — необходимые временные меры. Через несколько лет вы не узнаете эту страну.
Уже и сейчас не узнаю. Представляю, что будет еще через несколько лет.
— Я давно знаком с Анатолием Борисовичем. У него есть одно качество, уникальное для политика, — продолжал ораторствовать Алан. — Да, он не популист. Но он всегда выполняет обещания. Помните, как быстро удалось навести порядок в Воронеже?
Комната слегка качнулась вокруг меня. Изображать наивность вдруг стало тяжело. Невыносимо…
Воспоминание. Мучительно-яркое…
Огромное, чуть припорошенное снегом поле. Вмерзшие в землю тела — по всему полю… И где-то среди них — трое самых родных и близких… Я искала. Вглядывалась в изуродованные лица. Кровоточащими пальцами разрывала мерзлую землю. Слепла от слез.
Не нашла…
Рыжий выполняет обещания…
— …Явные позитивные сдвиги, — будто через вату доносился голос Алана, — население больше не ощущает нехватки продовольствия. С этим нельзя спорить. Это факты…
Да, Тула — сытый город. Почти как Москва перед войной. Здесь хватает ярких витрин. Сюда не допускают беженцев. Но я знаю, что стоит отъехать километров на триста-четыреста…
Лишенные света и тепла, полумертвые города. Убогие деревни… И тощие ребятишки вдоль обочин автомагистралей — каждый раз, когда проходит натовская колонна. Они ждут. Иногда им везет, и миротворцы начинают швыряться монетами.
Однажды я тоже ждала у обочины. Я была старшей в компании таких же замурзанных существ. Нам не повезло. Самые добрые и щедрые — немцы. А в тот раз мы нарвались на литовцев. В детей полетел град пустых бутылок. Литовцы хохотали, тренируясь в меткости. Один из мальчиков, лет шести, не сумел увернуться. Упал с разбитой головой.
Я взяла камень и у поворота догнала ту машину. Швырнула булыжник в их рожи… Не промахнулась. И отсиживалась в канаве, пока над головой свистели пули…
— …конечно, миротворческий контингент сыграл свою роль в борьбе с анархией. Но сейчас обстановка стабилизировалась. И пытаться раскачивать ее — безумие.
Я подняла голову: