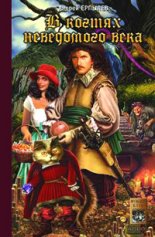Камо грядеши Сенкевич Генрик
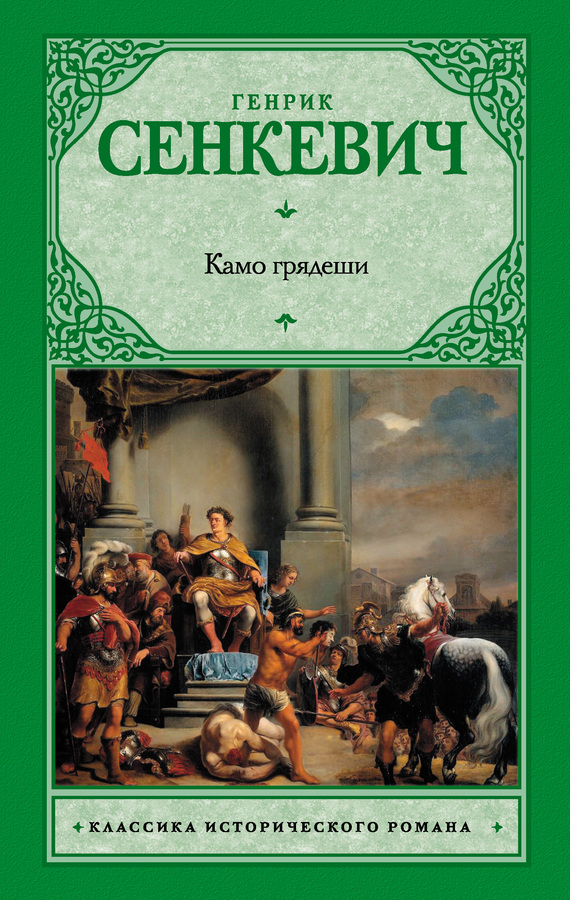
Петроний положил ему руку на плечо.
— Ты назвал императора безумным, сулил ему в преемники Пизона и сказал: «Лукан понимает, что надо спешить». С чем это вы хотите спешить, carissime?
Сцевин побледнел. С минуту они смотрели другу другу в глаза.
— Ты не повторишь этого!
— Клянусь бедрами Киприды! Ты и впрямь хорошо меня знаешь! Да, я не повторю. Я ничего не слышал, но также не хочу ничего слышать более. Ты понял? Жизнь слишком коротка, чтобы стоило что-то предпринимать. Прошу тебя только посетить сегодня Тигеллина и побеседовать с ним так же долго, как со мною, о чем захочешь.
— Зачем это?
— А затем, чтобы, если Тигеллин когда-нибудь скажет мне: «Сцевин был у тебя», я мог бы ему ответить: «В тот же день он был и у тебя».
Слушая его, Сцевин переломил тросточку из слоновой кости, которую держал в руке.
— Пусть злосчастье падет на этот хлыст. Нынче же буду у Тигеллина, а потом на пиру у Нервы. Ведь ты тоже придешь? В любом случае, до встречи послезавтра в амфитеатре, там будут выступать уже остатки христиан! До встречи!
— Послезавтра, — повторил Петроний, оставшись один. — Стало быть, времени терять нельзя. Я действительно понадоблюсь Агенобарбу в Ахайе, так что он, возможно, уважит мою просьбу.
И он решил испробовать последнее средство.
На пиру у Нервы император пожелал, чтобы Петроний возлежал за его столом, ибо намеревался поговорить с ним об Ахайе и о других городах, где он мог бы выступить с надеждой на наибольший успех. Особенно опасался он мнения афинян. Прочие августианы прислушивались к их беседе, чтобы, подобрав крохи метких фраз Петрония, выдавать их потом за свои.
— Мне кажется, что я до сих пор еще не жил, — сказал Нерон, — и только в Греции появлюсь на свет.
— Да, там ты родишься для новой славы и бессмертия, — ответствовал Петроний.
— Надеюсь, что так будет и что Аполлон не возревнует ко мне. Если я возвращусь с триумфом, совершу ему гекатомбу, какой доныне не получал ни один бог.
Сцевин процитировал строки Горация:
- Sic te diva Cypri,
- Sic fratres Helenae, lucida sidera,
- Ventorumque regat pater…[428]
— Корабль уже стоит в Неаполисе, — сказал император. — Я хотел бы выехать завтра.
Тогда Петроний, встав с ложа и глядя прямо в глаза императору, сказал:
— Дозволь мне, о божественный, сперва устроить свадебный пир, на который я прежде всего хочу пригласить тебя.
— Свадебный пир? Какой? — спросил Нерон.
— Свадьбу Виниция с дочерью царя лигийцев и твоей заложницей. Она, правда, теперь в тюрьме: но, во-первых, как заложница она не может быть заточена в темницу, а во-вторых, ты сам соизволил разрешить Виницию жениться на ней, а твои приговоры, подобно приговорам Зевса, непреложны — посему прикажи выпустить ее из тюрьмы, и я ее вручу жениху.
Хладнокровие и спокойная уверенность, с какою говорил Петроний, смутили Нерона — он всегда несколько терялся, когда с ним говорили в такой манере.
— Да, знаю, — сказал император, опуская глаза. — Я вспоминал о ней и о том великане, который задушил Кротона.
— В таком случае оба они спасены, — спокойно сказал Петроний.
Но Тигеллин пришел на помощь своему владыке.
— Она находится в тюрьме по воле императора, а ведь ты, Петроний, сам сказал, что его приговоры непреложны.
Все присутствующие, знавшие историю Виниция и Лигии, прекрасно понимали, о чем речь, и молча прислушивались, чем кончится разговор.
— Она находится в тюрьме по твоей оплошности и из-за твоего незнания «права народов», находится там против воли императора, — резко возразил Петроний. — Ты, Тигеллин, малый недалекий, но ведь и ты не станешь утверждать, что она подожгла Рим, а если бы даже и стал это утверждать, император тебе бы не поверил.
Однако Нерон уже оправился от смущения и, щуря близорукие свои глаза, с неописуемо злобной гримасой произнес:
— Петроний прав.
Тигеллин удивленно взглянул на него.
— Петроний прав, — повторил Нерон. — Завтра перед нею откроются ворота тюрьмы, а о свадебном пире мы потолкуем в амфитеатре.
«Я опять проиграл!» — подумал Петроний.
И, воротясь домой, он был настолько уверен, что жизни Лигии пришел конец, что утром следующего дня послал в амфитеатр преданного ему вольноотпущенника договориться со смотрителем сполиария, чтобы выдали ее тело, — он намеревался передать его Виницию.
Глава LXVI
Во времена Нерона вошли в обычай прежде дававшиеся редко и лишь в исключительных случаях вечерние представления в цирке и в амфитеатрах. Августианам это нравилось, потому что после таких зрелищ часто устраивались пиры и попойки до самого утра. Хотя народ был пресыщен пролитою кровью, но, когда распространилась весть, что подходит конец игр и что на вечернем представлении погибнут последние христиане, бесчисленные толпы хлынули в амфитеатр. Августианы явились все как один — они догадывались, что представление будет необычным, что император намерен развлечь себя зрелищем страданий Виниция. Тигеллин держал в тайне, какого рода казнь уготована нареченной молодого трибуна, но это лишь подстегивало всеобщее любопытство. Те, кто когда-то видел Лигию у Плавтиев, рассказывали теперь чудеса о ее красоте. Других больше всего интересовало, увидят ли они ее сегодня на арене, — многие, слышавшие ответ императора Петронию на пиру у Нервы, усматривали в нем двусмысленность. Иные даже допускали, что Нерон отдаст или уже отдал девушку Виницию, — они вспоминали, что она заложница, которой дозволено почитать любые божества, какие ей вздумается, и которую «право народов» не разрешает подвергать каре.
Неуверенность, ожидание, любопытство возбуждали сердца зрителей. Император явился раньше обычного, и с его появлением народ зашумел — видимо, и впрямь должно было произойти нечто необыкновенное, так как Нерона, кроме Тигеллина и Витиния, сопровождал Кассий, центурион гигантского роста и богатырской силы, которого император брал с собою лишь в тех случаях, когда хотел иметь рядом защитника, например, когда отправлялся на ночные прогулки по Субуре, где он устраивал себе забаву, называвшуюся «сагатио», — на солдатском плаще подбрасывали в воздух встретившихся по дороге девушек. Было отмечено, что в самом амфитеатре приняты меры предосторожности. Преторианской стражи прибавилось, и командовал ею не центурион, но трибун Субрий Флав, известный своею слепою преданностью Нерону. Очевидно, император хотел обезопасить себя на тот случай, если на Виниция вдруг найдет приступ отчаяния, — это еще усиливало напряженность ожидания.
Взгляды всех были прикованы к тому ряду, где сидел несчастный жених. Он был очень бледен, капли пота усеяли лоб — подобно прочим зрителям, его обуревали сомнения, а вдобавок мучительная тревога. Петроний, сам не зная, что должно произойти, ничего ему не сказал, только, возвратясь от Нервы, спросил, готов ли он на все, и еще — будет ли он в амфитеатре. На оба вопроса Виниций ответил: «Да!», но при этом мороз пробежал у него по коже — он догадался, что Петроний спрашивает не зря. Сам он в последнее время жил какою-то полужизнью, погруженный в думы о смерти и примирившийся с мыслью о смерти Лигии, — ведь для них обоих это было бы и освобождением, и бракосочетанием, но теперь он понял, что одно дело думать о предстоящей когда-нибудь последней минуте как о спокойном отходе ко сну и совсем иное — идти смотреть на муки существа, которое тебе дороже жизни. Все перенесенные страдания ожили в нем с новою силой. Приутихшее было отчаяние опять жгло душу, и Виницием овладело прежнее желание спасти Лигию любой ценой. Утром он попытался проникнуть в куникул, чтобы удостовериться, находится ли там Лигия, но преторианцы охраняли все входы, и приказы были им даны такие строгие, что даже знавших его солдат не смягчили ни мольбы, ни золото. Виницию казалось, что тревога прикончит его прежде, чем он увидит страшное зрелище. Где-то в глубине души еще теплилась надежда, что, быть может, Лигии нет в амфитеатре и что опасения напрасны. Минутами он отчаянно цеплялся за эту надежду. Он говорил себе, что Христос, конечно, мог забрать ее из тюрьмы, но не допустит ее мучений в цирке. Прежде Виниций как будто уже согласился на все, на что будет его воля, но теперь, когда его оттолкнули от дверей куникула и он, возвратясь на свое место в амфитеатре, по любопытным взглядам, на него обращенным, понял, что самые ужасные предположения могут осуществиться, он взмолился к богу о спасении со страстью, в которой был оттенок угрозы. «Ты можешь! — повторял он, судорожно сжимая кулаки. — Ты можешь!» А раньше он и не подозревал, что эта минута, когда она станет действительностью, будет так мучительна. Сам не понимая, что с ним происходит, он чувствовал теперь, что, если увидит муки Лигии, его любовь обернется ненавистью, а его вера — отчаянием. И чувство это пугало его, он боялся оскорбить Христа, которого молил о милосердии и о чуде. О ее жизни он уже не просил, он только хотел, чтобы она умерла прежде, чем ее выведут на арену, и из бездонной пучины скорби молча взывал: «Хоть в этом не откажи мне, и я полюблю тебя еще сильнее, чем любил до сих пор». В конце концов его мысли закружились в бешеном хороводе, как гонимые ураганом волны. В нем пробуждалась жажда мести и крови. Он готов был кинуться на Нерона и задушить его при всем народе, хотя понимал, что этим желанием оскорбляет Христа и нарушает его заповеди. Молнией мелькнула у него в мозгу надежда, что все, пред чем содрогается его душа, еще может отвратить всемогущая и милосердная рука, но эти искры надежды тут же гасли и безмерная скорбь омрачала душу — да, тот, который единым словом своим мог разрушить этот цирк и спасти Лигию, оставил ее, хотя она ему верила и любила его всеми силами своего чистого сердца. И еще он думал, что она лежит там, в темном куникуле, слабая, беззащитная, всеми покинутая, отданная на произвол озверелым стражам, быть может, доживающая уже последние мгновенья, а он должен в бездействии ждать в этом страшном амфитеатре, не зная, какую для нее придумали муку и что он увидит через минуту. Наконец, подобно падающему в пропасть и хватающемуся за любое растение, торчащее на ее краю, он страстно ухватился за мысль, что все же спасти ее может только вера. Да, оставалось только это! Ведь Петр говорил, что верою можно сдвинуть землю с ее оснований!
Усилием воли он подавил свои сомнения, всем своим существом сосредоточась в одном слове: «Верую!» — и стал ждать чуда.
Но как слишком натянутая струна должна лопнуть, так и Виниция сломило чрезмерное напряжение. Смертная бледность разлилась по лицу его, и тело стало цепенеть. Он подумал, что, видно, мольба его услышана — и он умирает. И тут же он решил, что Лигия, без сомненья, тоже умерла и что это Христос забирает их обоих к себе. Арена, белые тоги зрителей, огни тысяч ламп и факелов — все вдруг исчезло из его глаз.
Но дурнота быстро прошла. Виниций очнулся, вернее, его привел в себя нетерпеливый топот зрителей.
— Ты болен, — сказал ему Петроний. — Вели отнести себя домой!
И, не заботясь о том, как посмотрит на это император, он встал, чтобы поддержать Виниция и выйти с ним вместе. Жалость переполняла его сердце, вдобавок его невыносимо раздражало то, что император глядит сквозь изумруд на Виниция, с удовольствием наблюдая его страдания, — возможно, для того, чтобы потом описать их в патетических строфах и снискать рукоплескания слушателей.
Виниций отрицательно качнул головой. Он мог в этом амфитеатре умереть, но уйти не мог. С минуты на минуту представление должно было начаться.
И вот почти в тот же миг префект города взмахнул красным платком — по этому знаку ворота напротив императорского подиума заскрипели, и из темной их пасти вышел на ярко освещенную арену Урс.
Великан немного постоял, часто мигая, — видно, ослепленный светом, — затем вышел на середину арены, озираясь вокруг, как бы пытаясь узнать, с чем ему предстоит встретиться. Всем августианам и большинству прочих зрителей было известно, что это человек, который задушил Кротона, и при его появлении амфитеатр зашумел. В Риме не было недостатка в гладиаторах, намного превосходивших ростом и силою среднего человека, но ничего подобного глаза квиритов еще не видывали. Стоявший на подиуме за спиною императора Кассий казался по сравнению с этим лигийцем прямо-таки заморышем. Сенаторы, весталки, император, августианы и народ с восхищением знатоков и любителей смотрели на могучие, подобные древесным стволам бедра, на грудь, напоминавшую два составленных вместе щита, и на геркулесовы руки. Шум с каждой минутой усиливался. Для этой толпы не было большего наслаждения, чем смотреть на игру таких мышц в напряжении, в борьбе. Смутный шум перешел в выкрики, люди спрашивали друг друга, где живет племя, порождающее подобных великанов, а он стоял посреди амфитеатра обнаженный, похожий скорее на каменного колосса, чем на человека, его лицо с чертами варвара было сосредоточенно и печально, и, видя, что арена пуста, он изумленно поводил своими голубыми детскими глазами то на зрителей, то на императора, то на решетки куникула, откуда ждал появления палачей.
В тот миг, когда он выходил на арену, сердце его учащенно забилось в последней надежде, что, быть может, его ждет крест, но, не обнаружив ни креста, ни приготовленной ямы, он подумал, что он, знать, недостоин такой милости и что придется ему умереть иначе, скорее всего, от звериных клыков. Был он без оружия и решил погибнуть, как подобает приверженцу агнца, спокойно и терпеливо. Но ему хотелось еще раз помолиться спасителю, и, став на колени, он сложил руки и поднял глаза к звездам, мерцавшим над отверстием в кровле цирка.
Такое поведение его не понравилось зрителям. Христиане, умирающие как овцы, им уже надоели. Если этот великан, думали они, не захочет защищаться, зрелище будет испорчено. Тут и там послышался свист. Некоторые стали вызывать мастигофоров, чьей обязанностью было хлестать бичом борцов, не желающих драться. Однако крики и свист быстро стихли, так как никто не знал, что ждет этого великана и не захочет ли он все-таки обороняться, когда встретится со смертью лицом к лицу.
Долго ждать не пришлось. Внезапно раздались оглушительные звуки медных труб, решетка напротив императорского подиума открылась, и на арену под улюлюканье бестиариев выбежал чудовищно огромный германский тур, с привязанной к его голове обнаженной женщиной.
— Лигия! Лигия! — вскричал Виниций.
Он схватил пряди волос у себя на висках, скорчился весь, как человек, ощутивший в своем теле острие копья, и стал хриплым, нечеловеческим голосом повторять:
— Верую! Верую! Христос! Чуда!
Он даже не почувствовал, что в этот миг Петроний набросил ему на голову край тоги. Вероятно, подумал он, это смерть или же чрезмерная боль закрыли от него мир пеленою мрака. Он не смотрел, он ничего не видел. Ощущение страшной пустоты охватило его. В голове не осталось ни единой мысли, только губы шептали, как в припадке безумия:
— Верую! Верую! Верую!
Амфитеатр притих. Августианы, все как один, поднялись с мест — на арене происходило нечто необычное. Этот смиренный, готовый на смерть лигиец, увидав свою царевну на рогах у дикого животного, вскочил, будто ошпаренный, и, пригнувшись, побежал навстречу разъяренному туру.
Из всех грудей вырвался вопль изумления, после чего воцарилась тишина. Лигиец, в мгновение ока очутившись подле беснующегося животного, схватил его за рога.
— Смотри! — крикнул Петроний, срывая тогу с головы Виниция.
Тот встал, откинул назад голову и, бледный как полотно, уставился на арену остекленевшими, полубезумными глазами.
Зрители затаили дыхание. Тишина была такая, что слышно было, как пролетает муха. Люди не верили своим глазам. С тех пор как Рим стоит, не видано было ничего подобного.
Лигиец держал дикого быка за рога. Ноги великана по щиколотку погрузились в песок, спина выгнулась как натянутый лук, голова ушла в плечи, мышцы на руках вздулись так, что кожа едва не лопалась от их напора, но бык не мог сдвинуться с места. Человек и животное застыли недвижимы — это напоминало картину, изображавшую подвиги Геркулеса или Тесея, или изваянную из камня группу. Но в мнимом их покое чувствовалось страшное напряжение двух борющихся сил. Тур, как и человек, врылся ногами в песок, косматое его туловище изогнулось так, что он стал похож на огромный шар. Кто первый обессилеет, кто первый упадет — вот вопрос, который в ту минуту был для этих страстных любителей борьбы важнее, чем их собственная участь, чем весь Рим и его господство над миром. Лигиец теперь для них был полубогом, достойным поклонения и статуй. Сам император встал. Они с Тигеллином, зная о силе этого человека, нарочно подготовили такое зрелище и с издевкой говорили: «Пусть-ка этот кротоноубийца одолеет тура, которого мы ему выберем», а теперь в изумлении глядели на представшую их взорам сцену, не веря своим глазам. В амфитеатре было немало людей, которые, подняв руки, так и замерли в этой позе. У других лбы заливал пот, точно они сами боролись с быком. В цирке слышалось лишь шипенье огня в лампах да шорох сыплющихся с факелов угольков. Зрители онемели, не могли издать ни звука, зато бешено колотились сердца, готовые выскочить из груди. Казалось, борьба длится уже целую вечность.
А человек и животное, сцепившись в чудовищном напряжении, все стояли, будто вкопанные в землю.
Внезапно на арене раздалось глухое, схожее со стоном мычанье, и в ответ ему из уст зрителей вырвался единодушный вопль. Потом опять стало тихо. Людям казалось, что они видят сон; но вот уродливая голова тура в железных руках варвара стала сворачиваться набок.
Лицо лигийца, его шея и плечи побагровели, спина еще круче изогнулась. Видно было, что его сверхчеловеческая сила иссякает и ее ненадолго хватит.
Все более глухое, хриплое и стонущее мычанье тура смешивалось со свистящим дыханием легких великана. Голова животного все больше клонилась в сторону, из пасти вывалился длинный, весь в пене язык.
Еще минута, и до слуха сидевших поближе донесся хруст ломающихся костей, после чего тур замертво повалился наземь со свернутой шеей.
Тогда великан в мгновенье ока сорвал веревки с его рогов и, взяв девушку на руки, часто задышал, переводя дух.
Лицо его побледнело, волосы от пота слиплись, плечи и руки будто были облиты водою. С минуту стоял он так, словно в забытьи, затем поднял глаза и оглядел зрителей.
Амфитеатр неистовствовал.
Стены здания дрожали от крика десятков тысяч людей. С самого начала игр никто еще не вызывал такого восторга. Сидевшие в верхних рядах оставили свои места и стали спускаться вниз, толпясь в проходах между скамьями, чтобы увидеть силача вблизи. Во всех концах цирка раздавались выкрики с требованием пощады, выкрики страстные, настойчивые, слившиеся вскоре в сплошной, оглушительный вопль. Великан стал любимцем толпы, чтившей физическую силу, и первой в Риме персоной.
Он понял, что народ требует даровать ему жизнь и вернуть свободу, но, видимо, его тревожила не только собственная участь. Некоторое время он стоял, озираясь, потом приблизился к императорскому подиуму и, покачивая на вытянутых руках тело девушки, поднял глаза с умоляющим выражением, как бы говоря: «Смилуйтесь над ней! Ее спасите! Я для нее это сделал!»
Зрители отлично поняли, чего он хочет. Вид лежавшей в обмороке девушки, которая рядом с огромным лигийцем казалась ребенком, тронул толпу, всадников и сенаторов. Ее маленькая фигурка, такая белая, словно высеченная из алебастра, ее обморок, страшная опасность, от которой ее спас великан, и, наконец, ее красота и его преданность потрясли всех. Некоторые думали, что это отец умоляет пощадить его дитя. Жалость вдруг вспыхнула, как огонь, в сердцах зрителей. Довольно крови, довольно смертей, довольно мук! Голоса, в которых слышались слезы, требовали помилования для обоих.
Урс между тем обходил арену по кругу и, все так же покачивая девушку на руках, жестом этим и взором молил сохранить ей жизнь. Внезапно Виниций сорвался со своего места, перепрыгнул через барьер, отделявший первый ряд от арены, и, подбежав к Лигии, набросил тогу на ее обнаженное тело.
Затем он разодрал свою тунику на груди, открывая шрамы от ран, полученных в армянской войне, и протянул руки к народу.
Исступление толпы превзошло все, что доныне видели в амфитеатрах. Раздались топот, вой, в требующих пощады голосах слышалась угроза. Народ заступался уже не только за атлета, он защищал девушку, воина и их любовь. Тысячи зрителей обратили лица к императору, глаза их сверкали гневом, кулаки сжимались. Но император медлил, колебался. К Виницию он, правда, ненависти не питал и вовсе не жаждал смерти Лигии, но все же он предпочел бы увидеть, как девичье тело будут раздирать рога тура или терзать клыки хищников. Его жестокость, равно как порочное воображение и извращенные наклонности находили особое наслаждение в подобных зрелищах. А тут народ хотел его лишить удовольствия. Эта мысль привела Нерона в гнев, исказивший его обрюзглое лицо. Вдобавок самолюбие не позволяло ему уступить воле толпы, но в то же время из-за врожденной трусости он не смел противиться.
Нерон оглянулся вокруг — не увидит ли хотя бы в рядах августиан обращенных вниз пальцев, знака смерти. Но Петроний держал руку поднятой вверх, да при этом еще смотрел ему в лицо чуть ли не вызывающе. Суеверный, но увлекающийся Вестин, который боялся духов и не боялся людей, делал знак пощады. Также и сенатор Сцевин, и Нерва, и Туллий Сенецион, и старый, знаменитый полководец Осторий Скапула[429], и Антистий, и Пизон, и Венет[430], и Криспин, и Минуций Терм[431], и Понтий Телезин, и почтеннейший, уважаемый всем народом Тразея. Видя это, император отставил от глаза изумруд с выражением презрения и обиды, и тут Тигеллин, которому было важно досадить Петронию, наклонился к нему и сказал:
— Не уступай, божественный, у нас есть преторианцы.
Тогда Нерон обернулся в сторону преторианцев, начальником которых был суровый, всегда преданный ему душою и телом Субрий Флав, и увидел нечто необычное. Грозное лицо старого трибуна было залито слезами, и руку он держал поднятой вверх в знак милосердия.
А толпа между тем бесновалась. От топающих ног поднялась пыль по всему амфитеатру. Слышались выкрики: «Агенобарб! Матереубийца! Поджигатель!»
Нерон струсил. В цирке народ был всевластным господином. Прежние императоры, особенно Калигула, позволяли себе порой противиться его воле, что, впрочем, всегда приводило к беспорядкам и даже к кровопролитию. Однако Нерон был в ином положении. Прежде всего, как комедиант и певец он нуждался в хвалах толпы, во-вторых, он хотел привлечь народ на свою сторону против сената и патрициев, и, наконец, после пожара Рима он всячески старался задобрить народ и обратить его гнев на христиан. Нерон понял, что противиться долее просто опасно. Если в цирке начнется волненье, оно может охватить весь город и иметь самые непредвиденные последствия.
Итак, он еще раз взглянул на Субрия Флава, на центуриона Сцевина, состоявшего в родстве с сенатором, на преторианцев и, видя повсюду нахмуренные брови, растроганные лица и обращенные к нему взоры, подал знак пощады.
Гром рукоплесканий прокатился по амфитеатру снизу доверху. Народ теперь был уверен, что осужденные будут жить, — с этой минуты они поступали под его покровительство, и даже император не посмел бы преследовать их впредь своею местью.
Глава LXVII
Четверо вифинцев осторожно несли Лигию к дому Петрония, Виниций и Урс шли рядом, озабоченные тем, чтобы поскорее поручить ее лекарю-греку. Шли они молча — после всего пережитого в этот день трудно было вести беседу. Виниций и сейчас был в полузабытьи. Он твердил себе, что Лигия спасена, что ей уже не грозят ни тюрьма, ни смерть в цирке, что бедам раз навсегда пришел конец и что он берет ее домой, чтобы больше уже не разлучаться. И чудилось ему, что это не явь, но начало какой-то иной жизни. То и дело он наклонялся к открытым носилкам, чтобы смотреть на любимое лицо, — при свете луны казалось, будто Лигия спит, — и мысленно повторял: «Это она! Христос ее спас!» Он также вспоминал, что в сполиарий, куда они вдвоем с Урсом сперва отнесли Лигию, пришел незнакомый ему врач и уверил, что девушка жива и будет жить. Эта мысль наполняла его грудь таким безмерным счастьем, что он минутами даже слабел, едва мог идти и вынужден был опираться на плечо Урса. А тот все смотрел в усеянное звездами небо и молился.
Они быстро шли по улицам, на которых ярко белели в лунном свете недавно возведенные дома. Вокруг было пустынно. Лишь кое-где группы людей, увенчанных гирляндами плюща, пели и плясали перед портиками под звуки флейт, радуясь дивной ночи и празднику, который длился с открытия игр. Лишь когда они уже приближались к дому, Урс перестал молиться и тихо, словно опасаясь разбудить Лигию, заговорил:
— Это спаситель избавил ее от смерти. Когда я увидел ее на рогах тура, в моей душе раздался голос: «Защищай ее!» Ясное дело, это был голос агнца. Тюрьма высосала мою силу, но он вернул ее мне для той минуты, и он вдохновил этот жестокий народ заступиться за нее. Да будет его воля!
— Да будет прославлено его имя! — отозвался Виниций.
Больше говорить он не мог, почувствовав вдруг, что рыданья рвутся из его груди. Его охватило безумное желание пасть ниц и благодарить спасителя за чудо и милосердие.
Тем временем они подошли к дому. Челядь, предупрежденная гонцом, которого послали вперед, уже стояла толпою, встречая их. Павел из Тарса еще в Анции обратил большинство слуг Петрония. Злоключения Виниция были им известны, и радость при виде вызволенных из злобных лап Нерона не имела границ. Она еще возросла, когда лекарь Теокл, осмотрев Лигию, заявил, что никаких тяжких повреждений не находит и, когда слабость после перенесенной в тюрьме лихорадки пройдет, она будет здорова.
Сознание вернулось к Лигии этой же ночью. Очнувшись в роскошном кубикуле, освещенном коринфскими лампами, среди благоуханья вербены, она не понимала, где она и что с нею происходит. Она помнила минуту, когда ее привязывали к рогам спутанного цепями быка, и теперь, видя в мягком розоватом свете склоненное над нею лицо Виниция, она подумала, что, наверно, они уже не на земле. В измученной ее головке мысли путались — ей показалось вполне естественным, что где-то на полпути к небу они на время остановились из-за ее усталости и бессилия. Не ощущая никакой боли, она улыбнулась и хотела его спросить, где они находятся, но уста ее издали только еле слышный шепот, в котором Виниций с трудом различил свое имя.
Став рядом на колени и легко положив руку на ее лоб, он сказал:
— Христос тебя спас и возвратил тебя мне!
Ее губы опять зашевелились, шепча что-то непонятное, но тут же веки опустились, грудь от легкого вздоха приподнялась, и Лигия погрузилась в глубокий сон, которого ждал лекарь Теокл и после которого он предсказывал ей возвращение к жизни.
А Виниций так и остался подле нее на коленях, поглощенный молитвою. Душа его преображалась в огне любви столь великой, что он забыл обо всем на свете. Несколько раз в кубикул входил Теокл, из-за откинутой завесы то и дело показывалась золотоволосая голова Эвники, и, наконец, журавли, которых разводили в садах, закурлыкали, возвещая наступление дня, а он все еще мысленно припадал к стопам Христа, не видя и не слыша, что творится вокруг, а сердце его пылало жертвенным огнем благодарности — объятый восторгом, он еще при жизни как бы возносился в обитель райскую.
Глава LXVIII
После освобожденья Лигии Петроний, не желая раздражать императора, отправился вместе с прочими августианами вслед за ним на Палатин. Кстати, он хотел послушать, о чем там будут говорить, а главное, убедиться, не придумает ли Тигеллин чего-нибудь еще, чтобы погубить девушку. Конечно, и она, и Урс теперь перешли под покровительство народа, и никто не мог поднять на них руку, не вызвав народного возмущения, но Петроний, зная, какую ненависть питал к нему всемогущий префект претория, допускал, что Тигеллин, не имея сил ударить прямо по нему, постарается утолить жажду мести за счет его племянника.
Нерон был раздражен, гневен — представление закончилось совсем не так, как он желал бы. На Петрония он вначале и смотреть не хотел, но тот с обычным своим хладнокровием подошел к императору и непринужденно, как истый арбитр изящества, сказал:
— Знаешь ли, божественный, что пришло мне на ум? Напиши песнь о девушке, которую воля владыки мира избавляет от рогов дикого тура и отдает возлюбленному. У греков чувствительные сердца, я уверен, что такая песнь их очарует.
Нерону, несмотря на его досаду, эта мысль понравилась по двум причинам: прежде всего как тема для песни и еще потому, что он мог прославить в ней самого себя как великодушного владыку мира. С минуту поглядев на Петрония, он сказал:
— Да, верно! Возможно, ты прав! Но подобает ли мне воспевать собственную доброту?
— Тебе вовсе не надо себя называть. В Риме и так всякий догадается, о чем речь, а из Рима вести распространяются по всему миру.
— И ты уверен, что в Ахайе это понравится?
— Клянусь Поллуксом! — воскликнул Петроний.
И он ушел удовлетворенный — теперь-то он был уверен, что Нерон, чья жизнь вся проходила в прилаживании действительности к литературным вымыслам, не пожелает испортить сюжет и тем свяжет руки Тигеллину. Это, однако, не повлияло на его намерение выпроводить Виниция из Рима, как только здоровье Лигии не будет тому помехой. На следующий день при встрече с Виницием он сказал:
— Отвези ее на Сицилию. После случившегося вам со стороны императора ничто не грозит, но Тигеллин готов пустить в ход даже яд из ненависти если не к вам, так ко мне.
— Она была на рогах дикого тура, и все же Христос ее спас, — с усмешкой возразил Виниций.
— Так ты почти его гекатомбой, — с легким раздражением ответил Петроний, — но не проси спасти ее во второй раз. Ты помнишь, как Эол принял Одиссея, когда тот во второй раз пришел просить его о попутном ветре? Боги не любят повторяться.
— Когда к ней вернется здоровье, — сказал Виниций, — я отвезу ее к Помпонии Грецине.
— И это будет тем более разумно, что Помпония больна. Мне сказал об этом Антистий, родственник Плавтиев. Здесь же произойдут тем временем такие события, что люди о вас забудут, — а в нынешние дни счастливейшие из людей те, о ком забыли. Да будет вам Фортуна солнцем зимою и тенью летом!
С этими словами он оставил Виниция упиваться своим счастьем, а сам пошел расспросить Теокла о здоровье Лигии.
Жизни ее опасность уже не грозила. Конечно, останься она в тюремном подвале, ее, страшно исхудавшую после лихорадки, прикончили бы гнилой воздух и лишения, но теперь она была окружена заботливым уходом и не просто достатком, но роскошью. По предписанию Теокла ее через два дня начали выносить в окружавшие виллу сады, где она проводила целые часы. Виниций украшал ее носилки анемонами и, главное, ирисами, чтобы напомнить ей об атрии в доме Авла. Под сенью высоких деревьев они, держась за руки, часто беседовали о минувших страданьях и тревогах. Лигия говорила, что Христос с умыслом провел его через мученья, чтобы изменить его душу и поднять ее до себя, и он чувствовал, что это правда и что не осталось в нем ничего от прежнего патриция, не признававшего иного закона, кроме своих желаний. Но в воспоминаниях этих не было никакой горечи. Обоим чудилось, будто годы пролетели над ними и мучительное прошлое уже где-то далеко позади. И нисходил на них покой, какого они доселе не знали. Им навстречу шла какая-то новая жизнь, полная блаженства, и завладевала ими. Пусть в Риме император безумствует и сеет тревогу во всем мире, они, чувствуя покровительство силы безмерно более могущественной, уже не страшились ни его злобы, ни его безумств, как если бы он перестал быть владыкой их жизни и смерти. Однажды в час заката они услышали доносившееся из вивариев рычанье львов и других диких зверей. Когда-то эти звуки пронзили Виниция тревогой, как зловещий знак. Теперь же оба они лишь с улыбкой переглянулись и подняли глаза к вечерним звездам. Лигия была еще очень слаба и не могла самостоятельно ходить, порою она засыпала в тишине сада, а он сидел рядом и, всматриваясь в ее лицо, невольно думал, что это уже не та Лигия, которую он встретил у Плавтиев. Да, из-за тюрьмы и болезни ее красота несколько поблекла. Тогда, у Авла, и позже, когда он пришел ее похитить из дома Мириам, она была прекрасна, как статуя, как цветок, ныне же лицо ее стало прозрачным, руки исхудали, тело иссушил недуг, уста побледнели, и даже глаза казались не такими голубыми, как прежде. Золотоволосая Эвника, приносившая ей цветы и драгоценные ткани, чтобы укрывать ноги, глядела кипрскою богиней рядом с нею. Эстет Петроний тщетно пытался увидеть в Лигии ее былую прелесть и, пожимая плечами, думал, что эта тень с Елисейских полей, пожалуй, не стоила тех усилий, страданий и тревог, которые едва не свели Виниция в могилу. Но Виниций, любивший теперь ее душу, тем пуще любил ее и, оберегая ее сон, чувствовал себя так, будто оберегает целый мир.
Глава LXIX
Весть о чудесном избавлении Лигии быстро разошлась среди оставшихся в живых христиан. Приверженцы нового учения приходили на виллу, чтобы увидеть ту, которой была явлена милость Христова. Первыми пришли молодой Назарий с Мириам, у которых до сих пор скрывался апостол Петр, а за ними стали приходить и другие. Собираясь вместе, они с Виницием, Лигией и Петрониевыми рабами-христианами благоговейно слушали рассказ Урса о голосе, прозвучавшем в его душе и повелевшем ему бороться с диким зверем, после чего расходились утешенные и обнадеженные, что Христос все же не допустит, чтобы его приверженцев истребили всех до единого на земле, пока сам он не явится вершить страшный суд. И эта надежда укрепляла их сердца среди непрекращавшихся гонений. Стоило указать на кого-нибудь как на христианина, и городская стража тотчас бросала его в тюрьму. Жертв, правда, было уже не так много — большинство христиан погибли в тюрьме или были замучены, а уцелевшие покинули Рим, чтобы в дальних провинциях переждать бурю, или же скрывались, боясь собираться на общую молитву, кроме как в находившихся за городом каменоломнях. Но их еще выслеживали, хватали и хотя игры завершились, держали для следующих игр или же судили на месте. Римский народ уже не верил, что виновниками пожара были христиане, но все равно их объявляли врагами рода человеческого, и эдикт, против них изданный, сохранял силу.
Апостол Петр долго не решался появляться в доме Петрония, но вот однажды вечером Назарий известил о его приходе. Лигия, уже начавшая ходить, и Виниций оба поспешили его встретить и кинулись обнимать его ноги, а он приветствовал их с глубочайшим волненьем — так мало осталось уже овец в стаде, которое препоручил ему Христос и над участью которого плакало ныне его любящее сердце. И когда Виниций сказал ему: «Отче! Это ради тебя спаситель возвратил ее мне!», апостол ответил: «Он возвратил ее ради веры твоей и ради того, чтобы не все уста, прославляющие имя его, умолкли». И в этот миг он, видимо, думал о тысячах чад своих, растерзанных дикими зверями, о крестах, густою чащей высившихся на аренах, и об огненных тех столбах в садах Зверя, ибо в голосе его звучала великая скорбь. Виниций и Лигия заметили также, что волосы его стали совершенно белыми, спина согнулась, а в лице было столько печали и боли, словно он сам прошел через все терзания и муки, которым подверглись жертвы свирепости и безумия Нерона. Но оба уже понимали: коль Христос сам отдал себя на муки и смерть, никто не должен от нее уклоняться. И все же сердца их сжимались при виде апостола, согбенного под бременем лет, трудов и горя. Виниций, собиравшийся через несколько дней отвезти Лигию в Неаполис, где они должны были встретить Помпонию и с нею отплыть на Сицилию, стал умолять старца покинуть вместе с ними Рим.
Но апостол, возложив руку на его голову, ответствовал:
— Я слышу в душе моей голос господа, как на море Тивериадском он сказал мне: «Когда ты был молод, ты препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состарешься, то прострешь руки свои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Посему надлежит мне идти вслед за стадом моим.
Они слушали молча, не разумея его слов. Тогда он продолжил:
— Подходит к концу труд мой, но гостеприимство и отдых я найду единственно в доме господа. — И, обращаясь к ним обоим, прибавил: — Помните меня, ибо я вас любил, как отец любит детей своих, и все, что будете в жизни делать, делайте во славу божию.
Молвив это, он поднял свои старые трясущиеся руки и благословил их, а они прильнули к нему, чувствуя, что, быть может, получают последнее благословение из его рук.
Им, однако, было суждено увидеть его еще раз. Несколько дней спустя Петроний принес с Палатина грозную весть. Там обнаружили, что один из вольноотпущенников императора был христианином, и нашли у него послания апостолов Петра и Павла из Тарса, а также послания Иакова, Иуды и Иоанна. О пребывании Петра в Риме Тигеллин знал и раньше, но он полагал, что апостол погиб с тысячами других последователей Христа. Теперь оказалось, что два главных проповедника новой веры до сих пор живы и находятся в столице, и было велено разыскать их и схватить любой ценой — с их смертью, надеялись, будут вырваны последние корни ненавистной секты. Как слышал Петроний от Вестина, сам император приказал, чтобы через три дня Петр и Павел из Тарса были в Мамертинской тюрьме, и целые отряды преторианцев посланы обыскивать все дома в Заречье.
Узнав об этом, Виниций решил предупредить апостола. Вечером он и Урс, надев галльские плащи, закрывающие лицо, отправились к дому Мириам, у которой жил Петр, — дом этот стоял на самой окраине Заречья, у подножья Яникульского холма. По пути они видели дома, окруженные солдатами, которыми командовали незнакомые люди. В квартале было беспокойно, там и сям толпились любопытные, центурионы допрашивали схваченных, допытываясь о Петре Симоне и о Павле из Тарса.
Урс и Виниций, опередив солдат, беспрепятственно дошли до жилища Мириам и застали там Петра в окружении горсточки верующих. Подле апостола находились также помощник Павла из Тарса Тимофей и Лин.
При вести о близкой опасности Назарий вывел всех по крытому переходу к садовой калитке, а затем — к заброшенным каменоломням, расположенным в нескольких сотнях шагов от Яникульских ворот. Урсу пришлось нести Лина, кости которого, переломанные во время пыток, еще не срослись. Очутившись в подземных коридорах, все почувствовали себя в безопасности и при свете зажженного Назарием светильника начали вполголоса совещаться, как спасти драгоценную для них жизнь апостола.
— Отче, — сказал ему Виниций, — пусть завтра на рассвете Назарий выведет тебя из города к Альбанской горе. Там мы тебя встретим и заберем в Анций, где нас двоих ждет корабль, чтобы повезти в Неаполис и на Сицилию. Счастливым будет тот день и час, когда ты войдешь в мой дом и благословишь мой очаг.
Его выслушали с радостью и стали уговаривать апостола:
— Скройся, пастырь наш, ведь в Риме тебе не уцелеть. Сохрани живое слово истины, дабы не исчезла она вместе с нами и с тобою. Послушайся нас, просим тебя как отца.
— Сделай это во имя Христа! — призывали другие, хватаясь за край его одежды.
— Дети мои! — ответствовал он. — Кто может знать, когда назначил господь предел жизни его?
Однако он не говорил, что не покинет Рима, и сам колебался, потому что уже давно в его душе поселилось сомнение, даже тревога. Паства рассеяна, дело погибло, церковь, которая до пожара возросла могучим древом, обращена в прах властью Зверя. Не осталось ничего, кроме слез, кроме воспоминаний, мук и смерти. Семена дали обильные всходы, но сатана втоптал их в землю. Силы ангельские не пришли на помощь погибавшим, и вот Нерон восседает в славе, попирая весь мир, страшный, более могущественный, чем когда-либо, владыка всех морей и всей суши. Уже не раз рыбарь господень воздевал в одиночестве руки к небу и вопрошал: «Господи! Что мне делать? Как мне здесь остаться? И как мне, немощному старику, бороться с несметной ратью злого духа, которому ты разрешил владеть и побеждать?»
Взывая из глубин безграничного горя, он мысленно повторял: «Нет уже тех овец, которых ты приказал мне пасти, нет твоей церкви, пустыня и скорбь в столице твоей, так что ж ты ныне прикажешь мне? Оставаться ли здесь или увести остатки стада, дабы где-нибудь за морями мы славили имя твое тайно?»
И он колебался. Он верил, что живая правда не погибнет и должна взять верх, но иногда думалось ему, что еще не настал ее час и что настанет он лишь тогда, когда на землю в день суда сойдет господь и воссядет в славе и силе, во сто крат более могущественный, чем Нерон.
Часто ему мечталось, что вот покинет он Рим, верующие пойдут за ним, и он уведет их далеко-далеко, в тенистые рощи Галилеи, к тихим заливам Тивериадского моря, к пастухам мирным, как голуби или как овцы, которые там пасутся среди чабреца и нарда. И все сильнее жаждало сердце рыбака тишины и отдыха, все больше тосковало по озеру и по Галилее, все чаще заливали слезы старческие глаза.
Но стоило ему на миг сделать этот выбор, как его обуревали страх и беспокойство. Как? Ему оставить этот город, где земля пропиталась мученической кровью и где столько уст в смертный час засвидетельствовали истину? Неужто ему одному уклониться от этого? И что ответит он господу, если услышит: «Вот, они умерли за веру свою, а ты убежал?»
Ночи и дни проходили в сомнениях и терзаниях. Те, кого разорвали львы, кого распяли на крестах, кого сожгли в императорских садах, все те, претерпев муки, почили в господе, а он не мог обрести покоя и испытывал муку страшнее всех мук, изобретенных палачами для их жертв. Нередко заря уже освещала кровли домов, а он все взывал в смятении душевном:
— Господи, как же ты велел мне прийти сюда и в сем гнезде Зверя основать столицу твою?
За тридцать четыре года, минувшие со дня гибели его господа, он не ведал отдыха. С посохом в руках странствовал по свету и разносил «благую весть». В странствиях и трудах иссякли его силы, и вот наконец, когда в этом городе, главе мира, он утвердил дело учителя, злоба испепелила все огненным своим дыханием, и он видел, что надобно снова начинать борьбу. Да какую борьбу! На одной стороне император, сенат, народ, легионы, железным обручем сковавшие весь мир, бессчетные крепости, необъятные земли, могущество, какого глаза человеческие не видывали, а на другой стороне он, согбенный годами и трудом, настолько дряхлый, что трясущиеся руки уже едва удерживали дорожный посох.
И порою он говорил себе, что не ему меряться с императором Рима и что дело это может совершить лишь сам Христос.
Все эти мысли мелькали теперь в озабоченном его мозгу, когда он слушал просьбы последней горсточки верующих, а они, все более тесным кольцом окружая его, умоляли:
— Спрячься, рабби, и уведи и нас из-под власти Зверя.
Наконец Лин склонил перед ним свою измученную голову.
— Отче, — сказал он, — спаситель повелел тебе пасти овец своих, но их уже здесь нет и завтра совсем не будет, и ты иди туда, где сможешь их еще найти. Живо еще слово божье и в Иерусалиме, и в Антиохии, и в Эфесе, и в других городах. Чего ты достигнешь, оставшись в Риме? Гибелью своей лишь умножишь торжество Зверя. Иоанну господь не определил срока жизни его. Павел — римский гражданин, и без суда его пока казнить не могут, но если над тобою, учитель, разразится ярость сил адовых, тогда те, кто уже пал духом, будут спрашивать: «Кто же одолеет Нерона?» Ты — камень, на котором воздвигнута церковь господня. Позволь нам умереть, но не дай антихристу победить наместника божия и не возвращайся сюда, пока господь не сокрушит пролившего невинную кровь.
— Взгляни на наши слезы! — повторяли остальные.
Слезы текли и по лицу Петра. Через некоторое время он все же поднялся и, простирая руки над коленопреклоненными, молвил:
— Да будет прославлено имя господне и да свершится воля его!
Глава LXX
На другой день в предрассветных сумерках два странника шли по Аппиевой дороге к равнине Кампании.
Одним из них был Назарий, другим — апостол Петр, который покидал Рим и гонимых единоверцев.
Небо на востоке уже окрашивалось в зеленоватые тона, которые постепенно и всё более явственно переходили у горизонта в шафранный цвет. Серебристая листва деревьев, белый мрамор вилл и арки акведуков, тянувшихся по равнине в город, выступали из темноты. Зеленоватое небо все больше светлело, становилось золотистым. Но вот восток порозовел, и заря осветила Альбанские горы — их дивные сиреневые тона, казалось, сами излучали свет.
Искорками мерцали на трепетных листьях деревьев капли росы. Мгла рассеивалась, открывая все более обширную часть равнины с разбросанными на ней домами, кладбищами, селеньями и купами деревьев, средь которых белели колонны храмов.
Дорога была пустынна. Крестьяне, возившие в город зелень, еще, видимо, не успели запрячь мулов в свои тележки. На каменных плитах, которыми вплоть до самых гор была вымощена дорога, стучали деревянные сандалии двух путников.
Наконец над седловиной между горами показалось солнце, и странное явление поразило апостола. Ему почудилось, будто золотой диск, вместо того чтобы подыматься все выше по небу, спускается с гор и катится по дороге.
— Видишь это сияние — вон оно, приближается к нам? — молвил Петр, остановясь.
— Я ничего не вижу, — отвечал Назарий.
Минуту спустя Петр, приставив к глазам ладонь, сказал:
— К нам идет кто-то, весь в солнечном сиянии.
Однако никакого шума шагов они не слышали. Вокруг было совершенно тихо. Назарий видел только, что деревья вдали колышутся, словно кто-то их тряхнул, и все шире разливается по равнине свет.
Он с удивлением поглядел на апостола.
— Рабби, что с тобою? — тревожно спросил юноша.
Дорожный посох Петра, выскользнув из его руки, упал наземь, глаза были устремлены вперед, на лице изображались изумление, радость, восторг.
Внезапно он бросился на колени, простирая руки, и из уст его вырвался возглас:
— Христос! Христос!
И он приник головою к земле, будто целовал чьи-то ноги.
Наступило долгое молчанье, потом в тишине послышался прерываемый рыданьями голос старика:
— Quo vadis, Domine?[433]
Не услышал Назарий ответа, но до ушей Петра донесся грустный, ласковый голос:
— Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим, на новое распятие.
Апостол лежал на земле, лицом в пыли, недвижим и нем. Назарий испугался, что он в обмороке или умер, но вот наконец Петр встал, дрожащими руками поднял страннический посох и, ни слова не говоря, повернул к семи холмам города.
Видя это, юноша повторил как эхо:
— Quo vadis, Domine?
— В Рим, — тихо отвечал апостол.
И он возвратился.
Павел, Иоанн, Лин и все верующие встретили апостола с изумлением и тревогой — на рассвете, сразу же после его ухода, преторианцы окружили дом Мириам и искали там Петра. Но на все вопросы он отвечал радостно и спокойно:
— Я видел господа!
И вечером того же дня направился на кладбище в Остриан, чтобы поучать и крестить тех, кто хотел омыться в живой воде.
С тех пор он приходил туда ежедневно, и за ним следовала все более многочисленная толпа. Казалось, из каждой слезы мучеников рождаются все новые уверовавшие и каждый стон на арене отзывается эхом в тысячах грудей. Император купался в крови, Рим и весь языческий мир безумствовал. Но те, кому стало невмоготу от злодейств и безумия, кого унижали, чья жизнь была сплошным горем и рабством, все угнетенные, все опечаленные, все страждущие шли слушать дивную весть о боге, из любви к людям отдавшем себя на распятие, чтобы искупить их грехи.
Найдя бога, которого они могли любить, люди находили то, чего никому доселе не мог дать тогдашний мир, — счастье любви.
И Петр понял, что ни императору, ни всем его легионам не одолеть живой истины, что ни слезы, ни кровь не зальют, не погасят ее и что лишь теперь начинается ее победное шествие. Понял он также, зачем господь повернул его на пути, — да, град гордыни, злодеяний, разврата и насилия превращался в его, Петров, град и дважды его столицу, откуда ширилась по свету его власть над телами и душами людей.
Глава LXXI
Но вот исполнился срок для обоих апостолов. И словно в завершение труда дано было божьему рыбарю уловить еще две души даже в тюрьме. Воины Процесс и Мартиниан, его стражи в Мамертинской тюрьме, приняли крещение. Потом настал час мученической смерти. Нерона тогда в Риме не было. Приговор вынесли Гелий и Поликлит, два вольноотпущенника, которым император на время своего отсутствия поручил править Римом. Дряхлого апостола подвергли сперва предписанной законом порке, а на другой день повезли за городскую стену, на Ватиканский холм, где предстояла ему казнь на кресте. Солдаты дивились собравшейся перед тюрьмой толпе — по их понятиям, смерть простолюдина, вдобавок чужеземца, не должна была вызывать такого интереса, и невдомек им было, что толпятся у тюремных ворот не любопытные, но единоверцы, желающие проводить великого апостола на место казни. После полудня ворота тюрьмы наконец раскрылись, и появился Петр, сопровождаемый отрядом преторианцев. Солнце уже клонилось к Остии, день был тихий, погожий. Ради преклонных лет Петру разрешили не нести крест, понимая, что ему креста не поднять, и не надели на шею рогатку, чтобы не затруднять при ходьбе. Он шел свободно, и верующие хорошо его видели. В тот миг, когда среди железных солдатских шлемов забелела его седая голова, в толпе раздался плач, но почти сразу же стих, ибо лицо старца было таким светлым, сияло такою радостью, что все поняли: то не жертва идет на казнь, то совершает триумфальное шествие победитель.
Так оно и было. Этот рыбак, обычно смиренный и согбенный, шел теперь прямой, горделивый, возвышаясь над солдатами. Никогда еще не видели столько величия в его осанке. Мнилось, то выступает монарх, окруженный народом и воинами. Вокруг слышались возгласы: «Глядите, Петр идет к господу!» Все точно забыли, что его ждут муки и смерть. Люди шли в торжественной сосредоточенности, но спокойно, чувствуя, что со времен смерти на Голгофе не было до сих пор ничего равного по величию и как та смерть искупила грехи целого мира, так эта искупит грехи Рима.
Встречные с удивлением останавливались при виде старца, и верующие, кладя им руку на плечо, говорили спокойными голосами: «Смотрите, как умирает праведник, который знал Христа и проповедовал миру любовь». И те задумывались и, идя дальше, говорили себе: «Да, верно, такой не мог быть неправедным!»
На их пути смолкали уличные крики и шум. Шествие двигалось среди недавно сооруженных домов, среди белоколонных храмов, над карнизами которых простиралось бездонное, безмятежное голубое небо. Шли в тишине, лишь временами звенело оружие солдат или раздавался шепот молитв. Петр слушал слова молитв, и лицо его все больше светилось радостью — ведь он едва мог обнять взором тысячную толпу верующих. И чувствовал он, что исполнил свое дело, и знал уже, что истина, которую он всю жизнь проповедовал, зальет все, подобно как волны морские, и ничто уже ее не остановит. С этою мыслью поднял он глаза к небу и молвил: «Господи, ты велел мне покорить этот город, владыку мира, и вот я его покорил. Ты велел основать в нем твою столицу, и вот я ее основал. Ныне это твой город, господи, и я иду к тебе, потому что устал от трудов».
Проходя мимо храмов, он говорил им: «Быть вам храмами Христовыми!» Глядя на движущиеся перед его глазами толпы, говорил им: «Быть детям вашим рабами Христовыми!» И шел дальше с чувством одержанной победы, сознавая свою заслугу, свою силу, умиротворенный, величавый. Солдаты, как бы отдавая невольно дань его торжеству, повели его по Триумфальному мосту[434] и дальше — к Навмахии и цирку. Верующие из Заречья присоединились к шествию, густая толпа все росла и росла — командовавший преторианцами центурион догадался наконец, что ведет, наверно, какого-то верховного жреца, которого сопровождают приверженцы, и встревожился, что его отряд невелик. Но в толпе не раздавалось ни единого крика возмущения или ярости. На всех лицах изображалось сознание значительности этой минуты, ее величия, но также ожидание — некоторые из верующих, вспоминая, что при смерти Христа земля разверзлась от скорби и мертвые восстали из могил, думали, что, может, и теперь будут явлены какие-то видимые знаки, чтобы прославить смерть апостола в веках. Иные даже говорили себе: «А вдруг господь изберет час гибели Петра, чтобы, как обещал, сойти с небес и вершить суд над миром». С этой мыслью они препоручали себя милосердию спасителя.
Но вокруг все было спокойно. Холмы словно выгревались и отдыхали на солнце. Наконец шествие остановилось между цирком и Ватиканским холмом. Солдаты принялись копать яму, другие положили на землю крест, молотки и гвозди, ожидая, когда будут закончены приготовления, а толпа, все такая же притихшая и сосредоточенная, стояла на коленях.
Голову апостола озаряли золотистые лучи, в последний раз обернулся он к городу. Вдали, чуть пониже, серебрились воды Тибра, на другом берегу было видно Марсово поле, повыше — мавзолей Августа, ниже — огромные термы, которые начал сооружать Нерон, еще ниже — театр Помпея, а за ними, частью заслоненные другими зданиями, — Септа Юлия[435], множество портиков, храмов, колоннад, многоэтажных зданий и, наконец, совсем далеко облепленные домами холмы, гигантский человеческий муравейник, границы которого тонули в голубом тумане, гнездо преступлений, но также могущества, очаг безумия, но также порядка, город, ставший главою мира, его угнетателем, но также его законодателем и замирителем, всесильный, непобедимый, вечный город.
Окруженный солдатами Петр смотрел на него, как царственный властелин смотрел бы на свою вотчину, и говорил ему: «Ты искуплен, ты мой!» И никто — не только среди копавших яму солдат, но даже среди верующих — не догадывался, что средь них стоит истинный владыка этого города и что императоры уйдут, что волны варваров схлынут, что минуют века, а этот старец будет здесь царить постоянно.
Солнце еще ниже опустилось к Остии, стало большим, багровым. Вся западная половина неба воссияла ослепительным светом. Солдаты подошли к Петру, чтобы раздеть его.
Однако он, шепча молитву, вдруг распрямился и поднял высоко правую руку. Палачи остановились, точно оробев перед ним, — верующие, затаив дыхание, тоже ждали, что он что-то скажет, и наступила полная тишина.
А он, стоя на возвышении, вытянутою рукой начал творить крестное знамение, благословляя в смертный свой час:
— Urbi et orbi![436]
И в тот же дивный вечер другой отряд солдат вел по Остийской дороге Павла из Тарса к месту, где находился источник Сальвия. И за ним также шла толпа верующих, им обращенных, среди которых он узнавал более близких ему людей, и останавливался, и говорил с ними — к нему как к римскому гражданину стража относилась более почтительно. Еще за Тригеминскими воротами им повстречалась Плавтилла, дочь префекта Флавия Сабина[437]; видя ее молодое лицо все в слезах, Павел молвил: «Плавтилла, дочь спасения вечного, ступай с миром. Дай мне только платок, которым мне завяжут глаза, когда буду отходить к господу». И, взяв платок, пошел дальше с лицом радостным, как у работника, что, славно потрудившись целый день, возвращается домой. Мысли его, как и у Петра, были спокойны и ясны, подобно вечернему небу. Глаза задумчиво смотрели на простиравшуюся перед ним равнину и на Альбанские горы, утопающие в лучах. Он вспоминал свои странствия, свои труды и деяния, битвы, в которых побеждал, церкви, которые во всех краях и за всеми морями основал, и думал, что честно заслужил отдых. Он также исполнил свой урок, и посеянное им, думал он, уже не развеет вихрь злобы. Он уходил с уверенностью, что в войне, объявленной миру его истиной, она победит, и безграничный покой нисходил на его душу.
Путь до места казни был дальний, стало темнеть. Вершины гор окрасились пурпуром, а их подножья медленно застилала тень. Возвращались домой стада. Шли ватаги рабов с земледельческими орудиями на плечах. Перед домами играли на дороге дети, они с любопытством глядели на проходивших солдат. В этом вечере, в прозрачном, золотистом воздухе были не просто покой и умиротворенность, но казалось, звучит некая гармония, плывущая от земли к небу. И Павел слышал ее, и сердце его переполнялось радостью при мысли, что в эту музыку вселенной он внес свой звук, какого еще не бывало и без которого земля была как «медь звенящая или кимвал звучащий».
И он вспоминал о том, как учил людей любви, как говорил им, что, хоть и раздали бы они все имущество бедным, хоть овладели бы всеми языками, и всеми тайнами, и всеми науками, они ничто без любви милосердной, долготерпеливой, которая не мыслит зла, не ищет своего, все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит.
Так и прошла его жизнь в том, чтобы учить людей этой истине. И ныне он говорил себе: «Какая сила ее опровергнет, что может ее победить? Неужто сумеет заглушить ее император, даже будь у него вдвое больше легионов, вдвое больше городов и морей, земель и народов?»
И он шел за наградой как победитель.
Процессия наконец свернула с широкой дороги на узкую тропинку, ведшую на восток, к источнику Сальвия. Багряное солнце румянило вересковые луга. У источника центурион остановил солдат — час настал!
Но Павел, перекинув через плечо платок Плавтиллы, не спешил повязать им глаза — в последний раз возвел он излучавший безграничное спокойствие взор к вечному вечернему свету и начал молиться. Да, час настал! Однако пред собою видел он длинную звездную дорогу, восходившую к небесам, и все повторял мысленно те же слова, которые, с сознанием исполненной службы и близкой кончины, написал ранее: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды».
Глава LXXII
А Рим по-прежнему безумствовал — казалось, город, покоривший весь мир, ныне, не имея надлежащего правления, начинает разрушаться от внутренних раздоров. Еще до того, как для апостолов пробил последний час, был обнаружен заговор Пизона, и пошла столь беспощадная жатва, полетело столько знатнейших голов Рима, что даже тем, кто видел в Нероне бога, он стал представляться богом смерти. Скорбь воцарилась в городе, страх поселился в домах и в сердцах, но все так же были украшены портики плющом и цветами, и горевать по погибшим было запрещено. Просыпаясь по утрам, люди спрашивали себя, чья нынче очередь. Тени убиенных тянулись призрачной свитой за императором, и свита эта с каждым днем умножалась.
Пизон поплатился за заговор своею головой, за ним последовали Сенека и Лукан, Фений Руф и Плавтий Латеран, и Флавий Сцевин, и Афраний Квинциан, и распутный товарищ императоровых бесчинств Туллий Сенецион, и Прокул, и Арарик, и Авгурин, и Грат, и Силан, и Проксум[438], и Субрий Флав, когда-то всею душою преданный Нерону, и Сульпиций Аспер. Одних сгубило собственное ничтожество, других — трусость, некоторых — богатство, иных — смелость. Напуганный числом заговорщиков, император оцепил городские стены солдатами и держал город словно бы в осаде, каждый день посылая центурионов со смертными приговорами в дома подозреваемых. Приговоренные еще унижались в раболепных письмах, благодарили императора за приговор и завещали ему часть своего имущества, чтобы остальное сохранить для детей. Можно было подумать, что Нерон умышленно переходит все границы, желая убедиться, до какой степени дошло падение и как долго люди будут выносить его кровавое владычество. Вслед за заговорщиками казнили их родных, друзей и даже просто знакомых. Обитатели великолепных, после пожара сооруженных домов, выходя на улицу, могли быть уверены, что увидят череду похоронных процессий. Помпей, Корнелий Марциал, Флавий Непот и Стаций Домиций[439] погибли, обвиненные в недостаточной любви к императору; Новий Приск — из-за того, что был другом Сенеки; Руфрия Криспина лишили права на огонь и воду за то, что он был когда-то мужем Поппеи. Великого Тразею сгубила его добродетель, многие поплатились жизнью за благородное происхождение, даже Поппея стала жертвой минутной вспышки Неронова гнева.