Книга непокоя Пессоа Фернандо
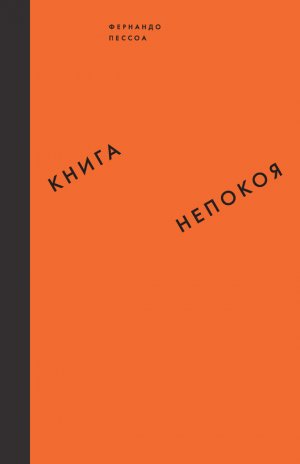
Но я дремлю, сытый мечтатель. Пока никакой раздражитель не воздействует на мои чувства. Как необычно – думать против воли, что, спроси меня кто-нибудь, я ответил бы: лучше короткая жизнь, чем эти тягучие минуты, эта недействительность размышлений, чувств, действий, это ощущение, как от заката, рожденного рассеянным желанием. И еще отмечаю, почти не думая, что большинство, если не все, вне зависимости от положения и характера живут в том же дремотном неведении конечных целей, с той же несформулированностью намерений, с тем же ощущением жизни. Всегда, когда я вижу кота на солнышке, я вспоминаю человечество. Всегда, когда вижу спящих, вспоминаю, что все – сон. Всегда, если кто-то называет себя мечтателем, задаюсь вопросом, думал ли он, что никогда не был никем другим. Шум улицы усиливается, будто открылась какая-то дверь, и заливается дверной звонок.
Что это было? Ничего, потому что дверь сразу закрылась. Шаги стихли в конце коридора. Моющиеся тарелки вздымают голос воды […] Груженый фургон проходит, потрясая основы, и, так как все заканчивается, я отрываюсь от размышлений.
Вот так я мечтаю, порой погружаясь в размышления, ведь они – всего лишь разновидность мечтания.
Принц из прекраснейших часов, некогда я был твоей принцессой, и мы любили друг друга какой-то другой любовью, память о которой болит во мне.
После того как последние дожди упали с небес на земле – промытое небо, влажная и блестящая земля, – ясность жизни, что вместе с голубизной возвратилась в вышину и купалась в свежести воды, оставила свое небо в душах, а в сердцах – свою свежесть.
Мы являемся, хотя бы и не желая того, слугами часа, его красок и форм, подданными неба и земли. Та часть нашего существа, что скрывалась в себе самой, презирая окружающее, не скрывается при дожде так, как при ясном небе. Мрачные видоизменения, ощущаемые, возможно, только в самой сокровенности абстрактных чувств, осуществляются, потому что дождь идет или прекращается, ощущаются, но не почувствуются, потому что, когда не чувствуются они, чувствуется погода.
Каждый из нас – это различные, это многие, это многообразие себя самого. Поэтому тот, кто презирает окружающую среду, это отнюдь не тот же, кто ей радуется или из-за нее страдает. В обширном пространстве нашего Я есть люди с различными особенностями, думающие и чувствующие по-разному. Когда в один из законных перерывов в сегодняшней работе я пишу, мне недостает этих нескольких слов для выражения: я – то, что их пишет, я – то, что радуется перерыву в работе, я – то, что видит небо там, снаружи, невидимое отсюда, я – то, что сейчас думает обо всем этом, то, что чувствует свое тело здоровым и руки холодными. И весь мой мир, населенный этими людьми, – чужой набросок, точно толпа, разнообразная, но плотная, единая тень – это расслабленное, пишущее мое тело, наклонившееся над конторкой Боржеша, в поисках промокательной бумаги, что я ему одолжил.
Между домами, стоящими в ряд в узорах света и тени – или, скорее, светлых и темных пятен, – утро распускается над городом. Кажется, что оно рождается не солнцем, но городом, и именно от стен и крыш этот высокий свет отрывается – не физически, но потому что они существуют.
Испытываю вместе с этим утром большую надежду; но понимаю, что это надежда литературная. Утро, весна, надежда музыкально связаны одним и тем же мелодическим напряжением; связаны в душе одной и той же памятью. Нет, если я наблюдаю за самим собою, как наблюдаю за городом, я признаю: я должен ожидать только того, что этот день окончится, как и все остальные. Разум тоже видит утреннюю зарю. Надежда, что я вложил в нее, не была моей; она принадлежала людям, живущим в час, что проходит, тем, в кого я воплотил, не желая того, свое понимание этого момента.
Надеяться? На что я могу надеяться? День обещает мне всего лишь день, и я знаю, что он имеет свое течение и свой конец. Свет оживляет меня, но мне не становится лучше, потому что я выйду таким, каким пришел – состарившись на несколько часов, с более радостным ощущением, с более печальными мыслями. Мы можем радоваться тому, что родилось, одновременно думая, что оно должно умереть.
Сейчас, в свете, свободном и высоком, город выглядит, как сельская местность с домиками, – естественным, просторным, гармоничным. Но даже видя все это, смогу ли я забыть, что существую? Мое осознание города является моим осознанием самого себя.
Внезапно вспоминаю себя ребенком и вижу, как сегодня уже не умею, зарю, сияющую над городом. Она тогда вставала не надо мною, но над жизнью, потому что тогда я, еще не сознательный, был самою жизнью. Я видел утро и испытывал радость; сегодня я вижу утро, испытываю радость и остаюсь печальным. Ребенок остался, но онемел. Вижу, как видел прежде, но там, вне поля зрения, вижу себя смотрящим; и только поэтому омрачается для меня солнце, и зелень деревьев становится старой, и цветы вянут, еще не появившись. Да, когда-то я был – отсюда; сегодня к каждому виду, каким бы новым он ни был для меня, я возвращаюсь чужеземцем, гостем, пилигримом – в самом своем присутствии чужим тому, что вижу и слышу, стариком по своей сути.
Я уже видел все, даже то, чего никогда не видел, даже то, чего никогда не увижу. В моей крови хранится и память о том, что увижу в будущем; и тоска от того, что должен снова увидеть, – в этом есть некая предвиденная монотонность.
И, наклонившись над парапетом, наслаждаясь днем под многоголосую симфонию целого города, я осознал, что только одна мысль наполняет мою душу – глубокое желание умереть, закончиться, никогда более не видеть света над любым городом, не думать, не чувствовать, оставить позади, как оберточную бумагу, ход солнца и дней, сбросить с себя, как тяжелые одежды возле большой постели, невольное усилие – существовать.
Интуитивно я понимаю, что для таких созданий, как я, ни одно материальное обстоятельство не может быть благоприятным, ни одно событие в жизни не имеет положительного решения. Если я, в силу некоторых обстоятельств, отстраняюсь от жизни, она также способствует тому, что я от нее отстраняюсь. Те суммы фактов, которые для обычных людей несомненно свидетельствуют об успехе, имеют, когда это относится ко мне, какой-то другой результат, неожиданный и противоположный.
Рождается во мне порой от констатации этого какое-то горестное впечатление божественной вражды. Мне кажется, только из-за моего сознательного и привычного отношения к происшествиям, будто бы для меня пагубным, со мной мог бы произойти ряд несчастий, определяющих мою жизнь.
Результатом всего этого оказывается то, что я никогда не стремлюсь к чему-либо чрезмерно, не делаю больших усилий. Удача, если захочет, пусть приходит ко мне. Знаю прекрасно, что мое самое большое усилие не достигнет того, чего достигло бы усилие других. Поэтому полагаюсь на удачу, не ожидая от нее ничего. Зачем?
Мой стоицизм – это органическая необходимость. Я должен оградить себя от жизни. Поскольку весь стоицизм не превышает строгого эпикуреизма, я желаю, насколько возможно, заставить мое несчастье меня развлекать. Я не знаю, до какой степени это возможно. Я не знаю, до какой степени возможно что-либо. Я не знаю, до какой степени что-либо достижимо…
Там, где другой победил бы, не в результате собственных усилий, но по некой неизбежности, я ни из-за этой неизбежности, ни из-за этого усилия не побеждаю или не победил бы.
Наверное, я родился духовно в один из коротких зимних дней. Я рано достиг ночи моего существа. Только в неудачах и в оставленности я могу реализовать свою жизнь.
В сущности, ничто из всего этого не является стоицизмом. И только в словах существует благородство моего страдания. Я жалуюсь, точно больная прислуга. Мучаюсь, точно какая-то домохозяйка. Моя жизнь – целиком пустая и целиком печальная.
Как Диоген у Александра, я просил у жизни только того, чтобы она не отбирала у меня солнце. У меня были желания, но мне было отказано в основаниях для них. То, что я обнаружил, действительно стоило обнаружить. Мечта […]
Я сочиняю на прогулке совершенные фразы, которые забываю по возвращении домой. Несказанная поэзия этих фраз – не знаю, вся ли она в том, чем они были, или ее часть, ведь они никогда не были написаны.
Я сомневаюсь во всем, часто не зная почему. То, чего я ищу порой, подобно моей собственной прямой линии, которую я счел идеальной прямой, кратчайшей дистанцией между двумя точками. Я никогда не умел быть активно живым. Всегда ошибался в действиях, как не ошибался никто; то, что другие родились для действия, всегда воодушевляло меня. Я всегда желал добиться того, чего другие достигали, почти не желая. Между мною и жизнью всегда были матовые стекла; я не мог познать ее ни зрением, ни осязанием; не жил ею, ни как реальной жизнью, ни только в проекте, это была мечта, мечта быть, и моя мечта началась по моему желанию, мое намерение было, тем самым, первым вымыслом, ведь оно никогда не существовало.
Я никогда не знал, была ли чрезмерной моя чувствительность для моего разума или мой разум – для моей чувствительности. Всегда медлил, не знаю, что из них было первопричиной, возможно, и то и другое, или одно, или другое, или что-то третье – что приводило к опоздаию.
От мечтателей всех тысячелетий – социалистов, анархистов, филантропов всех видов – меня тошнит физически. Они – идеалисты без идеала. Они – мыслители без мышления. Они любят поверхность жизни из-за неизбежности мусора, что плавает на поверхности воды и считается красивым, потому что разнообразные ракушки тоже поднимаются на поверхность воды.
Дорогая сигара и прикрытые глаза – признак богатства.
Как тот, кто посетил места, где прошла его юность, я могу с дешевыми сигарами возвратиться в те пространства собственной жизни, где для меня было привычно их курить. И благодаря этому легкому привкусу дыма все мое прошлое оживает во мне.
В другой раз это будет какая-нибудь сладость. Простая шоколадная конфета способна растревожить мои нервы, потрясая их избытком воспоминаний. Детство! И, кусая эту конфету, где мои зубы отпечатались на темной и мягкой массе, кусаю и люблю все жалкие радости веселого командира оловянных солдатиков, скачущего на случайной тросточке-лошадке. К глазам подступают слезы, и со вкусом шоколада смешивается мое счастливое прошлое, мое прошедшее детство, и я сладострастно погружаюсь в нежные объятия моей боли.
Он прост, но торжествен, этот мой вкусовой ритуал.
Но именно дым папиросы восстанавливает для меня моменты прошлого. Он легонько касается моих вкусовых рецепторов. И в своей прозрачности воскрешает для меня умершие часы, далекое делает настоящим. Одна паршивая сигарета, одна дешевая сигара пьянят меня нежностью моего прошлого. С какой невыразимой рассудительностью вкуса-аромата я вызываю к жизни мертвые сценарии и представляю заново комедии моего прошлого.
Я создал для себя роскошь из бесчестья, торжественность из боли и того, что утрачено. Я не превратил свою боль в поэму, но превратил ее в свою свиту. И из окна наблюдаю, изумленный, фиолетовые закаты, тусклые сумерки беспричинной боли, проходящих, в обрядах моего заблуждения, пажей, ливрейных лакеев, клоунов моей прирожденной неспособности существовать. Ребенок, кого не убило во мне ничто, еще присутствует, в лихорадке и в лентах, на цирковом представлении внутри меня. Он смеется над шутами, хотя его нет здесь; смотрит на жонглеров и акробатов глазами того, кто видит в этом целую жизнь. И так, безрадостная, но довольная, дремлет невинно в четырех стенах моей комнаты, вся беспристрастная тоска одной переполненной человеческой души, все неизлечимое отчаяние сердца, покинутого Богом.
Путь не по улицам, но через мою боль. Опрятные домики – это невозможности, окружающие меня в моей душе; …мои шаги звучат на прогулке, как удвоенная абсурдность умерших, шум призрака в ночи, конец как некая расписка или могила.
Отделяюсь от себя и вижу, что я – дно какого-то колодца.
Умер кто-то, кем я никогда не был. Бог позабыл о том, кем я должен был быть. Только пустое место.
Если бы я был музыкой, я написал бы свой похоронный марш, и с каким основанием я бы его написал!
Накручивать мир на наши пальцы, как нить или ленту, с какой играет женщина, мечтающая в одиночестве у окна.
Все сводится в конце концов к стремлению, чтобы скука не причиняла боль.
Было бы интересно стать двумя королями одновременно: быть не одной душой на двоих, но двумя душами.
Жизнь для большинства людей – это какая-то канитель, прошедшая так, что ее и не заметили, какая-то печальная штука, состоящая из радостных эпизодов, что-то, подобное анекдотам, которые рассказывают кладбищенские сторожа, коротая и ночной покой, и свою рабочую смену. Я всегда находил нелепым представление о жизни как о долине слез: да, это долина слез, но там редко плачут. Гейне говорит, что после великих трагедий мы всегда сморкаемся. Будучи евреем и объемля поэтому весь мир, он видел ясно природу человечества.
Жизнь была бы невыносимой, если бы мы ее осознавали. К счастью, этого не происходит. Мы живем так же бессознательно, как и животные, такие же ничтожные и бесполезные, и наше предвидение смерти – это только предположение, а не доказанная истина.
Так мы и живем, и лишь сущие пустяки позволяют нам считать себя выше животных. Наше отличие от них в деталях, чисто внешних: мы можем говорить и писать, мы обладаем абстрактным мышлением, чтобы отвлекаться от конкретного и воображать невозможные вещи. Все это, однако, – частности нашего организма. Речь и письмо не добавляют ничего нового к нашему основному инстинкту – жить, не зная, каким образом. Наше абстрактное мышление не служит ничему, кроме создания систем или идей, тогда как идея животного – пребывание на солнышке. Представление о невозможном, вероятно, присуще не только нам: я видел котов, глядящих на луну, и я допускаю, что они мечтают о ней.
Весь мир, вся жизнь – это необъятная система бессознательностей, действующая через индивидуальные сознания. Два газа, когда через них проходит электрический разряд, превращаются в жидкость, так и с двумя сознаниями: одно – от нашего конкретного существа, другое – от существа абстрактного; жизнь и мир проходят через них, превращают их в одно высшее бессознательное.
Счастлив поэтому немыслящий, ибо он реализует с помощью инстинкта и своей органической судьбы то, что все мы должны реализовать путем отклонения и неорганической или социальной судьбы. Счастлив, кто более уподобляется животным, потому что переносит без усилий то, чем все мы с навязанным нам трудом являемся; потому что знает путь домой, который мы находим лишь на тропинках вымысла и возвращения назад; потому что, укоренившись, как дерево, он является частью природы и, следовательно, красоты, тогда как мы – мифы природы, статисты на живом полотне бесполезности и забвения.
Не могу твердо поверить в счастье животных, кроме тех случаев, когда мне хочется говорить о нем, чтобы подчеркнуть такое предположение. Для того чтобы быть счастливым, надо знать, что значит быть счастливым. Счастье – не в том, чтобы спать без снов, а только в пробуждении, когда знаешь, что спал без сновидений. Счастье находится вне счастья.
Нет счастья без знания. Но знание о счастье несчастно; потому что осознать себя счастливым – это осознать себя проходящим мимо счастья, оставлять его позади. Знать – это убивать, в счастье как и во всем. Однако не знать значит не существовать.
Только гегелевский абсолют оказался на бумаге двумя вещами в одно и то же время. Небытие и бытие не сливаются и не смешиваются в ощущениях и основаниях жизни: они взаимно исключаются путем некоего синтеза наизнанку.
Что делать? Изолировать момент, будто какую-то вещь, и быть счастливым сейчас, когда чувствуешь счастье, не думая, что ты чувствуешь, исключая что-либо большее, исключая все. Сажать в клетку мышление в ощущении…
Вот мой символ веры этим вечером. Завтра утром его уже не будет, потому что завтра утром я сам буду другим. Во что я буду верить завтра? Я не знаю, ведь чтобы это знать, надо быть уже в нем. И вечный Бог, в которого я сегодня верю, не будет знать об этом ни завтра, ни сегодня, потому что сегодня – это я, а завтра Он, возможно, уже не будет существовать.
Бог создал меня ребенком и оставил ребенком навсегда. Но зачем он позволил, чтобы Жизнь била меня и отняла у меня игрушки и оставила меня одного в детской, комкающего слабыми ручонками голубой детский передник, грязный от долгих слез? Если я не могу жить без ласки, почему выбросили вон мою ласку? Ах, каждый раз, когда я вижу на улицах плачущего ребенка, одного ребенка, которого прогнали другие, моя боль сильнее, чем печаль ребенка. Болит во мне вся жизнь моих чувств, и руки, что скручивают кант передника, – скривившиеся от настоящих слез рты – мои, слабость – моя, одиночество – мое, и веселье взрослой жизни вредит мне, как вспышки зажигаемых спичек на чувствительном штофе моего сердца.
Голос пел, очень нежно, песню далеких стран. Музыка делала родными неизвестные слова. Она напоминала фаду моей душе, но не было между ней и фаду черт сходства.
Песня говорила туманными словами и очень человечной мелодией о том, что есть в душе у всех, но чего никто не знает. Человек пел, как бы во сне, не замечая ни слушателей, ни того, что улица не проявляла особого восторга.
Народ, его окруживший, слушал, не высказывая насмешки. Песня была обо всех людях, и порой слова ее говорили с нами о каком-то восточном секрете забытого племени. Шум города не слышался, когда мы его слушали, и повозки проезжали так близко, что одна коснулась полы моего пиджака. Но я ее почувствовал, не услышав. Была такая поглощающая способность в этом пении неизвестного, что разбудила в нас то, что мечтает или не может быть достигнуто. Вдруг все почему-то заметили, что полицейский медленно огибает угол. Он приближался с той же медлительностью. На некоторое время остановился позади юноши с зонтиками. В это время певец умолк. Никто ничего не говорил. Тогда вмешался полицейский.
Не знаю почему – заметил я это внезапно – я остался один в конторе. Смутно я это уже предчувствовал прежде. Была в моем осознании себя какая-то протяженность облегчения, дыхание глубокое, не одними легкими.
Эта одно из самых любопытных ощущений, что может быть нам дано случайно, извлеченное из встреч и ошибок: будто мы находимся в одном доме, обычно полном людей, шумном или чужом. Внезапно у нас возникает ощущение полного обладания, власти естественной и широкой, простора – как я уже говорил – для отдыха и покоя.
Как чудесно быть таким свободным! Можем говорить вслух сами с собой, гулять беспрепятственно, отдыхать, мечтая, не опасаясь, что нас позовут! Весь дом превращается в поле, вся зала приобретает протяженность целого поместья.
Все шумы – чужие, словно принадлежат какой-то другой, близкой, но независимой от нашей вселенной. Мы – короли. На один момент мы являемся пансионерами вселенной и живем на пожалованное, не зная нужды и волнений.
Ах, но вот я слышу шаги на лестнице, ко мне поднимаются, не знаю кто, любой, кто прервет мое занимательное одиночество. Моя скрытая империя будет наводнена варварами. Нет, шаги не говорили мне, кто это приближается и не напомнили мне шагов того или иного моего знакомого. Это, скорее, инстинкт заставляет меня понять, что сюда идет тот, кого я знал, но пока это только шаги на лестнице, которую я внезапно вижу, потому что думаю о том, кто поднимается по ней. Да, это один из служащих. Остановился, слышно, как он отворяет дверь. Вижу его всего. И он говорит мне, входя: «Вы один, сеньор Суареш?» И я отвечаю: «Да, уже довольно давно…» И он тогда говорит, снимая пиджак и глядя на другой, старый, на вешалке: «Большая канитель для людей – быть в одиночестве, сеньор Суареш, и чересчур большая…» «Большая канитель, без сомнения», – отвечаю я. «До того, что хочется спать», – говорит он, уже в рваном пиджаке, направляясь к письменному столу. «Так и есть», – подтверждаю, улыбаясь. После, протянув руку к забытой ручке, снова вхожу, чертежник и писец, в безымянное русло нормальной жизни.
Всегда, когда они могут, садятся перед зеркалом. Говорят с нами и любуются собой, глядя на себя в зеркало. При этом порой отвлекаются от беседы. Я был им симпатичен, потому что мое взрослое отвращение к моей внешности всегда заставляло меня поворачиваться спиной к зеркалу. Таким образом, – и они, инстинктивно это чувствуя, относились ко мне хорошо, – я был для них молодым слушателем, не стеснявшим их своим тщеславием и красноречием.
В совокупности своих качеств это не были плохие молодые люди; как обычно, были среди них лучшие и худшие. Были черты благородства и нежности, заслуживающей доверия для любителя середины, но и черты низости и подлости, которые неудивительны в любом нормальном человеке. Скупость, зависть и заблуждение – так я их обобщаю, и к этому, в общих чертах, и будет сводиться характеристика той части этой среды, что проникает в труды талантливых людей, которые иногда превращали это похмелье в целину для обманутых (есть в творении Фиалью очевидная зависть, презренная грубость, тошнотворное отсутствие изящества…).
Одни обладают остроумием, другие обладают только остроумием, третьи еще не существуют. Остроты завсегдатаев кафе делятся на сказанное об отсутствующих – из желания посмеяться и на сказанное присутствующим – из наглости. Этот вид остроумия называется обыкновенно всего лишь грубостью. Ничто не является лучшим индикатором бедности ума, чем умение проявлять остроумие, только насмехаясь над людьми.
Я пришел, увидел и в противоположность тем победил. Потому что моя победа состоит в умении видеть. Я распознал тождество всех худших агломератов: встретил здесь, в доме, где у меня комната, такую же низкую душу, что обнаруживали передо мною посетители кофейни. Хозяйка этого дома в плену заблуждения посягала некогда на фешенебельные улицы Лиссабона, но на заграницу посягать не отважилась, и мое сердце смягчилось.
Сохраняю от всей этой дороги вдоль гробницы желания память о тошнотворной скуке и о некоторых остроумных анекдотах.
Идут хоронить, и кажется, что уже на пути от кладбища прошлое забылось в кафе, поэтому оно и молчит теперь.
…и потомство никогда не узнает о них, скрытых от него навсегда под черной громадой знамен, добытых в их победах в разговорах.
Гордость – это эмоциональная уверенность в собственном величии. Высокомерие – это эмоциональная уверенность в том, что другие в нас видят или нам приписывают такое величие. Эти два чувства не обязательно сочетаются и не противодействуют друг другу по природе. Они различны, однако совместимы.
Гордость, когда существует отдельно, без добавления высокомерия, проявляется в результате как застенчивость: кто себя чувствует великим, не верит, что другие его признают таким, опасается противопоставлять свое собственное мнение о себе мнению о нем других.
Высокомерие, существующее отдельно, без примеси гордости, что возможно, но бывает редко, проявляется в результате как удаль. Тот, кто уверен, что другие видят его значимость, не опасается их. Он может иметь физическую храбрость без высокомерия; может иметь духовную силу без высокомерия; но не может быть удали без высокомерия. Удаль предполагает дерзость в начинании. Удаль может не сопровождаться храбростью физической или духовной силой, потому что эти склонности характера – разного порядка и с удалью несоизмеримы.
Болезненный промежуток
Не в гордости я нахожу утешение. Чем гордиться, если я даже не творец самого себя? И даже будь во мне что-то достойное гордости, я бы не возгордился.
Я покоюсь в своей жизни. И в мечтах тоже не способен возвыситься – даже в глубине своей души я не умею делать усилия.
Создатели метафизических систем, те… психологических объяснений, они – еще юноши в своем страдании. Систематизировать, объяснять то, что только… и конструировать? Упорядочивание, подготовка, организация – всего лишь реализованное усилие – и сколь прискорбно, что это и есть жизнь!
Пессимист – нет, я к ним не отношусь. Счастлив тот, кто умеет перевести на всеобщий язык свое страдание. Я не знаю, печален или плох мир, и это для меня не важно, потому что страдания других докучают мне и оставляют безразличным. Лишь бы только они не раздражали меня, не нарушали мой покой слезами и стонами, и я даже не пожму плечами – так глубоко мое презрение к ним, к их страданию.
Но я хочу верить, что жизнь наполовину светла, наполовину темна. Я не пессимист. Я не жалуюсь на ужасы жизни. Я жалуюсь на ужас собственной жизни. Единственное важное для меня обстоятельство – это то, что я существую, что я страдаю, что даже не могу помечтать о том, что не связано с моим страданием.
Счастливые мечтатели – пессимисты. Они создают собственный образ мира и, таким образом, всегда могут оставаться дома. Что касается меня, то контраст между шумом и радостью мира и моей печалью, моим молчанием причиняет мне особую боль.
Жизнь с ее горем, страхами и встрясками должна быть ласковой и веселой, как путешествие в старом дилижансе в хорошей компании.
Я не могу даже считать, что мое страдание – признак величия. Не знаю, так ли это. Но я страдаю из-за вещей столь ничтожных, ранят меня вещи настолько банальные, что я не отваживаюсь предположить, что мог бы быть гением.
Великолепие заката во всей его красоте печалит меня. Перед таким зрелищем я говорю себе: тот, кто счастлив, должен чувствовать восторг при виде этого!
И эта книга – всего лишь стон. После ее написания книга Антонио Нобре уже не является самой печальной в Португалии.
Перед моей болью любая другая мне кажется надуманной или недостойной внимания. Это боль счастливых людей или тех, кто привык жаловаться. Моя же – боль замкнутого в тюрьме от жизни, отрезанного от нее…
Между мною и жизнью…
Дело в том, что я вижу все то, что может меня опечалить. И не чувствую того, что радует. Я обратил внимание, что страдание более видится, чем чувствуется, а радость более чувствуется, чем видится. Потому что ни через мышление, ни через зрение не достигается истинное удовлетворение, как удовлетворение мистиков, бродяг и негодяев. Но все страдание проникает в дом через окно наблюдения и через дверь размышления.
Жить мечтою и для мечты, разрушая Вселенную и вновь восстанавливая ее в соответствии с тем, что в момент мечтания доставляет нам наибольшее удовольствие. Делать это сознательно, от бесполезности и… оттого, что делаешь это. Не знать жизни телесной, заблудиться в реальности всеми своими чувствами, отрекаться от любви всей душой. Наполнять мельчайшим песком кувшины, с которыми мы ходим к источнику, и затем опорожнять их, чтобы повторить все – наполнение и опорожнение – впустую.
Плести гирлянды и, закончив, тотчас их расплетать.
Браться за краски и смешивать их на палитре, не имея холста, чтобы писать картину. Приобрести камень для ваяния, не имея резца и не будучи скульптором. Превращать все в абсурд и совершенствовать, обращая в ничтожество, все наши скудные часы. Играть в прятки с сознанием нашей жизни.
Внимать часам, говорящим нам, что мы существуем, с улыбкой удовольствия и недоверия. Видеть, как Время раскрашивает мир, и обнаруживать, что картина не только лжива, но и ничтожна.
Думать взаимоисключающими мыслями, говоря несуществующими звуками, используя краски, что не являются красками. Говорить, осознавая, что не имеем сознания и что не являемся теми, кем мы являемся. Объяснить с помощью чувства, что все вещи имеют другую, божественную, сторону, и не верить чрезмерно в объяснение, чтобы потом не разочароваться.
Ваять в бессодержательном молчании все наши мечты о речах. Парализовать апатией все наши размышления о действиях.
И над всем этим, как небо, единое и голубое, парит отчужденно ужас жизни.
Но места и виды, о которых мечтаем, – лишь призрак виденных нами в действительности, и мечтать о них почти так же скучно, как смотреть на мир.
Воображаемые фигуры более выразительны и правдивы, чем реальные.
Мир моего воображения всегда был для меня единственным настоящим миром. У меня никогда не было романов, настолько реальных, настолько полных пылкой страсти, крови и жизни, как те, что я создал в воображении. Такие чистые, они вызывают во мне ностальгию, потому что, как и другие, они проходят…
Порой, в моих диалогах с самим собою, в изысканных сумерках Воображения, в усталых беседах, в придуманных гостиных, я спрашиваю себя, по какой причине наша научная эпоха не простирает свое стремление к пониманию на предметы рукотворные. И один из вопросов, на котором чаще всего я задерживаюсь, это: почему не создается, вместе с обычной психологией человеческих и «недочеловеческих» созданий, некая психология, изучающая предметы искусства, чье существование проходит на коврах и в картинах. Ущербное представление о реальности имеет тот, кто ее ограничивает органическим и не вкладывает души в статуэтки и рукоделия. Там, где есть форма, есть и душа.
Не от праздности эти мои рассуждения с самим собою, это глубокие научные размышления. Поэтому, пока не имея другого ответа, предлагаю настоящий, и предаюсь видению этого «реализованного желания». Перед моим внутренним взором возникают ученые, склоненные над гравюрами; люди, рассматривающие под микроскопом морщинистое плетение ковров; идеологи физицизма[27] с их широким рисунком расплывчатых очертаний; химики, да, с идеей о формах и цветах в таблицах; геологи с их слоистыми пластами камей; психологи – и это наиболее важно, – фиксирующие и описывающие ощущения, какие должна испытывать какая-то статуэтка, психические особенности некой фигуры с картины или витража, побуждения, страсти, симпатии и отвращение и […] застывшие на барельефах, в невидимых движениях статистов на полотне.
Более, чем другие искусства, литература и музыка подходят для ухищрений психологов. Персонажи романа – это знают все – столь же реальны, сколь и любой из нас. Определенные звуки обладают душой, крылатой и быстрой, но чувствительной к психологии и социологии. Потому что – хорошо бы, чтобы несведущие это знали, – общества существуют внутри цветов, звуков, фраз, и есть образы правления государствами и революции, царствования, политики и… существующие в абсолюте и без метафор, в математическом объединении симфоний, во Всем, что организовано из романов, в квадратных метрах некой сложной картины, где наслаждаются, страдают, смешиваются выразительные воины, любовники или аллегорические фигуры.
Когда разбилась чашечка из моей японской коллекции, я знал, что причиной было нечто большее, чем простая небрежность прислуги. Я изучал тоску фигур, что населяют изгибы этого фарфорового чуда; стремление к самоуничтожению, что ими овладело, меня не удивило. Они воспользовались прислугой, как один из нас прибег бы к револьверу. Понимать это – быть за пределами современной науки, и с какой точностью я это понимаю!
Не знаю большего удовольствия, чем удовольствие от книг, и мало читаю. Книги – это воплощения мечты, и эти воплощения не нужны тому, кто с легкостью вступает в беседы с мечтами. Я никогда не мог прочесть книгу, полностью ей отдаваясь; комментарии разума или воображения всегда – мешали мне продолжать читать само повествование. По прошествии минут я становился тем, кто писал.
Мое любимое чтение – это обычные книги, спящие у моего изголовья. Есть две, что всегда со мной: «Риторика» отца Фигейреду[28] и «Размышления о португальском языке» отца Фрейре.[29] Вот их я всегда охотно перечитываю; и если верно, что я читал их много раз, также верно и то, что никогда не читал одну сразу после другой. Я обязан этим книгам той дисциплиной, почти невозможной для себя, – неким правилом объективного письма, законом рассудка, требующим, чтобы вещи были написаны.
Стиль неестественный, монастырский, грубый отца Фигейреду – это дисциплина, что приносит удовольствие моему пониманию. Многословие, почти всегда без дисциплины, отца Фрейре развлекает мой дух, не утомляя его, и обучает меня, не беспокоя. Это духи эрудитов и людей спокойных, что импонируют моему нежеланию уподобляться им или кому-либо другому.
Читаю и предаюсь полностью, но не чтению, а себе самому. Читаю и засыпаю, следуя за описанными отцом Фигейреду фигурами риторики и по лесам чудес, где слышу, как отец Фрейре объясняет, что следует произносить «Магдалена», потому что «Мадалена» говорит только простонародье.
Ненавижу чтение. Мне заранее скучно смотреть на неизвестные мне страницы. Я способен прочесть только то, что уже мне знакомо. Моя всегдашняя книга у изголовья – «Риторика» отца Фигейреду, и я читаю каждую ночь каждый раз – в тысячный раз, описание риторических фигур, чьи названия до сих пор не зафиксировались в моей памяти. Но меня убаюкивает язык, монастырский стиль… и если бы мне не хватало слов, написанных с «С», я бы спал беспокойно.[30]
Я обязан книге отца Фигейреду, с ее преувеличенным пуризмом и педантизмом, своим умением писать таким языком, в котором я отмечаю у себя особенность, что […]
И читаю:
(один отрывок из отца Фигейреду) —
начала, способы и цели,
и это утешает меня в жизни.
Или прежде
(один отрывок о фигурах)
что возвращает к вступлению.
Я не преувеличиваю ни на йоту: я чувствую все это.
Как другие могут читать Библию, читаю «Риторику». Я имею преимущество – возможность отдыха и отсутствие набожности.
Вещи ничтожные, естественные для жизни, пустяки, обычные и маловажные, пыль, подчеркивающая тонким причудливым штрихом низость и подлость моей человеческой жизни, – Книга учета, открытая перед глазами того, чья жизнь проходит в мечтах обо всех чудесах Востока; безвредная насмешка шефа конторы, которая оскорбляет всю вселенную; уведомление для патрона, что ему звонила подруга, дона такая-то, посреди размышлений о периоде наименее сексуальном, об одной теории, эстетической и бесполезной.
Затем друзья, хорошие ребята, да, хорошие ребята, с ними так приятно поболтать, пообедать, поужинать – и все, не знаю, отчего такое низкое, такое ничтожное, такое мелкое, всегда на складе товаров (хотя бы и на улице), всегда перед Книгой учета (хотя бы и за границей), всегда с патроном (хотя бы и в бесконечности).
У всех есть шеф конторы с насмешкой, всегда неуместной, и одновременно душа со вселенной. У всех есть патрон и подруга патрона и телефонный звонок в момент, всегда неподходящий, когда опускается восхитительный вечер и любовницы изобретают [?] оправдания.
Но все те, что мечтают, пусть не в конторах на улице Байша, не перед торговой книгой на складе товаров, все они имеют перед собой книгу учета – будь это женщина, жена одного из них, будь это управление состоянием, которое переходит к ним по наследству, будь это что угодно.
Все мы, мечтающие и думающие, являемся помощниками бухгалтера на складе товаров или любого другого имущества, на некой, любой, улице Байша. Ведем бухгалтерские книги и теряем; суммируем и проходим; подводим баланс, и невидимое сальдо – всегда против нас.
Пишу, улыбаясь над словами, но мое сердце в таком состоянии, будто вот-вот разобьется, разобьется, как те вещи, которые разламываются на куски, на черепки, на обломки, бросаемые мусорщиком в вечную повозку всех Муниципалитетов.
И все ждет, открытое и нарядившееся, Короля, что придет, что уже здесь, ведь пыль его кортежа – новая мгла на медлящем востоке, и копья уже сверкают на расстоянии вместе с его рассветом.
ТРАУРНЫЙ МАРШ
Величественные фигуры неизвестных иерархий выстраиваются в коридорах и ожидают тебя – белокуро-нежные пажи, юноши… разбрасывающие искры обнаженных клинков, с причудливым сверканием шлемов и дорогих украшений, в сумрачных отблесках тусклого золота и шелка.
Все, от чего страдает воображение, то траурное, что причиняет боль во время торжеств и утомляет в победах, мистицизм небытия, аскеза абсолютного отрицания.
Не шесть пядей холодной земли, которые смыкаются над закрытыми глазами под горячим солнцем, рядом с зеленой травой, но смерть, что превосходит нашу жизнь и является жизнью, своей собственной, – мертвое присутствие какого-то бога, неизвестного бога из религии самих богов.
Ганг тоже протекает по улице Золотильщиков. Все эпохи присутствуют в этой тесной комнате – смесь… разноцветная последовательность манер, различия народов, обширное разнообразие наций.
И там, в неназванном экстазе страдания, я умел ожидать Смерти между клинками и зубцами башен.
Мысленное путешествие
С моего четвертого этажа над бесконечностью, в допустимой близости текущего вечера, у окна, выходящего на зажигающиеся звезды, мои мечты отправляются в путешествия в неизвестные страны, или предполагаемые, или просто невозможные.
Появляется на востоке бледный луч золотого лунного света. След, оставляемый им на просторной реке, открывает змей в море.
Каждый день в мире происходят вещи, которые нельзя объяснить известными законами. Каждый день гул голосов в отдельные моменты забывается, и то же таинство, что их приносило, уносит их назад, превращая в тайну в забвении. Таков закон, что нечто должно быть забыто, потому что его нельзя объяснить. В свете солнца видимый мир продолжает подчиняться правилам. Чуждое подстерегает нас в тени.
Собственная мечта меня наказывает. Обретаю в ней такое сияние, что вижу, как реальную, каждую вещь, о которой мечтаю. Поэтому для меня потеря все, что я считал воображаемым.
Мечтаю ли я о славе? Чувствую всю обнаженность, которую приносит слава, всю потерю сокровенности и неизвестности, из-за чего она так болезненна для нас.
Считать нашу великую тоску незначительным эпизодом в жизни не только вселенной, но нашей собственной души – это начало мудрости. Считать так, будучи охваченным этой тоской – это полная мудрость. В тот момент, когда мы страдаем, кажется, что человеческая боль бесконечна. Нет, боль человеческая не бесконечна, потому что ничто человеческое не бесконечно, и наша боль всего лишь какая-то боль, которую мы испытываем.
Столько раз, под гнетом скуки, граничащей с безумием, или охваченный тоской, кажущейся беспредельной, я останавливаюсь в нерешительности, прежде чем возмутиться, колеблюсь, прежде чем замкнуться в себе. Боль от незнания тайны мира, боль оттого, что нас не любят, боль оттого, что к нам несправедливы, боль от гнета жизни, удушающего и стесняющего, зубная боль, боль от тесной обуви – кто может сказать, которая больше, его ли собственная, или чужая, или совокупность всех существующих?
Многим моим собеседникам я кажусь бесчувственным. Однако я более чувствителен, полагаю, чем абсолютное большинство людей. Тот, кем я все же являюсь, – впечатлительный человек, который знает об этом и понимает поэтому что такое впечатлительность.
Ах, неправда, что жизнь горестна или что горестно думать о ней. Правда в том, что наша боль только тогда серьезна и велика, когда мы ее выдумываем такою. Если мы естественны, она уйдет, как пришла, утихая так же, как возросла. Все есть ничто, и наша боль – его часть.
Пишу это под гнетом скуки, какой, кажется, не может вместить моя душа; под таким гнетом от всех и от всего, что он меня душит и помрачает мой разум; под таким гнетом непонятости, что он меня подавляет. Но вот я поднимаю голову к чуждому голубому небу, подставляю лицо ветру, беззаботно-свежему, и прикрываю глаза, увидев и ощутив это. Я не становлюсь лучше, я становлюсь другим. Я вижу, что освобождаюсь от себя. Я почти улыбаюсь, но не оттого, что теперь понимаю себя, просто, став другим, я разучился понимать. Там наверху крохотное облачко в небе, как видимое небытие, – белое забвение целой вселенной.
Мои мечты: создавая себе друзей в мечте, я ощущаю, что они со мной. Их несовершенство – другое.
Быть чистым не для того, чтобы быть благородным или сильным, но чтобы быть самим собой. Кто дарит любовь, теряет ее.
Отрекаться от жизни, чтобы не отречься от себя самого.
Женщина – прекрасный источник мечты. Никогда ее не касайся.
Учись отрекаться от идей о наслаждении и удовольствии. Научись наслаждаться всем, но не всем как таковым, а идеями и мечтами, которые оно вызывает (потому что ничто не является тем, чем является, а мечты всегда остаются мечтами). Поэтому тебе не следует ничего касаться. Коснувшись, убьешь свою мечту, а объект, которого ты коснулся, завладеет твоими ощущениями.
Видеть и слышать – это единственные благородные вещи, которые заключает в себе жизнь. Остальные ощущения – плотские и плебейские. Истинный аристократизм в том, чтобы никогда не касаться. Не приближаться – именно это по-настоящему благородно.
Эстетика безразличия
Мечтатель должен стремиться к безразличию по отношению к любой вещи.
Выделять под влиянием внезапного побуждения из каждого объекта или события то, что в нем есть от мечты, оставляя во Внешнем Мире все, что в нем есть от реальности, – мудрецу надлежит реализовать в себе это умение.
Никогда не испытывать искренне своих собственных чувств, торжествовать свою победу над амбициями, желаниями, жаждой; проходить мимо своих радостей и печалей сохраняя безразличие.
Наибольшая власть над собой – испытывать равнодушие к себе самому и преданность дому, дарованному нам Судьбой.
Относиться к собственным мечтам и сокровенным желаниям высокомерно, как благородный лорд, игнорировать их с аристократическим изяществом. Испытывать стыд перед собой самим; понимать, что наедине с собой мы – не одни, что являемся своими собственными свидетелями. И что поэтому важно вести себя в одиночестве так же, как в обществе, следуя заученной и строгой линии поведения, безразличной в ее благородстве и холодной в безразличии.
Чтобы не пасть в наших собственных глазах, достаточно отрешиться от стремлений, страстей, желаний, надежд, побуждений, волнений. Чтобы этого достичь, будем всегда помнить, что находимся всегда в своем присутствии, что никогда не бываем одни, с тем, чтобы чувствовать себя непринужденно. Итак, будем господствовать над своими страстями и стремлениями, потому что страсти и стремления делают нас беззащитными; не будем ни желать, ни надеяться, потому что желания и надежды присущи грубости и вульгарности.
Аристократ – это тот, кто никогда не забывает, что он не один, поэтому обычаи и церемонии – это атрибуты аристократии. Превратим себя изнутри в аристократа. Извлечем его из залов и садов, поместим его в нашу душу и в представление о нашем существовании. Будем находиться всегда перед нами – в обычаях и церемониалах, в жестах надуманных и рассчитанных на других.
Каждый из нас – целое общество, некий район, и следует признать, что и мы, и жизнь в этом районе приобрели бы изящество, если бы на праздниках наших ощущений царила изысканность и тайна, сдержанная торжественность и учтивость – на пиршествах нашего мышления. Другие души смогут воздвигать вокруг нас свои районы, грязные и бедные; давайте отметим четко, где наш заканчивается и начинается, и чтобы от фасада наших зданий до алькова нашей робости все было благородным, спокойным и элегантным.
Сохранять спокойствие независимо от своих ощущений. Свести любовь к мечте о ней, освещенному луной промежутку между верхушками двух небольших волн. Превратить желание во что-то бесполезное и безобидное, подобное улыбке одинокой души, нежно улыбающейся самой себе; сделать невозможным ни его реализацию, ни рассказ о нем. Усыпить ненависть, как пленную змею, проявления страха ограничить страданием во взгляде. Это единственная линия поведения, совместимая с эстетическим существом.
Во всех перипетиях жизни, во всех ситуациях повседневного общения я был всегда и для всех незаконно вторгшимся. По крайней мере, неизменно был чужаком. В среде родственников, как и в среде знакомых, всегда чувствовал себя посторонним. Не говорю, что когда-либо был им преднамеренно. Но был им всегда в результате установки чуждых мне характеров.
Меня всегда и все встречали с симпатией. Очень мало, как я полагаю, таких людей, на которых редко повышают голос или смотрят хмуро. Но симпатия, с которой встречали меня, была всегда лишена теплоты. Для наиболее близких я был гостем, как с гостем, со мной обращались хорошо, но с тем вниманием, какое надлежит проявлять к чужаку, и без теплой привязанности, не заслуженной незаконно вторгшимся.
Не сомневаюсь, что все это – я имею в виду отношение ко мне других, – происходит от каких-то свойств моего собственного характера. Возможно, мне присуща холодность в общении, которая невольно заставляет других платить мне той же монетой.
Я быстро завязываю знакомства. Симпатии других обычно приходят чуть позже. Но привязанности не приходят никогда. Я никогда не знал преданности друзей. В любви мне всегда казалось невозможным быть с другим на «ты».
Я всегда желал быть приятным. Мне бывало больно, если от меня уходили равнодушно. Сирота Удачи, я, как и все сироты, испытываю потребность быть объектом чьей-то привязанности. Я постоянно испытывал голод по такой привязанности. Я настолько привык к этому неизбежному голоду, что порой сам не знаю, чувствую ли я потребность в еде.
Так или иначе, но жизнь причиняет мне боль.
У других есть те, кто им предан. Я же никогда не знал никого, кто хотя бы захотел быть мне преданным. Служат другим: со мной хорошо обращаются.
Я знаю за собой способность вызывать уважение, но не привязанность. К несчастью, думаю, что не сделал ничего, что бы оправдало в моих собственных глазах это уважение; по крайней мере, у меня было недостаточно заслуг, чтобы меня уважали.
Порой мне кажется, что я наслаждаюсь страданием. Но на самом деле предпочел бы иное.
У меня нет качеств ни начальника, ни подчиненного. Люди менее разумные, чем я, зачастую сильнее меня. Они лучше приспособлены к жизни меж людьми; управляют более искусно своим разумом. У меня есть все качества, чтобы воодушевлять на что-то, кроме умения это осуществлять, или воли, чтобы этого желать.
Если однажды я полюблю, то не буду любим.
Мне достаточно пожелать чего-то, чтобы желаемое исчезло. Однако моя судьба не имеет достаточно силы, чтобы быть смертельной для чего бы то ни было. Она имеет слабость быть смертельной для вещей, нужных мне.
Видя, какими ясными и логичными доводами некоторые безумцы оправдывают перед собой и другими свои бредовые идеи, я навсегда утратил устойчивую уверенность в ясности ума, в ясности моего ума.
Одна из великих трагедий моей жизни, из тех трагедий, однако, что проходят как бы в тени, – неспособность к естественным чувствам. Я способен любить и ненавидеть, страшиться и воодушевляться, как другие; но ни моя любовь, ни мои страхи, ни мое опасение, ни мое воодушевление не являются идентичными чувствам других. Или им не хватает чего-то, или к ним что-то добавляется. Ясно одно: это – нечто другое, не укорененное в жизни.
В душе тех, кого называют расчетливыми, – и слово это очень емкое – чувства ограничены расчетом, эгоистическими интересами. В душе тех, кого называют щепетильными, наличествует то же вытеснение естественных инстинктов. Во мне присутствует аналогичное расстройство достоверности чувства, но я не являюсь ни расчетливым, ни щепетильным. Я не имею оправдания, чтобы чувствовать скверно. Я инстинктивно извращаю инстинкты. Я нехотя хочу ошибочно.
Раб своего характера, так же как и обстоятельств, оскорбленный равнодушием людей, как и их любовью к тому, кем, как они полагают, я являюсь —
человеческие обиды на Судьбу.
Я проходил среди них чужаком, однако ни один не видел, что я им был. Я жил среди них соглядатаем, и никто, даже я сам, не подозревал, что я был им. Все считали меня родственником: ни один не знал, что меня подменили при рождении. Так я был равным другим, но не подобным им, братом всех, не принадлежа их семье.
Я пришел из чудесных земель, из мест лучших, чем жизнь, но об этих землях я никогда не рассказывал, разве что самому себе, и пейзажей, видимых в мечтах, никогда им не описывал. Мои шаги были, как их – по деревянному полу и каменным плитам, но сердце мое было далеко, хотя билось рядом, мнимый господин некоего тела, изгнанника и чужестранца.
Никто не узнал меня под маской ровни и не знал никогда, что это была маска, потому что никто не знал, что в этом мире есть ряженые. Никто и не предполагал, что возле меня всегда был другой, который в конце концов оказывался мною. Они всегда считали меня идентичным мне самому.
Их дома укрывали меня, их руки пожимали мою, они видели, как я прохожу по улице, словно я действительно там был; но тот, кем я являюсь, никогда не был в этих залах, тому, кто во мне живет, не пожимают руки; тот, кого я признаю мною, не ходит по улицам, хотя все улицы принадлежат ему; никто его не видит на них, хотя сам он – это все люди.
Мы все живем далекими и неизвестными; замаскированные, страдаем неузнанными. Для кого-то расстояние между другим и им самим никогда не обнаруживается; для другого порой освещается ужасом или печалью благодаря вспышке, стирающей грани; но для третьего является скорбным постоянством и повседневностью жизни.
Хорошо понимать, что то, кем мы являемся, – это не мы; что то, о чем мы думаем или что чувствуем, – всегда некий перевод; что того, чего мы хотим, – не хотели ни мы, ни кто-либо еще. Знать все это каждую минуту, чувствовать всеми фибрами – не будет ли это странным для самой души, изгнанной из собственных ощущений?
Но маска, которую в эту ночь окончания Карнавала я рассматривал безучастно и которая разговаривала на углу с человеком без маски, под конец протянула руку и простилась, смеясь. Человек естественный повернул налево в переулок. Маска – безымянное домино – прошла вперед, удаляясь среди теней и случайных бликов света, в прощании, окончательном и чужом, о котором я думал. Только тогда я заметил, что на улице, кроме зажженных фонарей, в тусклости, куда не доходило освещение, блуждал лунный свет, тайный, немой, полный ничем, как сама жизнь…
(Лунные свечения)
…влажно загрязненный мертвым коричневым
…в блестящих скольжениях перекрывающих друг друга крыш бело-серое, влажно загрязненное мертвым коричневым
…и делается неровным в конгломератах тени, изрезанных с одной стороны белым, с синеватыми отличиями холодного перламутра.
[Пейзаж] дождя
И наконец – вижу это памятью – поверх мрака блестящих крыш бледный луч равнодушного утра появляется, точно конь Апокалипсиса. Это снова громадная ночь возрастающего света. Это снова вечный ужас – день, жизнь, вымышленная полезность, безнадежная активность. Это снова моя телесная оболочка, видимая, общественная, описываемая в словах, никем не сказанных, воспринимаемая другими и чужим сознанием. Это снова я, такой, каким не являюсь. С началом света из мрака, наполняющего серыми сомнениями трещины оконных ставень – таких негерметических, Боже мой! – я чувствую, что не смогу более сохранить мое убежище, где я укрываюсь, где я не сплю, но сохраняю возможность уснуть, передвигаться, словно во сне, не зная, что существуют истина и реальность, меж прохладным теплом свежего белья и незнанием о существовании собственного тела. Я чувствую, как убегает от меня счастливая бессознательность, с какой я наслаждаюсь моим сознанием, животная дремота, с какой выжидаю, прищурившись, как кот на солнце, логических движений моего освобожденного воображения. Я чувствую, как стираются во мне преимущества уединения, и медленные реки под сенью опущенных ресниц, и шепот затерянных каскадов между шумом крови в ушах и журчаньем дождя. Теряю себя еще при жизни.
Не знаю, сплю ли я или только чувствую, что сплю. Я не могу сказать, что спал какое-то время, но замечаю, будто пробуждаясь ото сна, который мной не овладевал, первые шумы просыпающейся жизни города, поднимающиеся, точно разлив, оттуда снизу, где лежат улицы, созданные Богом. Это радостные звуки, процеженные через печаль дождя, который идет или, возможно, шел, потому что я не слышу его сейчас. Только чрезмерная серость света, потрескавшаяся вдалеке, показывающая мне тени от какого-то слабого света, не достигающего высоты рассвета, не знаю какого… Это звуки, радостные и рассеянные, и они ранят мое сердце, как будто вместе с ними пришли ко мне гонцы – звать меня на испытание или на казнь. Каждый день, если я слышу его приближение к постели, где я лежу, ничего не зная о нем, кажется мне днем чего-то великого, ожидающего меня, но у меня не достанет храбрости его встретить. Каждый день, если я чувствую, как он поднимается с ложа теней, стряхивая простыни на улицах и в переулках, приходит звать меня на суд. Я осужден в каждом наступающем сегодня. И, вечный осужденный, что живет во мне, цепляется за ложе, как за потерянную мать, и ласкает подушку так, будто это няня, что защитит его детскую от вторжения.
Счастливый отдых большого зверя под деревьями, свежая усталость оборванца среди высокой травы, вечернее оцепенение негра, нежность зевоты, все, что ласкает забвение, заставляя уснуть, подпирая украдкой ставни окна души, спокойствие отдыха в голове, безымянная ласка сна.
Спать, быть далеким, не зная об этом, находиться вдалеке, забыть о собственном теле; освободиться от сознания, укрыться в убежище забытого озера, застоявшегося между листвой деревьев в необъятном удалении лесов.
Ничто, дышащее снаружи, некая легкая смерть, от которой просыпаются с чувством тоски и свежести, переход от душевных хитросплетений к ласке забвения.
Ах, и снова с упорным протестом неубежденного слышу резкий шум дождя, шлепающего по проясняющейся вселенной. Чувствую холод, пронизывающий до костей, будто от страха. И, униженный, никто, человек наедине с собой, в рассеивающемся мраке, часть которого мне пока еще оставили, я плачу. Да, плачу, плачу от одиночества и от жизни, и моя боль, никчемная, как повозка без колес, лежит в куче реальности, среди мусора заброшенности. Плачу из-за всего, из-за утраты материнского лона, руки, касавшейся меня, из-за того, что я не знал рук, меня обнимавших, из-за плеча, на которое никогда не мог опереться… И день, что воссиял окончательно, печаль, что сияет во мне, как жестокая правдивость дня, то, о чем мечтал, о чем думал, что забылось, – все это в смеси теней, вымыслов и угрызений совести, соединяется в отпечатке миров и падает, точно остов виноградной кисти, съеденной на углу уличными мальчишками, ее укравшими.
Шум человеческого дня внезапно выливается в звук дверного колокольчика. Трещит слабая задвижка входной двери. Слышу шарканье домашних туфель в несуществующем коридоре, ведущем к моему сердцу. И резким движением самоубийцы отбрасываю воображаемое постельное белье, защищавшее меня. Я проснулся. Шум дождя отчетливо слышен в вышине наружной неопределенности. Я чувствую себя счастливее. Я исполнил что-то, мне неведомое. Поднимаюсь, иду к окну, открываю ставни с храброй решимостью. Сверкает дождливый день, что топит мои глаза в тусклом свете. Открываю створки окна. Свежий воздух увлажняет мою горячую кожу. Идет дождь, на первый взгляд такой же, на самом деле он гораздо слабее! Я хочу освежиться, жить и склоняю шею перед жизнью, как под безмерным ярмом.
Бывает в городе покой сельской местности. Выпадают моменты, особенно летом в полдень, когда в этом блестящем Лиссабоне нами завладевает поле, как свежий ветер. И здесь, на улице Золотильщиков, мы сладко спим.
Как хорошо для души молча смотреть на эти повозки с соломой под высоким горячим солнцем, на эти ящики, которые мастерят здесь, на этих медлительных прохожих из перенесенного сюда села! Я сам, наблюдая за ними из окна конторы, где я сижу в одиночестве, переселяюсь в тихий городок в провинции, в неизвестную деревушку, и счастлив потому, что чувствую себя другим.
Я хорошо знаю: если я подниму глаза, увижу перед собой неровную линию домов, немытые окна контор, окна тех верхних этажей, которые еще обитаемы, и наверху, на углу, у мансард, неизменную одежду – на солнце, среди цветочных горшков и растений. Я это знаю, но так нежен свет, золотящий все вокруг, так безмятежен спокойный воздух, обволакивающий меня, что у меня нет оснований, по крайней мере видимых, чтобы покончить с моей выдуманной деревней, с моим городком в провинции, где все занятия – покой.
Я хорошо знаю, хорошо знаю… Правда в том, что это час обеда, или отдыха, или перерыва. Все будет хорошо на поверхности жизни. Сам я дремлю, наклонившись с веранды, словно с палубы судна. Я беспечен, как будто на самом деле нахожусь в провинции. Но внезапно появляется что-то другое, меня обволакивает, мне приказывает: я вижу там, за тихим полуднем в маленьком городке, всю жизнь этого города; вижу большое глупое счастье домашней жизни, большое и глупое счастье жизни на полях, большое и глупое счастье покоя в грязи. Вижу потому, что вижу. Не увидев, просыпаюсь. Смотрю вокруг, улыбаясь, и прежде всего стряхиваю с рукавов костюма, к несчастью темного, пыль, собравшуюся на веранде, на которой никто не убирал, не зная, что это был именно тот день, тот момент, когда она является отдраенной палубой некоего судна, идущего под парусом в бесконечном туристическом путешествии.
…болезненная острота моих ощущений, даже идущих от радости; радость остроты моих ощущений, даже идущих от печали.
Пишу в одно из воскресений, поздним утром с нежным светом, в котором поверх неровных крыш города синева неба, всегда нового, покрывает забвением таинственное существование планет…
Воскресенье и во мне… Мое сердце тоже идет в некую церковь, неизвестно где, и идет, наряженное в одежды королевского бархата, с лицом, разрумянившимся от первых впечатлений, улыбающимся непечальными глазами над огромным воротником.
Небо продолжительного лета каждый день пробуждалось тусклым сине-зеленым и вскоре становилось голубым с примесью пепельного. На западе, однако, оно целиком было своего обычного цвета.
Говорить правду, встречать то, что ожидал, отрицать иллюзию всего сущего – сколькие это делают на спусках и на склонах и пятнают заглавными буквами словно в географических названиях и прославленных именах остроту страниц, сдержанных и ученых!
Картина случившегося завтра, того, что не могло бы случиться никогда! Ляпис-лазурь прерывистых эмоций! Скольким воспоминаниям дает приют надуманное предположение, помнишь ли, о ты, только призрак? И в состоянии лихорадки, перемежающейся уверенностью, легкий, быстрый, нежный шепот воды в парках рождает чувство – из глубины моего самосознания. Старинные пустые скамьи и аллеи покрывают пространство меланхолией пустынных улиц.
Ночь в Гелиополе![31] Ночь в Гелиополе! Ночь в Гелиополе! Если бы мне сказали эти бесполезные слова, чтобы возместить мне и кровь, и колебания!
Цветет в вышине, в ночном одиночестве, неизвестная лампа за каким-то окном. Все остальное, что я вижу в городе, темно, за исключением слабых отражений света на улицах, что поднимаются смутно и заставляют, то там, то здесь, колебаться перевернутый лунный свет, очень бледный. В черноте ночи даже дома совсем немного отличаются друг от друга, их различные цвета или оттенки – только смутные различия, можно даже сказать, абстрактные.
Невидимая нить меня связывает с неизвестным владельцем лампы. Это не бросающееся в глаза обстоятельство, что мы оба не спим: в этом нет возможной взаимности, ведь стой я у окна в темноте, он никогда бы не разглядел меня. Это нечто другое, только мое, что укрепляется несколько ощущением изолированности и является частью ночи и тишины, выбирая эту лампу в качестве точки опоры, потому что это единственная существующая точка опоры. Кажется, это оттого, что она зажжена, ночь такая темная. Кажется, это оттого, что я не сплю, мечтая во мраке, она светится.






