История доллара Гудвин Джейсон
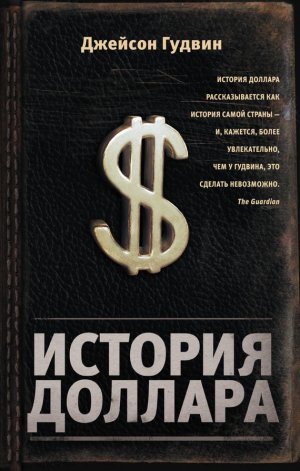
Бумажные доллары любой расцветки и происхождения закачивались в молодую республику. Все больше людей влезали в долги, чтобы приобрести Америку, и для удовлетворения их потребностей создавались новые банки: в 1811 году — 90, двумя годами позже — 208.
американские банкиры приняли на вооружение систему Перкинса, чтобы усложнить жизнь фальшивомонетчикам, но по другую сторону Атлантики выпускаемые Банком Англии банкноты по-прежнему оставались не более чем продуктом изящной гравировки по меди, отпечатанной на хорошей бумаге. Банк Англии исходил из принципа, что никто не осмелится их подделать: полагался на страх перед Богом, законом и отмщением Короны, ибо раскрытие преступления означало смерть (повешение, дыбу и четвертование, жестокое средневековое наказание, уготованное за измену и подделку денег). Какое-то время надменность Банка выглядела оправданной: прошло 50 лет, прежде чем у кого-то хватило наглости подделать банкноту. Акционеры Банка Англии были потрясены и разгневаны. «Трудно представить, как долго английские банкноты могли избегать подделки, — писал один историк Банка. — если бы этот человек не продемонстрировал, как легко это сделать». Американцы изумились бы лишь тому, сколько времени понадобилось на появление фальшивомонетчика.
Когда в 1797–1815 годах Англия приняла вызов, брошенный революционной Францией и Наполеоном, Банк Англии приостановил платежи золотом и выпускал только бумажные деньги. Закачивая в экономику легко подделываемые купюры вместо золота, можно было добиться лишь одного — всплеска фальшивомонетничества. Угрозы не подействовали: в 1801 году выявили 8000 подделанных купюр, годом позже — 18 000, а к 1817-му их количество достигло отметки в 31 000. Общество понимало, что деньги являются своеобразным издевательством над беднотой, как если бы голодающему дали пирог с предупреждением, что его нельзя есть. Популярный карикатурист Джордж Крукшенк нарисовал карикатуру на однофунтовую банкноту: на ней петли выгравированных букв заменяли петли виселицы, в которых болтались повешенные, а рядом красовалась Британия, пожирающая собственных детей. Казненных было так много, что в 1818 году в Лондоне созвали королевскую комиссию, чтобы рассмотреть вопрос о банкноте, которую невозможно подделать. Банк Англии объявил награду тому, кто найдет способ отвадить фальшивомонетчиков. Ходили слухи о колоссальном вознаграждении в 100 000 фунтов стерлингов. В 1818 году эта сумма равнялась почти 500 000 долларов, причем в первоклассных монетах Банка Англии (примерно во столько оценивался ежегодный доход богатейших семей Англии; это больше, чем самый состоятельный гражданин США мог увидеть собственными глазами за десять лет).
Перкинс услышал о вознаграждении от британского посланника в Вашингтоне, выражавшего неподдельное восхищение чудом, которое сотворили с долларом стальные печатные формы изобретателя, и тотчас решил возглавить экспедицию в Лондон. Отложив в сторону иные проекты, он собрал граверов и работников, включая автора гравюры с портрета Вашингтона Гидеона Фейрмена, и 31 мая 1819 года отправился в Англию с 26-ю чемоданами оборудования на скоростном пакетботе «Телеграф» под началом Гектора Коффина. В качестве гостя Перкинс обедал за одним столом с капитаном, и к тому времени, когда через четыре недели они достигли пункта назначения. молодой Коффин стал спонсором проекта.
ПЕРКИНС и его сторонники, в число которых входило Королевское общество изящных искусств, потратили два года на то. чтобы убедить банковский комитет сэра Уильяма Конгрива в том. что «американская система» превосходит любую другую, какую они могли бы изобрести. Перкинс жил на средства английских частных банков, ухватившихся за его систему печати, как десятилетием ранее банки Массачусетса. Осторожничал только Банк Англии. В письме капитану Коффину в конце того же года Перкинс доверительно сообщал, что «спрос на наши печатные пластины со стороны частных банков столь велик, что мы готовы удовлетвориться честью самого факта того, что Банк Англии примет наш план. То, что им в конце концов придется это сделать, я ничуть не сомневаюсь — все говорят, что это должно произойти. Вчера нам передали из надежнейшего источника слова одного из сотрудников сэра Уильяма Конгрива, сказавшего, что тот зол как черт, и что с того момента, как наши образцы были представлены комиссии, он ожидает, что американский план будет принят».
Перкинс и его команда выгравировали и отпечатали пробные банкноты. Комитет высоко оценил их качество, а независимый комитет, учрежденный Королевским обществом изящных искусств, одобрил идею привлечь величайших живописцев страны для создания виньет. Только сэр Уильям Конгрив — амбициозный инженер и изобретатель ракетной артиллерии — отказывался их поддержать. В его понимании «неповторимая» банкнота означала, что ее ни при каких условиях нельзя воспроизвести на достаточном уровне, чтобы одурачить публику, даже если потребуется задействовать все силы и средства Банка Англии, а его гравировщики и печатники, используя все свое умение и возможности Банка, создали сносные имитации фунтовых банкнот Перкинса.
Тот, разумеется, протестовал. Фальшивомонетчики, которые с завидной регулярностью поднимались на виселицу, редко могли похвастаться возможностями Банка Англии: они просто видели легкую добычу и испытывали удачу. С точки зрения затрат и выгод Перкинс уже сделал их деятельность невозможной: частные банки Англии и Банк Ирландии приняли его методы, и он бомбардировал комитет свидетельствами американских банков, которые многие годы использовали его печатные формы без какого-либо ущерба. Перкинс указывал, что, в отличие от альтернативных проектов, его система соответствовала всем стандартам, работала и могла быть реализована немедленно. Но ничто не поколебало сэра Уильяма Конгрива, питавшего глубокое отвращение к «американской системе» и, казалось, делавшего все, чтобы настроить комитет против нее. Куш в 100 000 фунтов так никому и не достался, поскольку Банк Англии, несмотря ни на что, решил ничего не менять в своих банковских билетах. Когда в 1819 году война с Францией закончилась, он вернулся к золотому стандарту. Количество бумажных купюр сократилось, как и число подделок. Кризис общественного доверия был предотвращен, а потом забыт. Насколько можно судить по документальным свидетельствам, Перкинс не получил за свои труды ни пенни.
Перкинс находился в Англии, наслаждался окружавшей его атмосферой «мастерской мира», вызвал свою семью, соскучившись в своем новом доме по американскому гостеприимству, и спустя 27 лет умер здесь же в возрасте восьмидесяти трех лет. так и не вернувшись в США. Все это время его система демонстрировала полное преуспеяние в Америке. Гравировка банкнот в течение считаных лет разрослась до такой степени, что один иностранец назвал ее единственным чисто американским вкладом в сокровищницу мирового искусства (сомнительный комплимент, но, тем не менее, заслуженное признание исключительного уровня мастерства и вкуса, которыми американские художники наградили свои банкноты). США все еще были молоды и вторичны, но их деньги стали уникальными и сильно отличались от предшественниц революционной эпохи с их зловещими масонскими или алхимическими символами, вырезанными на медных досках. Банк Англии мог этого не признавать, но орудие, вложенное Перкинсом в руки создателей банкнот, подвело черту под XVIII веком.
КОГДА НОВЫЕ НАДЕЛЫ под фермы на западе штамповались в сетках геодезистов, они сверхъестественным образом идеально соответствовали новым долларам, за которые покупались, — полный надел составлял 640 акров, а целый доллар представлял собой оттиск 64 пуансонов. Доллары, соединяясь, образовывали пространство дешевого кредита, как наделы в совокупности начали формировать новый ландшафт. Американцы считали открывшиеся им земли пустыней, пугающе однообразной и лишенной характерных черт. Постичь это пространство можно было единственным способом — измерив его; покупая и продавая землю, строя на ней фермы и вырубая лес, заселяя ее. люди постепенно превращали ее в нечто одомашненное. Пейзажем эта земля стала, лишь когда была заселена и стала обрабатываться.
Страна, которая в 1820-е годы с распростертыми объятиями встречала всякого, кто устремлялся западнее Питтсбурга, была возделана и создана мужчинами и женщинами, чьи судьбы сошлись в отдельно взятом уголке земного рая, которые рожали в нем детей и расцвечивали его своими домами, полями. посевами, домашними животными, церквями и лавками. Это произошло задолго до того, как железнодорожные компании начали издавать красочно иллюстрированные брошюры, пытаясь заселить свои линии. До появления железных дорог самой ходовой картинкой происходящего за Аллеганами и Огайо являлся доллар.
Американские художники девятнадцатого столетия, наполнявшие родные пейзажи таким светом и страстью, были подвержены тому, что уроженец Англии, художник Томас Коул, иронично называл «величайшим изъяном в американской пейзажной живописи — нехваткой ассоциаций, вроде рассвета на картинах прежнего мира». Среди пустошей Дикого Запада «не было ни разрушенных башен, которые олицетворяли бы гнев, ни величественных храмов, говорящих о тщеславии». Другими словами, ничего из того нравственного кода живописи, которому можно было бы следовать. Время в Америке только собиралось начать свой круговорот.
Необузданное величие девственной пустыни, протянувшейся на многие мили через огромный и не зафиксированный на картах континент чьи размеры еще предстояло оценить, поражало американских художников той эпохи подобно молнии. Открывавшаяся их взгляду земля словно только вышла из рук Творца.
Знакомство Коула с английскими фабричными городками и сельской глубинкой, где землю обрабатывали вручную, помогло задать тон для художников Школы реки Гудзон, которые оставались ему верны и на американском Диком Западе. «Пейзажи безлюдных мест, сохранивших всю свою природную первозданность, волнуют ум куда более звучными эмоциями, чем что бы то ни было иное, к чему прикоснулась рука человека, — продолжал Коул. — Те ассоциации, которые они вызывают отсылают к Богу-Творцу. Они — Его неоскверненные творения, и ум побуждается ими к размышлению о вечном».
От Ниагары к Катскильским горам, от Пайкс-Пик до Великих равнин Томас Коул и его последователи — Фредерик Чёрч, Альберт Бирштад, Ашер Дюран и другие — вернулись к мысли, что это и в самом деле была земля обетованная, только что созданная Господом для услады своего избранного народа. «Ассоциации, вызываемые Америкой, связаны не столько с прошлым, сколько с настоящим и будущим, — подытоживал Коул. — Там, где сейчас рыщут волки, заблестит плуг, на сером утесе вырастет храм и башня — великие деяния свершатся в ныне непроходимой глуши, и еще не родившиеся поэты освятят эту землю».
Художникам приходилось терпеливо прокладывать свой путь среди глуши, чтобы отыскать то, за чем они шли, сознавая, что за считаные годы эти дикие кочевья превратятся в фермы, городки и места отдыха. Иногда они рисовали на своих холстах фермы там, где тех еще не было; иногда выбирали подходящий одиноко стоящий дом с раскорчеванными двумя-тремя акрами вокруг, виднеющийся на фоне пустынного величия далекого горного пика и особенно яркого великолепия вековых деревьев. В этом заключался путь империи[62], и величественное да падет перед ней! Величественному назначат цену, и оно будет заселено людьми, куплено и продано: время и перемены вторглись в Новый Свет.
Изображение Ниагарского водопада, выполненное Чёрчем, слегка угнетает утомленно го зрителя: запечатлено так много струй, такая колоссальная масса воды, столь великое множество мельчайших деталей ее бурления и скольжения вниз! Приводя в замешательство, природа целую вечность извергает свою мощную энергию незамеченной — до тех пор, пока глаз не отыскивает небольшую фигуру в сером камзоле, стоящую на смотровой площадке.[63]
АМЕРИКАНСКАЯ система Перкинса поставила пейзажную живопись на службу скромной банкноте. Разумеется, доллар был очень узким и тесным холстом и в печатной форме едва ли мог претендовать на то, чтобы передать светотенью дюрановеких картин новую зарю, занимавшуюся над первозданным творением рук Господа. Но он ухищрялся действовать в рамках того же эстетического пространства и пытался ухватить в линиях то. что живописное полотно могло передать игрой света, теней и форм. Там. где живописцы предавались мечтам, граверы торопились: иногда это были одни и те же люди. Запечатленный на их полотнах образ нестройного божественного порядка уступал место сценам жатвы и сенокоса, испещренным округлыми снопами полям, отдаленным хижинам и приветливой пашне.
Почти каждый хороший гравер в Америке, которому работа со стальной пластиной позволяла создавать такие четкие рисунки, что они были почти фотографичны по степени прорисовки деталей, выполнял заказы компаний по производству банкнот, ведя хронику расцвета новой цивилизации. Доллары больше не имели вертикальной ориентации и формата афиши, словно небольшие прокламации с беспокойной кромки дикой пустоши. Они раздались вширь, чтобы объять новые горизонты, открывавшиеся вслед за отодвигавшейся все дальше границей; получили альбомную ориентацию, стали крупнее и длиннее современных банкнот. Однако по-прежнему читались слева направо, подобно сборнику сказок, и повествовали о том, что бравшие их в руки люди могли с легкостью понять. Вообразите недавно приехавшего иммигранта, направлявшегося на запад и получавшего на сдачу олицетворение самой надежды! Представьте себе, что чувствовал юноша с какой-нибудь фермы на американском востоке, увидев, как все его мечты кристаллизовались и получили официальную санкцию на долларовой купюре! Все эти выгравированные рисунки повествовали о том, как суровый континент обращается в пейзаж: пустыня участок за участком превращалась в частную собственность, по мере того как тысячи новых поселенцев устремлялись в долину Огайо и дальше на запад.
Для художников и граверов пафос происходящего был очевиден, а убедительность идейного содержания несомненна. Когда скваттеры в Техасе не преуспели в своем обращении о вступлении в Союз в 1836 году, они поместили портрет Даниеля Буна на свои доллары, чтобы показать, что они — такие же пионеры и ничем не хуже поселенцев в Миссури, получивших свой штат. Для банков Новой Англии и центральных штатов художники изображали уголь и дымовые трубы, пар и зубчатые колеса, а также мрачные сатанинские мельницы — невинные образы прогресса.
Они рисовали фермы и паромы запада, сцены и атрибуты фермерской жизни в деталях: забой свиней, рубку деревьев, запряженного в плуг быка. Вот аутентичная коса для зерна, вот — примитивная механическая жатка (по граблям можно определить, что это жатка Хуссея) или борона, разбрасыватель сена, механический культиватор. Вот сбор хлопка или смолы. Вот геодезист с тремя помощниками щурится, смотря в теодолит около поваленного дерева. На виньеты прокрался даже алхимик. Китобои и моряки, гремящие в доках бочками с табаком: люди, едущие в своих повозках по шоссе: плавучий дом трапперов: ведомые лошадьми баржи: зубчатые железные дороги — все это и многое другое появлялось на долларах.
Железная дорога стала самым популярным сюжетом. Долларовые купюры зафиксировали стремительное развитие американских железных дорог от гравюр первых построенных в Британии паровозов до испускающих дым исполинов трансконтинентальных магистралей: дымовые трубы, предохранительные решетки локомотивов и тендеры. Конечно, это был взгляд сквозь розовые очки, рекламно-пропагандистский подход к оформлению виньет, а не осознанное средство укоренения в массовом сознании энциклопедии движущихся картинок. Долларовые купюры начала девятнадцатого столетия помогали создавать американскую мечту.
В художественном выражении только виньеты с их непосредственностью и экономностью политической карикатуры могли надеяться поспеть за головокружительным развитием Америки. Этот небольшой холст с запечатленным на нем образом прирученного континента был дешев, прост и беззастенчиво переходил из рук в руки, торгуя вразнос пейзажем, который создавали простые люди и который им же принадлежал.
Ибо в Америке великий захват земли был народным, демократическим движением. Никаких башен, храмов и «помни о смерти»: ничто в пейзаже не отражало феодального наследия крупнейших землевладельцев. Пейзажные картины можно было продать состоятельным ценителям, но за четверть доллара их демонстрировали рядовой публике, которая занимала свои места перед картиной за занавесом и у которой перехватывало дыхание, когда она оказывалась в застывшем мире побережья Лабрадора или в лучах задумчивого восхода солнца на западе.
«Сити-Банк» Дэлавера мог похвастаться четырьмя отдельными виньетами на лицевой стороне своей однодолларовой купюры — девушкой в ночной сорочке и с лавровым венком, отдыхающей за ширмой; грохочущим через прерии пассажирским поездом; косарем, лежащим подле своей косы; очень маленькой картинкой того, что могло быть крысой, а должно было быть собакой. «Сити-Траст» украшал девушку накидкой, в то время как джентльмен в цилиндре указывал на корабль вдалеке индейскому воину из племени мохоков, рука которого свисала в опасной близости от клюва орла на американском гербе. Коренных американцев часто изображали на долларе ради создания образа прогресса. Их жесты говорили о благородном смирении. Украшенный перьями, полуобнаженный, стоящий в полный рост индейский воин наблюдает прибытие кораблей, за которыми разворачивается впечатляющий караван технологии. Бывает, что воин один: горький часовой исчезающего порядка вещей; он мрачно предается философским думам со своего усыпанного колючками и поднимающегося над рекой утеса, нависшего над растущим городом. Бывает, что вокруг него собирается семья, и тогда индейская матрона указывает путь, протягивая руку к плугу и снопам пшеницы. Со временем индейцам предстояло исчезнуть с изображений вместе с индейской принцессой, языческой и свободной, столетиями олицетворявшей Америку, на смену которой пришла античная богиня.
Купидоны, херувимчики и путти снимают свой урожай. Аврора поднимается из моря в колеснице, чтобы окропить росой утро, а Аполлон, бог солнца, гонит свою колесницу по небу. Гебу, богиню молодости, изображали как виночерпия богов. Феникс, воскресающий из пепла, стал символом возрождения. Весна устраивается в уютном жилище в виде замечательной аллегорической фигуры с ребенком. Если банк находился рядом с побережьем, он мог поместить изображение морской богини Фетиды или Нептуна, колесницу которого увлекал за собой морской конек (наполовину конь, наполовину дельфин), а также его сына Тритона, дельфинов и русалок. Иногда это были красивые девушки ради них самих — три грации, изящные нимфы — или нечто, бросающееся в глаза, чтобы люди потом сохраняли банкноту в качестве сувенира. Например, банк «Сент-Николас» в Нью-Йорке ставил на своих купюрах Санта-Клауса, готового исчезнуть в дымоходе с мешком подарков.
Прекрасные молочницы, возделанная пашня, уборочные машины и исчезающие индейцы — все это указывало на полную сил и энергии страну. Не дикую. Вовсе без пустошей: именно новую страну, которая только училась постигать себя, примеряя «цивилизованные» понятия порядка и цели к ситуации на пограничье, которое долгое столетие будет отодвигаться от штата к штату. Художники обладали большей свободой в том, чтобы вскрыть двойственность Дикого Запада: одна из знаменитых своей загадочностью картин, похоже, изображает индейца и его сына-полукровку, скользящих вниз по реке на плоскодонном ялике, на носу которого находится то ли медвежонок, то ли кошка, то ли насторожившаяся собака — все праздные, но настороже, сама непринужденность и угроза. Долларовые купюры излучали надежду и изобилие куда более бесцеременно. На них не было полукровок — лишь новая порода мужчин и женщин, подходящих для того, чтобы вспахать и раскрыть новую страну.
Ничего подобного этим бумажным долларам и такому заселению земель ранее не случалось — и то и другое, несомненно, бросало вызов общеевропейскому опыту. Массово произведенный по «американской системе» Перкинса доллар пришпорил продажу и покупку земли с беспрецедентной в истории человечества скоростью. Перескакивая прыжками от одной границы к другой, стала набирать обороты неизвестная в новейшей европейской истории миграция — по мере того как год за годом изображенные на долларовых бумажках люди вгрызались в дебри, описанные в последний раз американской живописью. Если бы марсианин навел свой луч на обменную контору в Америке начала девятнадцатого столетия, он получил бы ясное представление об уровне и направлении развития американской цивилизации, бросив взгляд на деньги. Однако не нужно быть марсианином — лишь одним из тысяч и десятков тысяч новых американцев, которые толпами устремлялись через весь континент на запад, причем они были готовы к новой жизни едва ли лучше марсиан.
9. Филадельфийская история
О Филадельфии — Банкирский рай — Монстр — Совершенные деньги — Эндрю Джексон
Когда Джейкоб Перкинс в 1819 году отправился в Англию, он отплыл из самого оживленного в стране порта и единственного настоящего города во всей Северной Америке. Это было место, где иностранные визитеры — которым здесь всегда нравилось — могли остановиться в «Отеле Соединенных Штатов», улаживая вопросы получения своих денег с Банком США. Монетный двор Соединенных Штатов располагался здесь тоже не случайно: в этих местах жили и вели дела многие преуспевающие в масштабах страны торговцы, брокеры и банкиры. Это была финансовая столица Америки, а ее Честнат-стрит являлась Уолл-стрит своего времени. Город назывался Филадельфия.
Никогда больше в американской истории ни один город не будет тотально господствовать над Америкой или так далеко выдвигаться в качестве самого передового. Филадельфию переполняли энергия и знания — именно здесь открыл кислород химик Джозеф Пристли, который незадолго до этого прибыл из Англии и наслаждался окружавшей атмосферой: ведущие научные изыскания в стране осуществлялись под эгидой городского Американского философского общества. Филадельфия могла похвастаться лучшими врачами и самыми ловкими адвокатами. В 1791 году виргинцы боролись с планами Гамильтона дать Филадельфии влиятельный банк — из опасений, что это похоронит их надежды на столицу на Потомаке. Более чем десятилетие Филадельфия номинально и реально была столицей страны, пока, согласно достигнутому Джефферсоном и Гамильтоном компромиссу, к жизни мошеннически не вызвали город Вашингтон в округе Колумбия. Но даже после этого федеральное правительство позволило себе прихватить лишь чиновников; в Филадельфии остались все, кто был богат или интересен, сведущ или амбициозен. Она точно знала свое место. До конца 1810-х годов правительство в Вашингтоне не располагало астрономическими приборами, позволявшими рассчитать широту, на которой находился город. В глубине души мало кого огорчило, когда в 1814 году англичане сожгли Капитолий.
Колокол свободы, Зал свободы, первое здание Верховного суда, священная земля, на которой была подписана Декларация независимости, — все напоминало Филадельфии об ее исторической роли и долге в отношении нации. И пока Вашингтон пыжился вычислить свое местоположение, филадельфийцы склонялись над Америкой, как ученые над чашкой Петри. Филадельфия была единственным подходящим местом для изучения электричества, агрономии, экономики и индейской лингвистики. Американская энтомология вылупилась в 1806 году вместе с «Каталогом насекомых Пенсильвании» Мелшаймера. Описание Америки — экспедиции, прокладка путей и составление карт, переписи видов птиц и животных, сбор коллекций флоры и фауны континента — все отправлялось из Филадельфии, куда пионеры, разрушившие построения Бюффона, возвращались со стертыми ногами и невероятными впечатлениями, чтобы прочитать свои лекции филадельфийцам или пополнить коллекцию первого американского Музея естественной истории (основанного и управлявшегося местным портретистом Чарльзом Уилсоном Пилом) сокровищами из глубин материка. Даже Льюис и Кларк, первопроходцы американской доктрины предначертания, отправились к Тихому океану, лишь получив инструкции и экипировку в Филадельфии; первое авторитетное издание их дневников было опубликовано в 1815 году именно здесь.
К 1820 году в Америке было десять отраслей, которые могли претендовать на ежегодный доход в 100 000 долларов, и издательская отрасль Филадельфии являлась одной из них. Первое американское издание энциклопедии «Британника» отпечатали в Филадельфии: все 22 тома ин-кварто, от «А-Ant» в 1790 году до «Z-Zym» в 1802 году. Фантастически напыщенная и скучная пятитомная «Жизнь Вашингтона» за авторством Маршалла[64]
стала классическим для Филадельфии проектом — пришлось привлечь городского печатника, чтобы отыскать столько литер. И в той же мере гораздо более легкомысленная и наполовину вымышленная «Жизнь и памятные деяния Джорджа Вашингтона», а также стостраничный бестселлер «Пастора» Уимса[65], полный «развесистой клюквы». Неудобочитаемый патриотический эпос Барлоу «Колумбиада» и превосходная «Орнитология Америки» Уилсона увидели свет в первые годы нового столетия. Затем — «Элементы ботаники» Бенджамина Смита Бартона и «Виды североамериканских растений» Нателла. В 1824 году за ними последовала «Флора северной и центральной части Соединенных Штатов» Джона Торри.
Художники собирались в Академии изящных искусств, основанной ради экспонирования в 1805 году коллекции итальянской живописи почтенным банкиром Джорджем Клеймером — одним из тех, кто подписал Декларацию независимости. Первый американский живописец, ставший рисовать местные дикие пейзажи, Томас Доти, житель Филадельфии, устроил в 1816 году свою первую выставку. Первая американская литография была сделана здесь в 1818-м. Лучшие американские граверы соблазнялись традициями издательского дела именно в Филадельфии, и два искусных англичанина переехали, чтобы составить портфолио акварелей «Живописные виды американского ландшафта», изданных в 1820–1821 годах. Основанный здесь в 1801 году «Порт-фолио» стал первым в стране литературным журналом — во времена, когда самим портом могла быть только Филадельфия. Физиогномика использовала для лечения пантограф, снимавший механически репродукции с профиля. Здесь ставили пьесы,[66] строили первые дома блочной застройки («филадельфийские ряды») и родился журнал «В помощь строителю» (1818–1821), впервые описавший греческие ордера, а также здание Второго банка Соединенных Штатов (1819–1824) в греческом стиле юного Уильяма Стрикленда, которое «превосходит в изяществе и ничуть не уступает в практичности зданию не только Банка Англии, но и любого другого банка в мире», по словам английского критика 1830-х годов. Здание отличалось монументальностью, а в недрах его глубоко изрезанного белого мраморного фасада, на котором играли свет и тени, Филадельфия хранила деньги, которыми платили за кислород, адвокатов, эрудицию, книги, пьесы и «филадельфийские ряды».
Город привлекал свергнутых монархов. Итурбиде была мексиканской императрицей, Жозеф Бонапарт, брат Наполеона, — экс-королем итальянским, а ныне жил на Пойнт-Бриз, близ Бордентауна (он высадился в Нью-Йорке и в качестве приветствия услышал окрик носильщика: «Эй, Бони, помоги нам с чемоданом!»). Здесь проводил зиму и бронировал отдельную скамью в католической церкви король Испании, а князь Канино и Мусиньяно был постоянным членом Американского философского общества и страстным орнитологом-любителем, впервые описавшим чайку Бонапарта — мельчайшую из всех чаек, которую еще можно увидеть в подходящее время года у поросших тростником берегов Делавэра.[67]
Что касается императоров, у Филадельфии имелся собственный. Николас Биддл среди друзей был известен как Царь Николай. Он принадлежал к числу филадельфийской аристократии и питал патрицианские чувства республиканского долга. Родившийся в 1786 году и названный в честь дяди, героически погибшего в море во время Войны за независимость, Николас с максимальными баллами окончил Принстонский университет в возрасте пятнадцати лет (в этом же возрасте стал сам себе хозяином Джейкоб Перкинс). Биддл участвовал практически во всем, что выделяло Филадельфию из общего ряда. В 1804 году, после нескольких утомительных лет юридической практики он посетил Париж в качестве секретаря американского посланника Джеймса Монро, где приобрел картины для Академии художеств Филадельфии. Он присутствовал на коронации Наполеона — событие, которое в итоге привело в Филадельфию некоторых венценосных жителей, — и путешествовал по Италии, когда один из них, Жозеф, все еще был ее королем. Из Италии Николае проследовал к берегам Эгейского моря и, по сути, стал первым американским туристом, посетившим Грецию. Осененный мыслью, что в мире есть два божественных откровения — Библия и греческая архитектура, он завершил свое путешествие в 1807 году в должности секретаря Джеймса Монро в Лондоне, прежде чем вернуться в Филадельфию — американские Афины.
Здесь Биддл проявил себя в качестве соперника Джефферсона. Он женился на богатой наследнице, поселился в Андалусии, загородном поместье на берегах Делавэра, и стал авторитетом в области фермерства и садоводства (излишне говорить, что Биддлы до сих пор живут в Андалусии). Николас выращивал виноград в своих оранжереях и завозил в страну первых коров олдернейской породы. Он стал редактором «Портфолио» и был избран — самим Джефферсоном — осуществить первое издание дневников Льюиса и Кларка, открывших читателям широкие возможности американского запада. Он был членом Палаты представителей Пенсильвании и председателем Филадельфийского общества популяризации агрономии. Популярен, остроумен и умен. Когда Джеймс Монро стал президентом, он сделал Николаса Биддла директором Второго банка Соединенных Штатов. Тот протестовал, сославшись на незнание банковского дела, но свой долг исполнил. И вот на дворе 1817 год. и Николас присоединил свой голос к голосам шести других членов правления Банка, чтобы подытожить все. что Филадельфия знала о новом государстве лучше прочих.
«Ваше правление. — писали они, — не может при взгляде на карту Соединенных Штатов не тешить себя самыми приятными ожиданиями». Читая эти строки, прямо слышишь, как члены правления потирают руки. «Оно видит перед собой страну, в границах которой заключены обширные пространства плодородной земли, достаточной, чтобы вместить в себя и вознаградить труды практически бессчетного числа жителей: растущие числом, богатством и великолепием города: огромный избыток разнообразной продукции почти всех климатических зон. текущий в эти города с тем, чтобы быть потребленным ими или быть вывезенным в другие страны, и порождающий столь деятельную внутреннюю и внешнюю торговлю, что она способна поддерживать обращение миллионов денежных знаков, связывающих воедино близкие и дальние селения, отдельные области и регионы этой великой страны».
Ассоциация! Плодородие и размах! И парящие миллионы долларов в виде ангелов в банкирском раю!
ДИРЕКТОРА Банка, предававшиеся составлению звучащего совсем не в духе банкиров панегирика будущему преуспеянию Америки, обнаруживали свою неискушенность, поскольку не делом банкиров Центробанка было говорить так, словно они являлись биржевыми дельцами. Но искушение было непреодолимо, поскольку война 1812 года[68] закончилась, и молодая Америка была на подъеме. Но, когда ливерпульские импортеры хлопка переключились на более дешевые поставки из Индии, за бумом внезапно последовал крах. В начале 1819 года цена на хлопок в Новом Орлеане упала в два раза. Потом на 50–75 % снизились цены на землю. Учрежденные на волне подъема банки штатов оказались с большими долговыми портфелями, недостаточно обеспеченными падающими в цене земельными активами. Они начали банкротиться, и Банк Соединенных Штатов, сам столкнувшийся с трудностями, потребовал назад их долговые обязательства, тем самым разорив еще больше учреждений. Связующие нити бумажных денег натягивались и обрывались — должникам приходилось расплачиваться звонкой монетой. Американские долги начали громоздиться в Филадельфии, где Банк Соединенных Штатов мрачно принимал к оплате тысячи закладных под земли на западе. «Люди были разорены, но Банк был спасен», — с горечью писал Уильям Кудж. А сенатор Бентон ревел в 1818 году в Вашингтоне: «Все цветущие города на западе оказались заложниками этой власти денег.
В любой момент они могут быть проглочены этим монстром! Кусок масла в пасти пса! Один глоток — и все пропало!» Это был первый финансовый кризис в Америке.
Кто был монстром, точнее говоря, пускающим слюнки псом, готовым проглотить кусок масла? Не кто иной, как преемник мрачного жупела джефферсоновских республиканцев — Банк Соединенных Штатов, чье здание по-прежнему высилось в Филадельфии, ныне поколебленное и осыпающееся, ровно напротив городской библиотеки, на другой стороне 3-й улицы. Основанный в 1791 году согласно хартии сроком на двадцать лет, он в свое время был главным распространителем кредита — крупнейшей операции по выпуску бумажных денег в стране; распоряжался государственными активами, перемещая денежную массу по стране от имени государства, взимая налоги и выплачивая жалованье федеральным чиновникам. В числе его обязанностей находилось обеспечение того, чтобы бумажные доллары меньших по размерам банков штатов, как обещалось, жители в любой момент могли обменять на золото и серебро. Его собственные, хорошо расходившиеся банкноты приравняли к золоту. Он поддерживал более чем достаточные резервы и с большой осторожностью ссужал правительству и внушающим доверие предпринимателям.
Но все равно его дни были сочтены. Двадцатигодичную лицензию, несомненно, продлили бы, если бы Гамильтон был жив, ведь Банк сослужил хорошую службу. В 1804 году он помог Джефферсону удвоить территорию страны по цене четыре цента за акр, целиком приобретя у французов Луизиану. Не будь Банка, деньги, вероятно, так и не материализовались бы, и Соединенные Штаты стали бы совсем другой страной. Даже Альберт Галлатин, канцлер казначейства в годы президентства Джефферсона, пришел к мысли о полезности Банка, но Галлатин был иммигрантом из Швейцарии, а швейцарцы, как известно, питают слабость к банкам. Другие сторонники Джефферсона страшились Банка и не могли смириться с его влиянием. Они наблюдали, как деньги аккумулируются в руках одного учреждения, и содрогались при мысли о том, какую власть над правительством могут приобрести его богатые акционеры — власть, которая могла ниспровергнуть волю народа.
Они не переставали указывать на то, что большинство акционеров Банка даже не являлись американцами: более половины из его 25 000 паев приобрели британские инвесторы. Галлатин отвечал, что иностранные акционеры не имели права голоса, и доказывал, что Америке следует привлекать английский капитал, готовый довольствоваться ежегодными дивидендами, нежели гоняться за займами в Европе. Он предупреждал, что, если республиканцы воплотят свое намерение не продлевать лицензию Банка в 1811 году, более 7 млн долларов в звонкой монете будут выведены из страны в оплату паев акционеров. Никто его не послушал, и в 1811 году Конгресс убил Банк. Далее произошло то, что предсказывал Галлатин: нехватка золота и серебра, заставившая все банки в Америке приостановить соответствующие платежи по своим банкнотам. Пять неустойчивых лет страна жила на бумажном денежном стандарте.
Второй банк Соединенных Штатов был основан в 1816 году, если не прямо на теплившихся руинах предшественника, то с дистанцией лишь в пять лет и на сто ярдов дальше, на углу Честнат-стрит и 4-й улицы, где его новое здание вызывало всеобщее восхищение, как самое прекрасное здание банка в мире. Хотя последствия жизни вообще без банка стали слишком очевидны, учреждение нового естественным образом породило те же подозрения, что погубили первый Банк США. Мэриленд обложил налогом его отделение в Балтиморе, объяснив это тем, что, коль скоро он не получал лицензию штата, его присутствие посягает на суверенные права Мэриленда. Председатель Верховного суда США Джон Маршалл, один из родственников Джефферсона, вынес постановление, запрещавшее вводить такой налог: в своем знаменитом постановлении он заявил, что право облагать налогом означает право на разрушение. Он повторил аргумент Гамильтона о том, что Конгресс полномочен учреждать федеральный банк, поскольку обладает правом «принимать любые законы, которые будут необходимы и уместны в обеспечение его установленных ранее полномочий», включая право облагать налогами, заимствовать денежные средства, регулировать торговлю, объявлять войну и вести боевые действия. Маршалл был решительным федералистом, и Джефферсон его всегда ненавидел. Но баланс сил между федералистами и штатами потихоньку склонялся на сторону первых.
Биддл стал председателем Банка в 1823 году с торжественно заявленным намерением дать стране более подходящие деньги. В Николасе Биддле, как обнаружили экономисты, было до невероятности мало от банкира: по выражению одного из них, он являлся «неисправимо беспечным язычником». Когда его попросили оставить автограф в альбоме одной юной особы, он на ходу придумал целое стихотворение, описывающее, как ему пришлось бросить литературу ради финансов:
- Я свежее послание из «Бэрингса» иль «Хоупа»
- Ценю сильней эпистолы от Плиния иль Поупа;
- И мне милей парижские «сердечные приветствия»,
- Наславших на Елену гомерические бедствия:
- Кредитов Прайма, Белла или Биддлов изобилие
- Я предпочту сатирам, эпопеям и идиллиям;
- И в прозе жалких две строки от члена комитета
- Ценнее, чем четырнадцать отменного сонета:
- За счет да хоть бы Гебы мне нет. увы, резона
- Принять к оплате вексель от музы с Геликона;
- И я не дам — меня сего печалит демонстрация! —
- Отсрочки больше, чем три дня, моли меня три Грации:
- Что музыка мне сфер, когда душа полна желанием
- Упиться новых долларов приманчивым шуршанием?
- Как ни терзай Цецилия божественную лиру,
- Всех нот ее приятнее мои банкноты миру![69]
Что было абсолютной правдой, поскольку Биддл оказался одаренным финансистом, и он знал, что нужно его стране: единая валюта, которая будет иметь хождение по всей Америке. Доллары Банка США были безупречны и могли быть обменены на золото и серебро по первому требованию в любом из двадцати девяти отделений. В числе клиентов Банка, разумеется, было и правительство: он оперировал государственными доходами от продажи земли и импортных пошлин, и, поскольку они часто выплачивались в банкнотах штатов, Биддл также имел удобную возможность осуществлять надзор и за банками штатов, незамедлительно предъявляя им их банкноты для обмена. Если они были несостоятельны или обременены долгами, это быстро выяснялось, и выжившие приучались вести свои дела осторожно и благоразумно, поддерживая достаточно большие резервы золота и серебра, более тщательно отслеживая судьбу своих займов, печатая меньше денег лишь для самых надежных клиентов. В попытках свести финансы страны к одной прозрачной системе ему, похоже, не приходило в голову, что кто-то может желать чего-то другого. Он не обращал внимания на тех, кто полагал, что Филадельфия и так забрала слишком много власти, и на тех, кто подозревал его в том, что он прибрал к рукам Филадельфию.
К концу 1820-х годов Биддл реализовал свое желание сделать доллар таким же здоровым и устойчивым, как любая другая валюта, обеспеченная золотом и серебром, почерпнутым, в конечном счете, из накоплений Старого Света, особенно Великобритании. Недоразвитый характер страны открывал широкое поле для предпринимательской активности. Банкам штатов на местах было проще ухватиться за шансы, которые могли быть не видны из Филадельфии, но та удерживала их от излишнего энтузиазма. Могло показаться, что денежный вопрос решен.
Именно с этой легкомысленной самоуверенностью Биддл доверительно заявил совету директоров, что он мог бы разорить любой банк в стране, если бы того пожелал. Мир больших финансов! Для сторонников генерала Эндрю Джексона, нового президента, такие тирады оказалось уже слишком. Именно это они с самого начала подозревали.
Было трудно сыскать во всей Америке человека более непохожего на Николаса Биддла, чем Эндрю Джексон. Они различались темпераментом, вкусами, возрастом, манерами, воспитанием и жизненным опытом, но, несмотря на все это, Биддл голосовал за Джексона в 1828 году. Четыре года спустя они оказались на ножах.
Родившийся в 1767 году в Каролине, Джексон происходил из семьи ольстерских бедных фермеров. У него не было больших перспектив, и ничто не помешало ему в семнадцать лет отправиться на запад через ущелье Камберленд в Теннесси. От скуки он занялся юриспруденцией и в итоге дослужился до таблички окружного прокурора. В Джексоне не существовало ничего умеренного: он был высок и даже привлекателен со своими голубыми глазами и высокими скулами, но особенно притягательной мужчины и женщины находили его манеру держаться. Вскоре его назначили судьей Верховного суда Теннесси — штата, где твердость ценилась выше особо точных юридических познаний. Он был проницателен и честен. В 1802 году, не располагая военным опытом, кроме умения метко стрелять, он был избран в чине генерал-майора командующим милицией штата.
В его стиле было рубить сплеча, крепко выпивать и вызывать на дуэли — чертов стиль, располагавший к нему поселенцев Теннесси. Пусть пионеры запада имели тенденцию придерживаться демократических взглядов, им импонировал этот прирожденный аристократ фронтира, смешавшиеся в нем физическая крепость, умение выпить и свобода от страха перед чем-либо. Рудиментарный сорт аристократии, сплачивавшейся рыцарским кодом своего класса, который в Теннесси был намного грубее, чем, скажем, в Виргинии. Джексон был даже более неотесанным, чем его кумир, Томас Джефферсон.
Подход Джексона к индейскому вопросу — яркий тому пример. Джефферсон признавал, что индейские нации не могли существовать отдельно, подобно островам. Они должны были цивилизоваться и стать частью республики; альтернатива — истребление. Джексон был с этим согласен, но делал упор на истребление. Жители пограничья не хотели ждать, пока цивилизация мало-помалу просочится в головы индейцев. В ходе Крикской войны 1813 года[70] Джексон продемонстрировал рвение покончить с их сопротивлением. В 1830 году, уже будучи президентом, он сгонит еще больше индейцев с их земель одним росчерком пера[71] и колоннами нерегулярных войск. На волне успеха во время Крикской войны его попросили заняться регулярной армией, которой требовался человек, способный добиться победы после серии военных неудач в войне 1812 года против британцев. Вашингтон спалили дотла, Гулль капитулировал[72]; успехов американцы добились только на море.
Джексон принял под начало южное командование и 8 января 1815 года разгромил англичан в битве при Новом Орлеане. Противник потерял командующего и 2000 человек убитыми и ранеными. Джексон потерял семерых, еще шестеро получили ранения. Это сражение было своего рода личной местью: у Джексона еще со времен Войны за независимость остался шрам, когда его, двенадцатилетнего храбреца, приложил прикладом английский офицер. Победа стала и общенациональным торжеством. Факт, что сражение состоялось через три недели после того, как дипломаты подписали в Париже мирный договор, делало его исход, если хотите, еще более приятным. Новый Орлеан стал убийственной шуткой за счет неприятеля.
После этого обращение к политике было неизбежным, и девять лет спустя, в 1824 году, Джексон сделал первый заход на президентство со столь близкими результатами двух претендентов, что исход выборов решило голосование выборщиков. На пути из Вашингтона в Теннесси Джексона озарило, что он стал жертвой «преступной сделки» между Генри Клеем, великим посредником в темных делах вигов, и новым президентом, Джоном Куинси Адамсом[73].
Когда он все понял, то пришел в ярость. Джексон знал толк в ненависти. Каждый год, казалось, он находил новые объекты для нее — англичан, Генри Клея, индейцев, город Вашингтон. После первой дуэли, которая состоялась, когда ему был двадцать один год, он отбросил милосердие в сторону и всегда стремился убить противника, а благодаря несчастливой беспорядочности своего брака он дрался на дуэли аж двадцать раз. Джексон привык противостоять трудностям и был обречен жить с мучительной физической болью. В 1806 году его ранило свинцовым шариком, который прошел радом с сердцем, занеся в рану клочки ткани и грязь, которые было невозможно достать; в итоге Джексон заработал абсцесс легкого. В 1813 году Джесси Херт Бентон дважды ранил его в левую руку, и одна из пуль задела кость; следующие шесть месяцев осколки выходили через кожу. В годы Крикской войны Джексон подхватил дизентерию и малярию, которые побудили его до конца жизни принимать каломель, хлористую ртуть, а также огромные количества лекарства под названием свинцовый сахар, которое он принимал внутрь, наружно и даже закапывал в глаза, когда начало слабеть зрение. У него выпали зубы, он откашливал мокроту, его мучила горячка, обмороки, боли в животе и мигрень.
Изрешеченный пулями, переполненный свинцом и получивший прозвище Старый Гикори[74] за прочность древесины этого дерева, Эндрю Джексон стал приверженцем звонкой монеты в силу инстинкта и опыта. Он восхищался золотом и серебром и проклинал бумажные деньги в любом виде. Он не боялся никого и ничего, за одним примечательным исключением. Через четыре года после политического поражения, в 1828 году, Джексон одержал убедительную победу на президентских выборах и именно тогда признался в преследовавшем его страхе, зароненном в результате знакомства с английской историей в юношеские годы. «Я считаю правильным быть до конца откровенным с вами, — писал он Николасу Биддлу прямо в Банк Соединенных Штатов. — Я люблю ваш банк не больше прочих. Но с тех пор, как прочел о пузыре компании Южных морей[75], я стал бояться банков».
МАРКС говорил, что, когда история повторяется, трагедия превращается в фарс, и так называемая война с банками, начавшаяся в 1832 году, является наглядным тому подтверждением. Это вновь должно было стать столкновением между Гамильтоном и Джефферсоном — городской финансист ведет пикировку с сельским мудрецом. Но получилась оперетта с картонными мечами, ухмыляющимся злодеем, словами президента «Клянусь Богом!» и ролями, исполненными заново сорок лет спустя.
Биддл с легкостью очаровывал, что иногда казалось людям проявлением неискренности. Джексон мог изображать приступы неистовой ярости, заставлявшие его жертв пристыженно спрашивать себя, не угробили ли они старика; существует предположение, что нападки Джексона на Биддла и Банк были чем-то вроде трюка. О присутствии заплатившей за спектакль публики никто не забывал. Во время последнего возвращения из Вашингтона в 1837 году Джексон раздал 150 полудолларовых монет детям, приговаривая их родителям: «Вот орел нашей страны. Пусть те, кто сейчас совсем мал. подрежут ему крылья, но научите их любить и защищать его». Чувства были неподдельны, именно это делало борьбу интересной.
Деньги в Америке вели себя неправильно. Филадельфия должна была об этом знать в первую очередь, поскольку сама взвалила на себя долг знать о стране все. Но даже иностранцы, которых город притягивал, как самое замечательное место в США, признавали, что тот совсем не похож на остальную Америку.
Страна вовсе не была уверенной в своих силах, цветущей или преуспевающей. Скорее, ее массово охватила смесь тревоги и надежды. Жизнь казалась суровой и неустроенной, велась в неистовом возбуждении и неотвязном страхе неудачи не только на отодвигающейся все дальше на запад границе. Это была страна — множество стран, — где на смену ясности Старого Света, сколь бы тесной и удушливой та ни была, пришли ослепительные до боли возможности и сумрачные перспективы поражения.
10. Беспокойные деньги
Источники беспокойства — Детекторы подделок — «Саквояжники» — Мошенники — Банкноты спекулятивных банков
Признавшись Биддлу в своем страхе перед банками, Джексон занял стратегически выгодную позицию. Он был избран без всякой связной программы, просто как генерал и человек, побивший англичан под Новым Орлеаном. Противники пытались повернуть это обстоятельство против него: рисовали Джексона военным вождем, который погубит страну, как Наполеон погубил Францию. Он безрассудно растопчет тщательно выстроенную систему сдержек и противовесов, ограничивавших главу исполнительной власти. Но другим он казался последним представителем революционного поколения в политике, и было не найти более подходящего человека, который укрепил бы основополагающие принципы республики. Джексон имел бешеную популярность. Огромная толпа следовала за ним к Капитолию на его инаугурацию в качестве президента и одобрительно загудела, когда он нарушил традицию и вежливо ей поклонился. Она сочла, что ее пригласили в Белый дом, где истоптала шелковую обивку мебели, на которую люди забирались, чтобы получше видеть, съела все приготовленное мороженое, перебила посуду и уплела золотыми ложками желе. В конечном счете ее пришлось выманивать обратно на лужайку дымящимися котлами горячего пунша: окна распахнули, чтобы помочь массе народа выбраться наружу. Сторонники Джексона сочли, что день прошел неплохо. Впоследствии при Джексоне Белый дом был открыт для всех желающих: «От вице-президента до пьяного копателя канав в грязном плаще в красную клетку, — как заметил один очевидец. — Это зрелище поражает своей демократичностью, но, по правде сказать, она вызывает у меня отвращение».
Новый президент оказался на политическом минном поле. Нация была разобщена как, пожалуй, никогда за все время с момента обретения независимости. Рабовладельческий Юг желал свободы торговли, которая помогла бы ему увеличить экспорт хлопка. Север хотел протекционистских тарифов, которые защитили бы его промышленность. Запад хотел, чтобы федеральное правительство взяло на себя расходы по развитию инфраструктуры, вроде каналов и шоссе, строительство которых продвигал самый изворотливый в стране политик, Генри Клей. Духовный наследник Александра Гамильтона, в 1820-е годы Клей счел долгом правительства способствовать развитию Америки и уравнивать усилия отдельных граждан. Государство должно строить каналы, дороги и порты, делать все возможное для поощрения заселения запада и облагать пошлинами ввозимые товары, чтобы защитить нарождавшуюся американскую промышленность. Подобно методу печати Перкинса, политика Клея тоже получила название «американская система»: она была схожа с зачатками массового производства в том, что продвигала идею стандартизированных благ для всех. Подобно Гамильтону тридцатью годами ранее, Клей был уверен, что успех в погоне Америки за счастьем напрямую зависит от ее способности быть достаточно сильной и не допускать вмешательства европейских держав в дела Западного полушария. Надежды Джефферсона на конфедеративную по устройству республику — или даже союз нескольких — ныне безнадежно устарели. Миру предстояло подчиниться ненасытным промышленным державам, стремящимся обеспечить себе новые ресурсы и рынки сбыта.
Какой бы путь ни избрал Джексон, он рисковал оттолкнуть важную часть электората — например, рабочих в Пенсильвании или фермеров на юго-западе. Политические противники потирали руки и предрекали ему неминуемый провал.
Джексон же побил всех, следуя внутреннему инстинкту, который гармонировал с настроениями в обществе. Ухватившись за денежный вопрос, он отодвинул в сторону самые трудноразрешимые текущие проблемы и поставил себя во главе огромной части населения, у которой растущее число банков и первобытные пляски бумажных денег вызывали отторжение и тревогу. Объединил всех в борьбе с «плутократией».
Что касается самой плутократии — банкиров и Биддла, они долго не могли ничего понять. В конце концов, ворочать деньгами было их работой, и, возможно. именно в силу привычки каждый день иметь дело с деньгами, эти люди не видели, на чем сходились один за другим заезжие иностранцы: все твердили, что явной национальной особенностью американцев является одержимость деньгами. Даже такой вдумчивый приверженец американцев, как Алексис де Токвиль[76], счел эту одержимость «основой всего»: он решил, что деньги неизбежно становятся мерой существования в условиях демократии. Гамильтон, видимо, ломился в открытые двери, пытаясь сделать их мерилом амбиций американцев и принципом общественного порядка: кажется, доллар выполнял ту же функцию, что в Европе отводилась классу или вере. Доллар был их епископом, королем и судьей. То. что Мишель Шевалье[77] в 1839 году назвал «страстью к деньгам», по большей части, не было алчностью: оно просто отражало значимость доллара и центов для общества, у которого не имелось другого мерила.
Богатому, образованному и лично незаинтересованному Биддлу это было трудно понять. Денежный стандарт не был так прочно утвержден, как, вероятно, надеялся Биддл, но он был более значим для простых американцев, чем он, быть может, догадывался. Результатом стало глухое недовольство в обществе. Революционная волна в Европе привела к отправке на гильотину знати, обузданию власти духовенства и написанию или переписыванию либеральных конституций. В Америке она, наоборот, часто поднималась против денег, поскольку те являлись важнейшим институтом страны. Способ обращения денег для многих определял путь, которым следовала республика. Одни полагали «власть денег» величайшей угрозой американской свободе и благосостоянию, другие считали кредит даром свыше, который позволит им извлечь природные богатства страны; точкой отсчета американской мечты и американских страхов всегда оставались деньги. И когда американцы были встревожены, обеспокоены или чувствовали, что счастливый шанс ускользает из рук, они обращали подозрительный взор на доллар в поисках панацеи или объяснения.
Период с 1804 года, когда Перкинс изобрел неподделываемую банкноту, и до начала Гражданской войны в 1861-м стал для Америки временем нестабильности. Судьба банкноты Перкинса была одновременно симптомом и символом перекоса, который случился со страной в девятнадцатом столетии и сопровождался таким переселением народов, какого не видели со времен падения Рима.
В конечном счете неподделываемая банкнота Перкинса оказалась недостаточно защищенной от неумелого с ней обращения. Это не было его ошибкой — виноваты банки. Перкинс предполагал, что доллары будут выглядеть единообразно, за исключением названия выпустившего их банка. Это сильно облегчило бы выявление подделки. Его план отвергли сами банки, желавшие, чтобы их банкноты выглядели по-разному. Они составили величественную галерею Американы, и это подорвало их надежность. Тысячи разных банкнот печатали и эмитировали сотни банков в разных штатах. В таких условиях трудно знать наверняка, как должен выглядеть доллар, и, чем больший путь он проделывал от выпустившего банка, с тем большей опаской к нему относились люди, от которых трудно было ждать, что они смогут отличить подлинную банкноту или даже банк, не говоря о том, чтобы оценить его надежность.
Во время банковской блокировки в 1815 году, между смертью Первого и рождением Второго банка Соединенных Штатов, когда никто в стране не расплачивался золотом за свои бумажные деньги, один из книготорговцев Филадельфии опубликовал книгу под названием «История крошки-француза и его банкнот»:
«Кажется, этот малыш прибыл с Кубы с приблизительно восьмью тысячами долларов золотом, которые он из соображений безопасности разместил в одном из банков Саванны. Когда он пришел потребовать назад свои деньги, ему было сказано, что они не выплачивают золотом или серебром, и потому он должен взять сумму бумажными купюрами или не получит ничего. Будучи совершенным иностранцем он взял никчемные бумажки и начал свое путешествие на север. С каждым шагом его деньги ценились все меньше и меньше, и ныне он на пути в Бостон, пребывает в полной уверенности, что к тому времени, когда он туда доберется, он будет абсолютно нищим».
Два года спустя английский путешественник Генри Бредшоу Фирон[78] подошел к делу с противоположного конца. В Вашингтоне он отправился купить пару шерстяных перчаток стоимостью в полдоллара. Цена на перчатки была фиксированной, но покупатель и продавец стали торговаться из-за наценки, которую продавец хотел получить с различных купюр, обнаружившихся в бумажнике Фирона. Согласившись на долларовую купюру из Балтимора, владелец лавки был вынужден признать, что у него нет сдачи. Поэтому он взял ножницы и разрезал долларовую купюру пополам. «Уже привыкнув к накромсанным разными кусками испанским долларам», Фирон больше не удивлялся никаким манипуляциям американцев с их деньгами. Он лишь лаконично осведомился, «примет ли кто-нибудь у него половинку, и, получив утвердительный ответ, без колебаний ее взял».
Фирон обнаружил, что может приобрести в Питтсбурге банкноты Цинциннати с 5-процентной скидкой, а из Луисвилля — со скидкой в 7,5 %. «Это происходило не по причине недоверия к тем банкам — что один, что другой казались одинаково надежными, — объяснял он, — скидка росла по причине того, что Луисвилль был на 150 миль дальше. Тот же принцип действовал в отношении любого другого города, равно как и самого Питтсбурга. Если бы я правильно понял эту торговлю, когда только высадился в Америке, думаю, что я почти окупил бы все свои расходы, просто покупая банкноты того города, в который я собирался отправиться. Раздобыть их было нетрудно, поскольку у ростовщиков [брокеров] и в лотерейных киосках всегда был запас».
Но отыскать менял все равно стоило денег. Предприниматель из Род-Айленда по имени Эндрю Декстер учредил Бостонскую обменную контору, скупавшую с уценкой мало кому известные банкноты байков из глубинки, которые обычные торговцы не хотели принимать к оплате. Так что это было полезным учреждением, подобным обменному пункту. Декстер получал прибыль так: раскладывал по пачкам банкноты конкретных байков и отправлялся с ними в выпустивший банк, чтобы потребовать обмена на звонкую монету.[79] Эта операция называлась «бритьем», а такие «цирюльни» существовали в каждом городе, «состригая» определенную уценку с каждой купюры, выпущенной за пределами города. Среди неудобных последствий «бритья» и уценки денег — уценка с хороших банкнот, в зависимости от моды; приобретение банками собственных банкнот с уценкой; недоверие к незнакомцам, которых просили показать свои деньги.
В 1808 году Эндрю Декстер решил вывернуть свои обменные операции шиворот-навыворот и сосредоточился на Фермерском банке Глочестера, которому Род-Айленд выдал лицензию четыре года назад и который управлялся, как многие другие, ради удобства его директоров, внесших уставной капитал в 100 000 долларов. Они выпускали не реальные деньги, а долговые расписки. На основе обязательств выкупить их за звонкую монету банк начал выдавать свои банкноты заемщикам. Некоторые из числа крупнейших заемщиков были управляющими банком. К 1808 году банк выпустил в обращение бумажных банкнот на общую сумму $22 514 и $380,5 — в звонкой монете. Это было очень солидное учреждение.
Декстер пошел еще дальше. Он приобрел контрольный пакет акций у одиннадцати директоров глочестерского банка, разделив его активы между ними и первым делом вернув долговые обязательства, отданные на хранение в банк. Теперь он владел банком, и банк, естественно, ссужал ему деньги — столько, сколько он хотел, под обеспечение, которое ему было угодно выбрать, под любой желаемый процент и на любой срок. У него нельзя было «потребовать внести платеж до тех пор, пока он сам не считал это удобным, поскольку он был владельцем контрольного пакета и лучше всех знал, когда стоит платить».
Он привез печатные формы из Глочестера в Бостон и учредил здесь типографию по выпуску денег. После того как купюры подписывал кассир глочестерского банка, Декстер продавал их в Бостоне с уценкой или отправлял небольшими партиями паре банков в далеком Огайо, с которыми заключил соглашения. Возможно, он владел и ими. Главным для Эндрю Декстера было выпустить как можно больше денег, продать их за столько, за сколько получится, и помешать их предъявлению обратно в банк.
Для ускорения бизнеса Декстер указал кассиру банка, мистеру Колвеллу, квакеру, подписывать банкноты только ночью, чтобы никто не мог увидеть, сколько их на самом деле выпускается. Днем работа Колвелла заключалась в том, чтобы препятствовать обмену клиентами бумажных банкнот на звонкую монету: вместо того чтобы выдавать наличные, он расплачивался распиской к уплате в обменной конторе со сроком реализации через сорок дней. Если это не срабатывало, начинал неловко и медленно отсчитывать деньги. Часто он сбивался со счета и начинал все сначала: американская денежная система была очень сложна, требовалось взять, рассмотреть и сопоставить множество монет, прежде чем кассир мог включить их в свои подсчеты.
Банкноты обычно были мелкого достоинства, однодолларовые или около того: опыт показывал, что мелкие купюры гораздо реже приносили для обмена на золото, чем крупные. Это означало больше работы для Колвелла, и Декстер бомбардировал его призывами подписывать банкноты быстрее. «Я хотел бы, чтобы вы подписывали банкноты постоянно, — писал Декстер, — за исключением того, когда вы, разумеется, в банке Вы могли бы подписывать их не только ночью, но и днем, при условии того, что вы запретесь в своей личной комнате в часы, когда банк закрыт, чтобы не дать кому-нибудь узнать или заподозрить, чем вы заняты».
Мистер Колвелл подписывал и подписывал. «Я думаю, что сейчас будет лучше всего действовать так скрытно, как только возможно, преимущественно по вечерам. Думаю, я смогу закончить пятьдесят тысяч за неделю». Декстер восклицал в ответ, что рассчитывал на что-то около двадцати тысяч в день. «Мне жаль, что вы не подписываете больше банкнот, и я прошу вас подписать на следующей неделе, по меньшей мере, в два раза больше. Прошу вас работать днем и ночью».
Колвелл на жалованье в четыреста долларов в год работал день и ночь. Сосед видел, как его подменяли в банке, пока он шел спать, и как он возвращался назад иногда в четыре, а иногда и в два часа ночи. Декстер изображал себя перед Колвеллом общественным благодетелем, стремившимся обеспечить других разменными деньгами и победить группку лиц, «совершенно ничтожных по своим манерам и характеру», которые пытаются обратить свои банкноты Глочестера в звонкую монету и нажиться на общем горе.
Колвелл пахал всю зиму 1808–1809 годов. Декстер рассылал деньги направо и налево, обменивая банкноты Глочестера на банкноты банка в Питтсфилде, штат Массачусетс. К этому моменту о его банке уже пошла молва: «Недовольство и возмущение клиентов велики, — объяснял Колвелл. Наконец, его воля дрогнула. — Я думаю, что для банка не будет никакого ущерба, если он закроется на день-другой».
Когда стражи порядка начали свое расследование, Фермерский обменный банк Глочестера испарился. Колвелл и управляющий вывели из его кассы все, за исключением резерва наличности в размере 86 долларов 46 центов. Под этот резерв, говорят, банк выпустил бумажных денег на сумму в 800 000 долларов.
пока американцы превращались во все более неугомонных непосед, их деньги, казалось, парадоксальным образом становились все более местечковыми. Они путешествовали, но их встречи с деньгами были так же непредсказуемы, как путешествие через горы Папуа — Новой Гвинеи, где каждое племя говорит на своем языке. Вы и впрямь могли описать свое путешествие в деньгах, как это было в случае с письмом к сенатору от Южной Каролины Джону К. Кэлхуну, представлявшему собой журнал путешественника, недавно отправившегося из Виргинии на запад. Вот он:
«Выехал из Виргинии с виргинскими деньгами — достиг реки Огайо — обменял двадцатидолларовую банкноту на «пластыри» и трехдолларовую банкноту Банка Вест-Юнион — расплатился ею за завтрак — достиг Теннесси — получил стодолларовую банкноту Теннесси — вернулся в Кентукки — был вынужден здесь обменять банкноту Теннесси на 88 долларов в деньгах Кентукки — отправился домой из Кентукки. В Мэйсвилле хотел виргинских денег — не смог достать. В Вилинге обменял пятидесятидолларовую банкноту Кентукки на банкноты Северо-Западного банка Виргинии — добрался до Фредерикстауна — здесь не брали ни виргинских денег. ни денег Кентукки — заплатил пятидолларовой бумажкой Вилинга за завтрак и обед — получил на сдачу две однодолларовые банкноты какого-то пенсильванского банка, один доллар Балтимора и Железнодорожной компании Огайо и остаток в благих намерениях «пластырей» — в ста ярдах за дверями таверны отказались принимать любые банкноты за исключением денег Балтимора и Железнодорожной компании Огайо».
Тридцать лет спустя один из авторов писал в «Журнале торговли»: «Наши бумажные деньги в том виде, в каком они существуют сейчас, представляют собой невыносимое неудобство, недостойное гения такой амбициозной нации, как американская». Один банкир из Айовы вспоминал: «Царила полная неразбериха со всем тем хламом, что в те далекие дни плавал вокруг в качестве денег».
Именно это и оставалось — вылавливать нормальные деньги в мутной воде, среди обломков кораблекрушения разорившихся или находящихся в плохом состоянии банков, а также среди банков, которые никогда не существовали или планировали исчезнуть. Система Перкинса была бессильна помешать этому, и никто не мог придумать альтернативы. Монеты были еще более корявыми и трудноразличимыми, чем когда-либо, а Монетный двор почти ничего не выпускал.
Прямые подделки стали случаться реже в условиях «американской системы», как на то и надеялся Перкинс: на его банкнотах размещалось слишком много сложных элементов, чтобы их мог воспроизвести один человек: оттиски, полученные на станках для нанесения орнамента: изощренные виньеты, выгравированные искусными художниками: профессиональное тиснение букв. Но его доллары стали жертвами собственного успеха. Иезекииль Найлс[80], чей «Реджистер» в начале XIX века больше всего подходил в США на роль общенационального еженедельника, жаловался в 1818 году, что и двух дней не проходило без того, чтобы ему не подсовывали фальшивку. Он больше винил в этом банки, чем фальшивомонетчиков: именно банки породили искушение, перед которым было невозможно устоять.
Неожиданным результатом долларовой системы Перкинса и наплодившихся слабых банков, возникших для того, чтобы воспользоваться ее благами, был растущий рынок старых пуансонов и печатных пластин, произведенных по правильному стандарту, но оказавшихся избыточными. Было нетрудно сфабриковать модель банкноты, которая и в самом деле выглядела лучше, чем подделка, используя незаконные печатные формы, украденные у типографов или купленные на аукционах, где распродавалось имущество обанкротившихся банков. Подложные банкноты могли иметь название реально существовавшего банка, не утруждая себя задачей соответствия подлинным деньгам. Печатались и переделанные купюры с подлинных печатных форм, в которых меняли название банка с потерпевшего крах — как говорили, «лопнувшего» или поиздержавшегося — на процветающий: это легко сделать в условиях, когда много банков носят имя Фермерского банка «X» или Коммерческого банка «Y». Неудивительно, что даже в законопослушной Айове поддельные банкноты поставляла четверть народонаселения ее тюрем.
Подобно Найлсу, публика была склонна винить банки — Господь создал преступников, но банки создали для них благоприятные условия. И это было отнюдь не единственное их прегрешение. Пронырливые банкиры вроде Эндрю Декстера не способствовали росту доверия к ним населения. Банк из одного штата мог договориться запускать в обращение банкноты другого далекого банка в собственном округе и наоборот: местный банк принимал бы эти банкноты по номиналу, но отказывал в обмене на золото и серебро. В банке Дарьена в Джорджии всякий, кто хотел получить в обмен на свои банкноты звонкую монету, должен был лично явиться в кассу и поклясться в присутствии надлежащих свидетелей, что все они — банкнота за банкнотой — составляют его личную собственность. При этом в число свидетелей входили мировой судья, кассир банка и пять человек из числа правления. С каждой банкноты взималась пошлина в размере $1,375.
Кентукки, у которого в 1820-е годы были долги, с радостью бы сам печатал деньги. Конституция прямо это запрещала, и штат учредил корпорацию — Банк Содружества Кентукки, который владел основным капиталом. У банка не было резервов, но он выпускал бумажные купюры достоинством до 12,5 цента. Федеральный закон гласил, что никто не должен принимать эти банкноты к оплате, поскольку они незаконны. Закон Кентукки, напротив, был составлен таким образом, что грозил преследованием всякому, кто отказывался принимать банкноты и настаивал на золотом обеспечении. Если кто-то предъявлял иск об уплате должником долга и настаивал на звонкой монете, вступление судебного постановления в силу автоматически приостанавливалось на два года. Верховный суд признал законность этих банкнот.
в конце концов, существовали банки, управляемые людьми, судя по всему, не понимавшими, как хрупка нить доверия, на которой приходится завязывать настоящее банковское дело. Духовный вождь мормонов Джозеф Смит, например, в 1836 году учредил банк для удобства единоверцев в Китленде. штат Огайо. Банкноты, которые он выпускал, стремились ускользнуть за пределы мормонской общины, и иноверцы были раздосадованы тем, что Смит отказался обменивать их на звонкую монету. Когда банкир из Питтсбурга отправил банкноты назад для обмена.
президент банка раздраженно ответил, что выпускал банкноты для удобства своего народа, а конвертация в звонкую монету этой цели противоречит. Банк потерпел крах в 1837-м с находившимися в тот момент в обращении непогашенными 40 000 долларами — в тот год это было главной причиной ухудшения взаимоотношений мормонов с иноверцами из Иллинойса. Как только правоверные постигли механизм и переселились в свою землю обетованную[81], мормонские банки оказались очень добросовестными, а их доллары принимались повсеместно.
В вопросе о банкнотах общественное мнение разделилось. Разумеется, банку следовало свободно обменивать свои банкноты на золото и серебро, поскольку таково обещание. Долларовые купюры были долговыми обязательствами. Но для каждого поселенца его местный банк являлся особым случаем. Жители понимали, что чем больше банку придется погашать свои банкноты, тем меньше у него их останется для предоставления кредита. Эти банкноты могли путешествовать за многие мили, по мере чего их стоимость падала. Никто не был бы виноват в том, что там, далеко, какой-нибудь предприимчивый делец, тот же Декстер в его первой ипостаси, снимавший уценку в своей обменной конторе, начал бы скупать их банкноты по заниженному курсу. Со временем он скопил бы кругленькую сумму и одним прекрасным утром явился бы к дверям банка с саквояжем в руке, требуя золото и серебро по полной стоимости купюр, предъявленных к погашению. «Саквояжник» стал частью американской мифологии задолго до Гражданской войны, и его целью были не должности на Юге[82], а звонкая монета, являвшаяся достоянием каждого.
Поэтому, с какой стороны на это не посмотри, чужак мог означать лишь проблемы. Возможно, вы встретили его направляющимся к банку с саквояжем в руках. Возможно, видели, как он вытаскивает из своей пачки новенькую и абсолютно незнакомую купюру. Вероятно, он приехал, чтобы провернуть аферу или ограбить. Если бы люди использовали банкноты по назначению, в рамках того, для чего они были выпущены, дела шли бы медленно, но к всеобщей выгоде. Именно проблема погашения терзала предвоенный бумажный доллар. Финансово устойчивый банк обменяет свои банкноты на золото. Но как быть уверенным в том, что он устойчив, пока вы не попытались погасить его банкноты? Если бы каждый пытался погасить свои банкноты, действо, начавшееся как проверка, обернулось бы аутопсией, и банк исчерпал бы свои резервы. Если бы люди просто больше доверяли друг другу!
В мичиганском банке в Батл-Крик прибытие инспектора штата тревоги не вызвало: банк послал за сундуком с золотом, который он делил с другими окрестными банками. Но какой бы чужак неосторожно не заявлялся в Батл-Крик, весь город оказывался на запах. Мальчишки побежали предупредить кассира. Кассир сбежал, оставив банк временно на сохранении у Лу Джексона — первого темнокожего Батл-Крик, который имел обыкновение праздно ошиваться рядом со зданием. Лу Джексон бродил вокруг со щеткой, напевая и болтая с окружающими, а о деле из него нельзя было вытянуть ни слова.[83]
В КЛАССИЧЕСКОЙ американской саге о возможностях обычно опускаются связанные с ними тяготы жизни. Когда люди заряжены на то, чтобы ловить малейшее дуновение нового дела, они гудят, как телеграфные провода на легком ветру. Дурные вести распространялись так же быстро, как и добрые, слухи были палкой о двух концах, а постоянное ожидание удачи за углом обостряло чувство зависти, если она улыбалась — как это частенько происходит — кому-то другому. Легковерная, восприимчивая к газетным уткам, непоседливая и мобильная американская публика с легкостью поддавалась тревоге. Вокруг бумажных денег вращалась целая матрица страхов: по поводу аферистов, фальшивомонетчиков и приезжих: по поводу дергающей за ниточки где-то далеко плутократии и вероятности провала. Они были воплощениями глубинной тревоги, которая являлась частью американцев в стране, где прежде каждый называл другого соседом, а ныне — чужаком, и прямо в глаза, словно китайцы.[84] Они ничего не могли поделать, эта мысль начинала свербить в мозгу всякий раз, когда они видели кого-то не из их городка. Люди хотели сперва взглянуть на деньги чужака, прежде чем обслужить его в салуне, и называли неместные деньги «иностранной валютой».
Часть этого опыта боролась в общественном сознании с проповедью американского оптимизма, о котором трубили долларовые купюры и пни на месте лесов. Бесспорно, с 1820-х годов был достигнут значительный и видимый прогресс в процессе «цивилизации» страны: копались каналы, земля делилась на участки и продавалась, строились мосты, прорубались дороги, вырастали фабрики. Но огромное количество людей чувствовали себя чужими на этом празднике жизни. Нельзя сказать, что они не трудились изо всех сил или упускали подворачивавшиеся им возможности: они делали и то и другое, так что проблема была не в них.
Ныне нам постоянно твердят, как тяжела работа финансиста с деловыми встречами в 6 утра и вошедшей в поговорку скоростью сгорания на работе в результате недель, а то и лет постоянного стресса. Джексоновские демократы были менее впечатлительными людьми. Они видели лишь то, что некоторые становятся баснословно богатыми, не прикладывая особых усилий.
Для учреждения банка бизнесмен обращался в законодательное собрание штата за лицензией. Не было ни малейшей причины, по которой он мог ее получить: ни один простой труженик никогда не смог бы заставить местных законников принять какой-то билль лично для него, причем еще исключительно к своей единоличной выгоде, а значит, дело не обходилось без взяток.
С этого момента учредитель и его акционеры обладали привилегией, которой не было у остальных: лицензией на печать денег. Новые долларовые банкноты получали официальную санкцию с согласием администрации штата принимать их в качестве средства оплаты налогов. На этом можно было сделать состояние, а в противном случае, если деньги других пускали на ветер, нести весьма ограниченную ответственность.
Дело выглядело так, что одни законы установлены для банкиров и совсем другие — для остальных. Для фермеров, работающих ради собственного пропитания от рассвета до заката, витавшие в воздухе суммы казались бесстыдными, а принципы ведения банковского дела противоречили здравому смыслу. Вооруженный лицензией банкир мог печатать деньги по первому требованию, получая буквально из воздуха то, для обладания чем другие люди должны были ему платить. Однако начнем с того, что самих денег у него не было: это не что иное, как обещание, зафиксированное на бумаге, расплатиться по первому требованию золотом, — а золота-то у него и не было. Шотландский политэконом Адам Смит рассчитал, что банк может без особого риска выдать наличных денег в пять раз больше той суммы, которой он располагает в виде золота и серебра. Таким образом, банк обладал лишь двадцатью центами с каждого доллара, запущенного им в обращение. И то если банк был надежным и осмотрительным. Некоторые проводили более рискованную политику, некоторые ссужали наличности в тридцать раз больше, чем имели сами. Некоторые вообще ничего не имели за душой. И все они получали разрешения.
Пока банки множились, их прежние критики, казалось, были тихо вытеснены из политики. Джон Адамс, например, сомнений не испытывал: «Каждая долларовая банкнота, выпущенная сверх наличествующего в резерве золота и серебра, ничего не стоит и, следовательно, является надувательством кого-то». Этот «кто-то» был удобно расплывчатым понятием: Джефферсон лишь немного уточнил формулировку. Банки, говорил он, служат «для обогащения ловкачей за счет честной и трудолюбивой части нации». Если вы были честны и трудолюбивы, но не разбогатели, вы вполне могли быть тем самым «кто-то».
В таком случае, очевидно, республика шла не тем путем, которым следовало бы. Законы для банков принимались в пользу плутократии: больше они никому не были нужны; значит, плутократия подчинила себе процесс принятия законов. Это едва ли было открытием, так как в те времена всякий, казалось, обманывал ближнего. Строительство города означало для его учредителя наживу на вздутии цен на землю, которой он обладал. Люди продавали участки, хотя знали, что те бесплодны. Они расплачивались за товары фальшивками, продавали бесполезные патентованные лекарства, разбавленный виски, поддельные лотерейные билеты и краденых лошадей. Людям и доллару было трудно доверять. Граница уходила все дальше, города росли, их жители часто и помногу перемещались; не успевали узнать своих соседей, как на их место приезжали другие или они сами отправлялись в новое поселение и начинали знакомиться с еще большим количеством новых соседей. И не только на американском западе. «За восемь деятельных месяцев я встретила на запруженных народом улицах лишь два знакомых лица», — писала Лидия Мария Чайлд[85] в Нью-Йорке. Знаменитой стала история о двух джентльменах, живших многие годы в одном многоквартирном доме. Однажды они встретились в холле, где забирали свою почту, и внезапно поняли, что у них одна и та же фамилия: два брата, давно потерявших друг друга из виду жили на одной лестнице! В американской литературе опыт отчуждения мог принимать комический или трагический оборот. Эдгар Аллан По придал ему мрачный оттенок, а Герман Мелвилл подытожил в книге под названием «Мошенник», действие которой разворачивается на борту речного парохода.
К 1840-м годам каждое хоть чего-то стоящее поселение на западе имело доступ к реке, какой бы маленькой та ни была: говорили, что капитаны пароходов попытаются доплыть до города даже по обильной росе. Пассажиры в массе своей являлись совершенными незнакомцами, чьи мотивы было трудно понять. Даже читатель нигилистской комедии Мелвилла затруднится с ответом, является жертвой или обидчиком герой книги, жалующийся на всеобщее падение доверия и надежности, а связь с деньгами — бумажными долларами — лежит на поверхности. Во всех этих бумажных деньгах, с их радостной готовностью угождать, развлекать, отвлекать и обманывать толпу, чувствовалось нечто такое, что должно было напомнить Мелвиллу анонимность многих американских встреч. Ситуация вновь напоминала девственную глушь, неизведанную и непроходимую. Что такое цивилизация, казалось, спрашивал автор, если она заставляет престарелого, озадаченного, наполовину слепого человека тратить долгие часы на то, чтобы проверять свои бумажные доллары, пункт за пунктом, с помощью устаревшего детектора подделок?
Первый «вестник банкнот и детектор подделок» появился в 1826 году, быстро породив много подражателей. Детекторы продавали по подписке владельцам лавок, банкирам и торговцам, которым требовалось с первого взгляда определить, с какими деньгами они имеют дело. Еще слишком рано описывать Америку как культуру одноразового потребления, но «Детекторы» наравне с долларовыми бумажками имели поразительно короткий срок годности, печатались тиражом в сотню тысяч экземпляров на самой дешевой бумаге и выкидывались на помойку к выходным. (Теперь они являются большой редкостью.) «ВНИМАНИЕ! Поскольку в каждом номере издания будет появляться описание НОВЫХ ПОДДЕЛОК, этот экземпляр „ДЕТЕКТОРА“ станет бесполезным и собьет с толку человека, который начнет сверяться с его страницами после того, как выйдет новый номер издания», — предупреждал «Детектор банкнот Томпсона».
На бесстрастной бумаге грозящая народному преуспеянию опасность выглядела явной и непосредственной. «Детектор фальшивок и каталог банкнот» за 1839 год перечислял 54 обанкротившихся банка, доллары которых находились в обращении; 20 фиктивных банков и 43, чьи банкноты не имели ценности; 254 банка, банкноты которых массово подделывались и переделывались; 1395 поддельных купюр достоинством от одного до пятисот долларов. «Детекторы» приводили описания миниатюр подлинных и поддельных купюр:
«Северный банк, Рокленд: наверху посередине женщина, сидящая на шаре и льющая из кубка воду для орла…
Ламберсман-банк, Олдтаун: 25, наверху посередине Санта-Клаус в санях, запряженных восемью оленями, летящими над крышей дома С правого края стадо коров, овец и свиней».
Оберегая владельцев магазинов от дорогостоящих ошибок, «Детекторы» держали всех в состоянии обостренной неуверенности, граничившей с истерией. Как выразился один из бостонских писателей: «"Детектор" подделок подобен мощному оптическому прибору. Он открывает вам сквозь мрак людского лицемерия неясные очертания картины величественной системы фальшивомонетничества, благодаря чему вы можете с полной надежностью узнать, что она почти столь же обширна, как и наша широко разветвленная банковская система, и может рассматриваться как эта самая система, отраженная в зеркале развращенных классов».
Это выражение — «с полной надежностью» — весьма удачное: единственное, что можно было знать наверняка, так это то, что ничто не является тем, чем кажется. Такова была окраска массового отношения к деньгам. Развращенные классы, кто бы ни скрывался под этим названием, прятались за зловещим зеркалом, своей одеждой и манерой говорить походя на остальных жителей страны, в которой снобизм был жив и здоров, но классовые различия сильно размыты. В точности такими же были и долларовые купюры: они благопристойно выглядели, даже будучи оттиснуты набором старых пуансонов: появлялись на публике, хрустящие и правдоподобные. В обществе анонимов они принадлежали коду «свой-чужой», который больше не работал так, как следует.
1840-е годы стали временем расцвета «Детекторов», но, в конечном счете, люди начали смотреть с подозрением и на них, поскольку их число множилось так же бойко и непредсказуемо, как и деньги, за которыми они надзирали. «Детектор» с большим тиражом являлся могущественным арбитром, способным «раздуть» или «сдуть» доверие к тому или иному банку. Деньги переходили из рук в руки. Газеты предупреждали о «детекторах»-шантажистах, публиковавшихся с единственной целью — вымогать деньги у надежных банков. «Детекторы» тратили целые страницы на то. чтобы изобличить рэкет своих конкурентов и клятвенно заверить в собственной неподкупности. Но в отношении их никто больше не мог быть уверен. Никто! Это и показал Мелвилл.
Америке предстояло оставаться жертвой своей системы эмиссии банкнот вплоть до Гражданской войны. Когда Уильям Фаулер, делец с Уолл-стрит, получил долговую расписку — вексель на 1000 долларов от оператора, который, по его словам, оказался в трудном положении, ему нанес визит «высокий долговязый человек с ядовитой улыбкой», предложивший купить ее за 5 % номинала.
Согласившись в итоге на 10 %. незнакомец отсчитал сто долларов десятками и пятерками, выпущенными банком Бентонвилла, штат Иллинойс. Фаулер возроптал при виде «подозрительно новеньких» банкнот, но его посетитель вытащил вчерашний «Бюллетень банкнот», в котором эти банкноты фигурировали с уценкой в 1 %. Фаулер смирился с потерей одного доллара, «и высокий долговязый человек и расписка исчезли в дверном проеме».
Фаулер показал банкноты другу, который имел дела с западными банками. Он изучал какое-то время виньетки банка Бентонвилла, а затем «с сомнением протяжно присвистнул» и предложил отправить купюры своему деловому партнеру в Чикаго, хотя и подозревал, что банк является «диким»[86], а его банкноты классифицировались как «короткохвостые» и «красные волки»[87]. Корреспондент из Чикаго написал в ответ: «Я наведался в Бентонвилл позавчера и обнаружил, что это маленькая деревушка в прерии, примерно в десяти милях от железной дороги, состоящая из трех домов и бакалейной лавки. Заднюю часть лавки занимал банк». Но банк исчез. «Я не увидел ни сейфа, ни каких-либо других свидетельств наличности и из этого заключил, что все активы находятся в карманах брюк президента и кассира банка».
Он предложил выкупить банкноты за 2 % номинальной стоимости, приложив к этому чек на 15 долларов в счет уплаты издержек. Вот вам и долговязый мужчина, и «Детектор фальшивок».
Бентонвилл был хорошей шуткой: всякий знал, что сенатор Томас Харт «Слиток» Бентон из Миссури — самый ярый в стране противник бумажных денег. Разумеется, человек из команды Джексона. Даже сленг банкиров действовал ему на нервы. «Именно со словечками "износившийся", "убитый", "ушедший навеки" приобрели свои лицензии все эти "красные волки", "дикие", "филины", "еноты" и "каирские" жульнические лавки, позорящие нашу страну». — заявил он в Сенате в 1842 году. Бумажные деньги были «омерзительным соединением ламповой сажи и ветоши».
В 1834 году Конгресс изменил соотношение между золотом и серебром, установленное Гамильтоном сорока тремя годами ранее. Прежнее соотношение недооценивало серебро в долларе, новое переоценивало. Бентон с упоением писал: «Золото хлынуло в страну по всем каналам торговли, старые сундуки расставались со своим содержимым, Монетный двор был занят работой: и через несколько месяцев, как по волшебству, изгоняемая на протяжении тридцати лет из страны наличность растеклась по стране, внушив радость и оптимизм всем отраслям промышленности». Золотые монеты стали называть «мятными леденцами Бентона» или «пулями Бентона». На протяжении почти двенадцати лет оба металла находились в обращении, причем золото потихоньку вытесняло серебро, пока его не обнаружили в Калифорнии и Австралии, после чего золото так подешевело, что серебро в серебряном долларе стало стоить $1,03. Поэтому монеты начали переплавлять или вывозить из страны.
Слова сенатора Бентона были отмечены той особой энергией запада, которая подходила безумной скорости изменений и свободе фронтира выбирать собственные метафоры. «Дикий» банк представлял собой человека, который печатал деньги, а затем делал все, чтобы избежать погашения этих банкнот по номиналу в обмен на золото. Вбросив наличность, он исчезал, как врач-шарлатан или мнимый земельный агент, наживаясь на мечтах и тревоге лишенных корней людей. Иногда отсиживался в отдаленном и глухом месте, где найти его и предъявить к оплате банкноты смог бы только зверолов или индеец. Возможно, поэтому такой банк и называли «диким»[88]. Часто он менял штат. Штаты назначали банковских инспекторов для проверки золотых резервов банков. К 1850-м годам эти инспектора, подобно искателям сокровищ, были людьми особого склада, которые принуждали людей, обменивать бумажные банкноты на золото в таких местах, куда вели лишь одинокие горные тропы, и поэтому инспекторы имели железные нервы. Но банки, как любой другой бизнес, предпочитали сговор конкуренции. Отъявленные «дикие» обычно долго не держались в благоразумных, подобных Нью-Йорку штатах, с хорошо развитыми средствами сообщения, но зато кишели в новых штатах вроде Мичигана. «Изворотливость янки и напористость жителей запада» соединялись, чтобы уладить дела с инспекциями. Банки Южного Мичигана договорились собрать сообща 5000 долларов золотом, которые путешествовали из банка в банк перед приездом инспектора. Пока сундук день за днем катался между Маршаллом, Батл-Крик и Каламазу, вспоминал один старожил, «между ним и этими золотыми монетами, должно быть, возникла трогательная дружеская близость». Иногда там было не так уж много золотых монет: лишь тонкий слой поверх целого сундука битого стекла или гвоздей.
Банки Дикого Запада разводили целый бродячий зверинец из денег: «красных волков», «рысей», «короткохвостых», «синих акул», «синих тюленей». Когда детекторы заводили в тупик, американцы оставались со своими деньгами один на один. Они проверяли, похожи ли купюры на подлинные, затем щупали бумагу. Чем более изношенной и грязной выглядела купюра, тем с большей вероятностью она прежде была в обращении: в большом числе сопричастных таился элемент надежности. Затем ее смотрели на свет в поисках булавочных проколов, сделанных банковскими клерками, когда те скрепляли банкноты вместе: чем больше таких отверстий, тем лучше.
Один банкир из Айовы в 1850-х сортировал деньги по отдельным классам, причем самые сомнительные складывал на поднос с надписью «Разношерстные с запада», куда шли «сброд и обрезанные хвосты — все, напоминающее банкноты… короткохвостые… моксостомы… дикие кошки… полосатые тюлени». «Впредь, — шутливо возвещал в газетах в 1838 году один торговец из Айовы, — я предпочту иметь дело с сосунками, идиотами или бесхарактерными верзилами и, время от времени, со знакомыми видами конского каштана или кукурузных дробилок.[89] Я больше никогда не доверю себя или свою собственность всем этим бредовым зверькам, завезенным из-за гор или озер».
В 1860 году Александр Л. Стимпсон, пионер и курьер, рассказал историю о банке Марокко, осуществлявшем свои операции из бочки с картошкой.[90]
Курьерская служба Стимпсона предлагала местным торговцам и брокерам на Среднем Западе услугу погашения банкнот, принадлежавших частным лицам. Стимпсон вел дела филиала в Индианаполисе и руководил целой командой курьеров, которые выслеживали банки и предъявляли им банкноты для погашения.
Состоятельный брокер учредил в Индиане 20 «диких» банков. Он взял у агента по продаже недвижимости список «бумажных городов» — поселений, существовавших только в умах учредителей и, возможно, на черновых вариантах кадастровых планов, хранившихся в сумраке зданий администрации округов, и затем учредил в каждом из них по банку. Марокко был одним из этих городов.
В контору Стимпсона поступила 1000 долларов банка Марокко. Под рукой не оказалось ни одного сотрудника, и он лично отправился в офис аудитора штата в Индианаполисе выяснить, где находится город Марокко. Все что ему смогли сказать — это что город находится в округе Ньютон, в северо-западной части Индианы.
Стимпсон отправился в этом направлении, проехав, насколько возможно, по новым индианаполисской и лафайетской железным дорогам, добравшись до самого Лафайета на дилижансе. Здесь ему сказали ехать ренселерской дорогой через округ Джаспер. Стимпсон арендовал лошадь и добрался до Ренселера, где никто не слышал ни о каком Марокко. Он выбрал самую ровную дорогу, какую смог отыскать в прерии, и поскакал в округ Ньютон.
Когда начало смеркаться, он увидел перед собой пару хижин. Одна из них была кузницей, там Стимпсон и спросил, в какую сторону ехать в Марокко. Кузнец ответил:
— Вам не нужно никуда ехать, Вы в городе Марокко.
— В этом городе есть банк?
Кузнец удивился:
— Да, но почему вы спрашиваете?
— У меня есть одно дело к этому банку, — ответил Стимпсон, — и я хотел бы его найти.
После минутного колебания кузнец спросил:
— А какого рода у вас дело?
Стимпсон твердо ответил, что может говорить о нем только со служащими этого банка, если их отыщет.
— Хорошо, — ответил кузнец, — привяжите вашу божью тварь здесь в тени, и я схожу с вами в банк.
Стимпсон проследовал за ним ко второй хижине. Стоило ему войти, как кузнец объявил:
— Это банк Марокко, садитесь.
Курьер спросил, не он ли работает здесь кассиром.
— Не знаю, как они меня зовут, — ответил кузнец, — но я веду все дела, какие нужно.
Стимпсон сказал ему о 1000 долларов, которые он хотел бы получить золотом.
— Хорошо, — ответил кузнец, — но сейчас слишком поздно. Вам придется переночевать. Мы уладим все дела завтра.
У Стимпсона не было другого выбора. Он пустил пастись свою лошадь и поужинал в банке вместе с кузнецом, его женой и их четырьмя детьми. Кузнец объяснил, что у него нет помещения для «содержания таверны» и что обе кровати в доме заняты домочадцами. Сам он теплыми ночами спал прямо в прерии, а курьеру предложил одеяло и подушку.
— Это то, что нужно, — сказал Стимпсон.
Кузнец видел, что его беспокоит перспектива спать прямо в прерии с 1000 долларов в кармане, потому торжественно предложил:
— Если хотите, я могу поместить ваши деньги на ночь в банковское хранилище и выдам вам золото поутру.
Агент поблагодарил за предложение и протянул пачку банкнот.
Банкир отнес ее в угол комнаты и начал перекладывать в корзину картофель из бочки. Когда корзина наполнилась, он положил деньги в бочку и засыпал их сверху картошкой.
— Это хранилище легко открывается, — объяснил он, — но оно так же надежно, как любое из тех, что есть в Лафайете.
Оба хорошо выспались в прерии, и утром после обильного завтрака кузнец бодро произнес:
— А теперь мы откроем банк и приступим к делу.
Он извлек банкноты из картофельной бочки, пересчитал их на обеденном столе и явно обрадовался. Затем достал из бочки оставшийся картофель и вытащил мешок с надписью «пять тысяч долларов», из которого отсчитал 50 «двойных орлов»[91]. Он отдал золото Стимпсону, сложил банкноты обратно в мешок, вернул в бочку и вновь засыпал его овощами.
Агент поблагодарил его и предложил заплатить за еду и кров. Кузнец отказался.
— Вы — первый человек, отыскавший банк Марокко, — сказал он. — Если сохраните дорогу сюда в тайне, это будет стоить всего, что я сделал для вас.
Стимпсон согласился. Больше о банке никто никогда не слышал.
11. Убивая банк
Ликвидируя Банк — Скачка Луи Ремме
В разгар этого непростого периода генерал Джексон выдвинул свою кандидатуру на пост президента. В 1824 году нашлось много людей, которые отождествляли его с отказом иметь дело с бумажными деньгами и восторгались его решимостью постоять за себя. Но, когда его застарелые обиды обострились от поражения, отождествление стало полным. Джексона предал Генри Клей — «обманщик, лишивший народ его выбора». Люди, подобные Клею и Джону Куинси Адамсу, хотели превратить «наше правительство в бессердечную аристократию, с помощью которого предстояло сгонять, обманывать, облагать налогами и угнетать народ, чтобы избранные могли наживаться на грабеже многих». Американская система Клея была лишь прикрытием для раздачи синекур: еще больше расходов, еще больше налогов, еще больше долларов политикам — для траты на самих себя. Джексон, казалось, был готов что-то с этим делать.
Американцы, как говорил Токвилль, «никому ничего не должны и ни от кого ничего не ждут». Демократы, голосовавшие за Джексона в 1824, 1828 и 1832 годах, отнюдь не все были бедняками, но большинству из них недоставало той основной черты американского характера, в которую уверовал и которой восхищался мир. Им не хватало уверенности.
В том, что касалось Биддла, Джексон повел свою атаку на ровном месте. Биддл прекрасно вел дела Банка Соединенных Штатов и лично голосовал за Джексона. Новый президент не упомянул о Банке в своей инаугурационной речи и вместо этого дождался своего первого ежегодного послания Конгрессу, чтобы заявить, что «в силу Конституции, равно как и с точки зрения правовой практики, законность создания Банка справедливо подвергается сомнению огромной массой наших сограждан, и должно быть признано, что, в конечном счете, Банк не справился с задачей обеспечения надежного и единообразного денежного обращения».
Факты ни о чем подобном не свидетельствовали. Верховный суд признал конституционность Банка, а разные комитеты, которые расследовали претензии президента, заключили, что банкноты Биддла «на самом деле обеспечивают более единообразным платежным средством, нежели драгоценные металлы». Их курс по всей стране был одинаков. После бурного десятилетия экономического бума с последующей депрессией Банк властвовал над относительно устойчивой, растущей экономикой. Биддл был удивлен и даже задет словами Джексона. «Мое впечатление таково, — писал он другу, уверявшему его, что президент не питает к нему никакой личной злобы, — что это мнение целиком и полностью принадлежит ему, и что это следует трактовать как честное, хотя и ошибочное мнение того, кто хочет сделать как лучше».
Правда, Эндрю Джексона это не поколебало. Биддл распорядился распечатать и распространить за счет Банка доклады комитетов. Старый Гикори зловеще заметил по этому поводу: «Это, без сомнения, замышлялось в качестве первого выстрела: но он не заставит меня дрогнуть». В ожидании предстоящих в 1832 году выборов вопрос о продлении лицензии Банка, истекавшей лишь в 1836-м, внезапно и неожиданно вышел на первый план, когда виги под началом Генри Клея провели через Конгресс закон о продлении лицензии Банка США.
Замысел Клея состоял в том, чтобы загнать президента в тупик. Если бы Джексон одобрил закон, он потерял бы поддержку своей демократической шушеры. Если же он наложил бы на него вето вопреки воле народных избранников в Палате представителей и Сенате, то изобличил бы себя как деспотичного демагога. Президент не был абсолютным монархом, который мог поступать как ему заблагорассудится, апеллируя к мистической общности с народом и при этом попирая Конституцию. Респектабельная, сочувствующая вигам, квалифицированная часть нации была бы тем самым мобилизована, чтобы нанести ему поражение на президентских выборах. Клей думал, что поставил президенту капкан.
Джексон же просто ринулся напролом и наложил на закон вето. В своем пространном, гневном, бессвязном послании он противопоставил бедных, запад и демократию богатым, востоку и привилегированному меньшинству. Джексон был юристом, а не экономистом, и, если его послание с указанием причин наложения вето грешило ошибками и неточностями в оценке вклада Банка в процветание Америки, оно подкреплялось благородной заботой о принципах справедливости и равенства. Джексон был полон решимости сделать деньги республиканскими, доллар — символом свободы, а не податливой, подручной смазкой для колес промышленности и торговли. Сторонники Джексона славили его послание с обоснованием вето как вторую Декларацию независимости. Биддл, с другой стороны, увидел в этой речи «ярость пойманной пантеры, бросающейся на прутья своей клетки, манифест анархии». Джексон предупреждал, что Банк — это монополия в руках иностранцев. Да, Верховный суд признал ее конституционность, но он не являлся единственным арбитром республиканского правосудия. Система сдержек и противовесов давала исполнительной власти, то бишь президенту Джексону и Конгрессу равные права высказываться по конституционным вопросам. Более того, существовали все основания полагать, что Банк нарушил условия лицензии.
«Следует сожалеть о том, — подытоживал он, — что богатые и влиятельные слишком часто подчиняют действия правительства своим корыстным интересам. Неравенство в обществе всегда будет существовать и при самом справедливом правительстве. Посредством общественных институтов нельзя достичь равенства в том, что касается способностей, образования или благосостояния. Пользуясь сполна ниспосланным свыше и плодами большей предприимчивости, бережливости и добродетели, каждый человек в равной мере находится под защитой закона; но, когда законы пытаются прибавить к этим естественным и справедливым преимуществам искусственные различия, даровать титулы, вознаграждения и особые привилегии, чтобы сделать богатого еще богаче, а сильного — более могущественным, рядовые члены общества: фермеры, мастеровые и рабочие, у которых нет ни времени, ни средств для закрепления таких благ за собой, — имеют законное право жаловаться на несправедливость их правительства. В политике нет необходимых зол. Зло рождается, когда возникают злоупотребления. Если политика правительства сведется к равной защите своих граждан, и, подобно тому, как Небеса посылают дождь, оно ниспошлет свои милости одинаково на сильных и слабых, на богатых и бедных, это станет абсолютным благом».
Разумеется, в одном президент переступил черту: самоличной властью отвергнув закон, он действовал как народный трибун: претендовал на то, чтобы стоять выше Конгресса и Верховного суда. Но он был готов вынести это на суд народа.
Это были первые президентские выборы по вопросу о деньгах и единственные в истории США, судьба которых свелась к одному-единственному вопросу. В отличие от управляющих Первого банка США, Биддл не собирался допустить, чтобы его Банк был убит; его неустанную кампанию в пользу Банка восприняли в качестве политического шага.
Но перспектива предстоящего сражения дала сил и Джексону. Одна из пуль, которую в него всадил Джесси Бентон, медленно пройдя по руке, вышла под кожу в районе локтя и была успешно извлечена. Теперь, пусть еще мучимый застоем в легких и болью, Джексон выглядел на десять лет моложе. По пути в родной штат из Вашингтона он оплачивал свои счета золотой монетой, как бы говоря: «Видите, братья-сограждане, больше никаких бумажных денег, если я смогу свалить этого Николаса Биддла и его банк-монстр». Он победил подавляющим большинством голосов. Получал голоса в свою поддержку и в 1860 году, через пятнадцать лет после смерти.
Его план был прост: вывести из Банка все государственные вклады и распределить их между несколькими коммерческими банками. Штат Пенсильвания выдаст Банку Соединенных Штатов свою лицензию, но тот будет лишен национального статуса и отделений. Однако от этой схемы его отговаривали даже частные банки. Комитеты объявили Банк надежным и устойчивым в финансовом отношении. Собственный министр финансов Джексона отказался выводить государственные депозиты, и его пришлось убрать с дороги. Выбранный ему на смену человек колебался несколько месяцев. Джексон избавился и от него, отыскав в Роджере Б. Тэни того, кто исполнил требование президента. Препятствия все больше убеждали Джексона, что Банк США представляет угрозу «морали нации, свободе прессы и полноте избирательного права».
Николас Биддл был чрезвычайно подавлен яростью наступления Джексона. Подобно тому, как ограбленный на улице человек ставит после этого новые замки на дверях дома, уверенность Биддла поколебалась. Он даже предполагал, что Джексон хотел не просто лишить его национальной лицензии, а уничтожить Банк. Предполагалось, что Тэни будет изымать вклады постепенно, в деловом порядке; вместо этого он начал выгребать пригоршнями деньги из Банка Соединенных Штатов и кидать их в избранные банки штатов, так называемые «банки-любимчики». Биддл инициировал курс на масштабный секвестр, сокращая денежную массу и кредиты, поскольку «ничто, кроме страданий избирателей, не повлияет на Конгресс». Резкие диспропорции расширяющейся экономики приведут «к восстановлению денежного обращения и выдаче Банку новой лицензии». Биддл намеревался проделать то же, что ранее сделала война 1812 года: убедить Америку, что национальный банк имеет слишком большое значение, чтобы без него обойтись.
Он испытывал определенное удовлетворение при виде погружающейся в финансовый кризис страны. Думал, это станет серьезным доказательством того, что страна нуждается в центральном банке. Но джексоновские демократы восприняли происходящее как повод избавиться от него. Кризис ослабел, лишь когда Биддл смягчил свою политику, почувствовав, что финансовая состоятельность Банка вновь обеспечена. За это время он получил для Банка лицензию штата Пенсильвания, сохранявшую его в качестве общественного учреждения.
Однако изменение статуса негативно встретили в Филадельфии. В марте 1834 года пятидесятитысячная толпа собралась на площади Независимости, чтобы потребовать возвращения государственных депозитов. «Во всех действиях этого учреждения наблюдаются сдержанное достоинство, уравновешенность и защита интересов страны, что примечательно контрастирует со взвинченностью и свирепостью, которые, похоже, одолевают его преследователей», — писал один современник. Джексон давно практически обожествлялся своими наиболее пылкими сторонниками, уже судьбу Банка стали сравнивать с чашей, что была уготована Христу. На своем скорбном собрании акционеры полностью одобрили то, как им управляли, хотя подтвердили, что он «оказался подвергнут преследованию и поношению незаслуженному и несправедливому».
Политическая машина Джексона создала Демократическую партию. Его кумир, Джефферсон, не одобрил бы это, но понял бы противоречия, заложенные в самой демократии: подлинными деньгами можно считать лишь звонкую монету, золото и серебро, как это делал Джексон, одновременно стремясь уничтожить засилье частного учреждения-монополиста, задававшего цели и направления деятельности Америки. Ведь джексоновские демократы обещали звонкую монету, а взамен давали стране доступный кредит, в форме банкнот штатов разрушавший ту самую Америку, о которой они мечтали.
Еще никому не удалось найти объяснения этой иронии. Некоторые доказывали, что действиями Джексона руководил кухонный кабинет амбициозных бизнесменов, использовавших его ужас перед Банком Соединенных Штатов, чтобы разрушить оковы монетарной ответственности и положить начало тем самым изменениям, которые Джексон счел бы наиболее отвратительными: кредит, промышленность, железные дороги и коррупция. Некоторые полагают, что дело отдает заговором Нью-Йорка по захвату первенства у Филадельфии: такое тоже было вполне реально. Другие усматривают незавершенную революцию, предполагая, что Джексон намеревался обуздать банки штатов и дать Америке твердую валюту, которой желал Джефферсон. Но что действительно привлекало в Джексоне, так это его чуткость к общественным настроениям. Народ хотел звонкой монеты и меньше беспокойства — Джексон угодил его желанию, уничтожив монстра. Но, в конце концов, это были американцы, хотевшие равенства и справедливости вкупе с шансом на лучшую долю. Поэтому они получили доступный кредит из рук когорты меньших по размерам монстров, позволивший им разрушить границы старой Америки.
Пока Второй Банк Соединенных Штатов пребывал в предсмертной агонии, денег в Америке становилось все больше. После того как в Мексике началась революция, а китайцы стали брать опиум вместо серебра за свой чай и шелк, доля серебра в денежном обращении в США выросла. Результатом, как и ранее, стал земельный бум. В 1834 году было продано 4 658 000 акров государственных земель, в 1835-м — 12564 000, в 1836-м — 20074 000. Цены взлетели, но покрывавшие их деньги были фантастически эластичны. Суммы, собранные на земельном аукционе и выплаченные в государственную контору, регистрирующую земельные сделки, шли на депозит местного банка; если такового не существовало, он тут же возникал для приема денег, с новым набором печатных форм и сейфом. С пополнением резервов наличности, пусть и бумажной, банк печатал еще больше долларов. Спекулянты брали их в кредит. Спекулянты же останавливали торги на аукционе, предложив надбавку на всю землю, которую правительство было готово продать, предварительно договорившись с полными надежд поселенцами на перепродажу желаемых земель под низкий процент, — легко и просто. Эти первые покупатели, в теории, получали то, что хотели, по стартовой цене, а спекулянты продавали опоздавшим остатки по более выгодным для себя ценам. Все оставались в прибыли, за исключением федерального правительства, но территория заселялась.
Дешевая земля и доступный кредит образовали гипнотическую комбинацию: можно сомневаться в деньгах, но земля была настоящей, а цена на нее, казалось, будет расти с каждым месяцем. По крайней мере раскупленные земли росли в цене; и примечательно, что правительство продолжало продавать участки по $1,25 за акр. Дешевая земля, доступный кредит и цены на хлопок помогли рабовладению распространиться на юго-запад. Алабама, Флорида, Арканзас, Луизиана, Миссисипи и Теннесси почти в одночасье стали рабовладельческими штатами — как только плантаторы начали сколачивать капиталы на растущих ценах на хлопок.
Это было лишь разновидностью спекулятивного бума, который Джексон всегда ненавидел. Количество банков, которые он презирал и опасался, более чем удвоилось. Бурно росла инфляция, представлявшаяся ему зловещей махинацией плутократов: пожалуй, самый высокий показатель в американской истории. К 1833 году государственный долг был выплачен, и доходы казны стали накапливаться в государственных закромах. Джексон, который, разумеется, был против того, чтобы федеральное правительство сорило деньгами, и предпочитал возвращать их штатам, свободным тратить предоставленные средства по своему усмотрению (это называлось займом, но в реальности было подарком). Большинство штатов, в предвкушении, инициировали обширные программы заимствований и трат по американской системе.
К СЕРЕДИНЕ 1830-х годов воображаемый путешественник по американскому западу, изучающий мир из своего кресла, мог останавливаться в лучших отелях, путешествовать по самым удобным и современным путям сообщения, наслаждаться здоровым воздухом и приятным обществом в десятках городов в каждом штате. Вероятно, он удивленно поднял бы брови, взглянув на Канкаки-Сити в Иллинойсе: никто не захотел бы провести много времени в таком месте, но земельные участки здесь уходили за тысячи долларов, и город, видимо, обладал неким суровым шармом, который позднее будет отличать Чикаго. Форт Шелдон звучал более внушительно с его 124-мя городскими кварталами вдоль реки Мичиган. Он располагал живописной гаванью, вот-вот должно было открыться железнодорожное сообщение, безопасная навигация благодаря наличию маяка, а приезжающих размещали в превосходном отеле, строительство которого обошлось приблизительно в 40 000 долларов. Здесь также имелась лесопилка — кратчайший путь к богатству на западе. И венчали картину будущего процветания форта Шелдон не менее пятнадцати небольших домов.
А как насчет городка Хай-Блафс, учрежденного выходцем из французской Канады на восточном берету Каскаскии? «План был составлен искусным проектировщиком в Сент-Луисе и изображал город в живописнейшей местности, на возвышенности, плавно сбегавшей к реке. Число участков шло на многие сотни, на них красовались миленькие домики и видневшиеся то тут, то там изящные церквушки. На двух угловых участках были нарисованы монументальные здания банков в готическом стиле, а на других значились школы, колледжи, гостиницы и больницы. Рядом с рекой были нарисованы огромные склады, две мельницы и разные фактории. Снизу по реке, к пристани поднимался нарисованный тяжелогруженый пароход; на берегу виднелись лодки». Весь проспект «был с величайшим искусством литографирован на огромных листах плотной бумаги. Вооружившись достаточным числом копий, учредитель осенью отправился в города на Восточном побережье и возвратился ранней весной через Новый Орлеан и Миссисипи с огромными запасами всевозможных товаров, полученных им в обмен на участки его города и самым спешным образом обращенных в наличность. Его не оказалось дома, когда агенты торговых компаний с востока явились взглянуть на приобретенную городскую собственность»[92]. Вероятно, он был похож на Мерион-Сити, штат Миссури, — еще один детально прорисованный на карте город, участки в котором продавались на востоке по цене от 200 до 1000 долларов. Как оказалось, он торчал из воды лишь на шесть футов.
ИЗБАВИВШИСЬ от Банка Соединенных Штатов. Джексон обнаружил, что деньги все равно продолжают свой круговорот: из банков — в конторы по регистрации земельной собственности, затем обратно в банки. И так всякий раз, как если бы это было золото и серебро, а не бумага. Значительная часть доходов федерального правительства от продажи земель шла на депозиты западных банков, причем в виде не драгметаллов, а банкнот, выпущенных в обращение самими местными банками, затем ссужавшими их поселенцам на приобретение участков. Джексон беспокоился, что эти депозиты могли оказаться намного крупнее, чем вся звонкая монета на американском западе.
Накануне ухода со своего поста Джексон распорядился, чтобы государственные земли продавали только в обмен на золотую и серебряную монету, техническое название которых было «металлические деньги», а не на банкноты: среди жителей американского запада росло недовольство спекуляциями, поскольку драка за землю слишком высоко задирала цены, чтобы в ней могли участвовать местные фермеры. Это распоряжение назвали «Циркуляром о звонкой монете», и Джексон его обнародовал в июле 1836 года. Он надеялся на три вещи: заставить спекулянтов раскошелиться, дать местным банкам необходимую звонкую монету, которая понадобилась бы для оплаты процентных платежей государству, и ослабить горячку вокруг бумажных денег.
Прошел год, и случилось следующее: земельный бум потерпел крах, а банки потребовали уплаты выданных кредитов, чтобы найти деньги, которые сам Джексон хотел передать в распоряжение штатов. При этом Банк Англии, встревоженный размахом американских спекуляций, поднял свою процентную ставку.
Деньги потекли вспять. Золото и серебро высосали из деловых городов на Восточном побережье, где они были необходимы, и пустили на запад, где в них особенно не нуждались. Через два месяца после того, как Джексон покинул Белый дом, все до единого банки США приостановили погашение своих банкнот в обмен на золото и серебро. Невыплаченные ипотечные кредиты оставили их со многими акрами земли. Это ударило по британским инвесторам, несколько английских банков разорились, а один остряк написал горькую частушку об отношении американцев к долгам, положенную на мотив «Янки-дудл». В процессе перемещения звонкой монеты федеральное правительство само оказалось не в состоянии платить жалованье государственным служащим. Отель форта Шелдон вместе с тридцатью участками распродали за сумму, не превышавшую цены его картин и хрусталя.
В 1838 году кризис словно удалось преодолеть. Банки Нью-Йорка возобновили платежи золотом и серебром. За ними последовали банки Филадельфии. Банк Биддла, осуществляя свою деятельность на основе лицензии Пенсильвании, продолжал, как если бы он являлся общенациональным, помогать южным банкам снова начать работу. Его инвестиционный портфель раздулся от облигаций банков Юга и выпущенных властями штатов. Но оживление 1838 года оказалось затишьем перед бурей. Цены на облигации штатов обвалились. Банки использовали их как гарантийное обеспечение, и выплаты по ним все время откладывались. Банк Соединенных Штатов ощутил недостаток наличности. Принужденный по закону возобновить платежи в 1841 году, он столкнулся с массовым изъятием вкладов в серебре и счел за благо закрыться. Для сторонников Джексона это стало небольшим поводом для оптимизма, поскольку крах Банка подтверждал то, о чем все время говорил генерал.
Филадельфия потеряла больше, чем Банк. Америка потеряла больше, чем деньги, — она лишилась единственной надежной общенациональной валюты, обращавшейся в США на протяжении десятилетий. В Америке больше никогда не будет Центрального банка. Филадельфии больше никогда не удастся вернуть лидерство среди городов. Когда банки с Уолл-стрит подали сигнал банкам Филадельфии возобновить платежи, город братской любви навсегда лишился пальмы первенства. Морские перевозки тоже постепенно уходили к конкурентам. В 1825 году грузооборот морских перевозок через порт Нью-Йорка в пять раз превышал показатели Филадельфии, а его население, уже превысившее население Пенсильвании, в течение 1820-х годов росло в два раза быстрее. В 1848 году Нью-Йорк заполучил первые собственные трансатлантические рейсы пароходов компании «Кунард Лайн», связавшие его с Европой. Один из ливерпульских купцов открыл пароходное сообщение с Филадельфией, и пароход «Сити оф Глазго» под приветственные крики жителей города вошел в устье Делавэра, но в 1854 году исчез вместе с пятьюстами пассажирами. «Сити оф Питтсбург» той же пароходной компании сгорел в 1852-м, а «Сити оф Филадельфия» затонул, так и не достигнув Филадельфии. Не прошло и десяти лет, как компания перенесла свое представительство и операции в Нью-Йорк.[93]
Джексон удалился на покой в Эрмитаж. Биддл — в Андалусию. Преемник Джексона. Мартин ван Бюрен, сказал о Биддле: «Честно говоря, на него и его личную жизнь, насколько мне известно, так никто и не смог бросить тень». Но Биддл скончался в 1844 году обиженным человеком. Джексон умер почитаемый всеми в 1845-м. В 1924 году комитет Бюро по выпуску денежных знаков и ценных бумаг постановил поместить изображение Эндрю Джексона с довольно безумным выражением лица на обороте двадцатидолларовой купюры.
впрочем, кое-кому изредка удавалось утереть нос банкам. Один из таких людей — Луи Ремме. история которого стала легендой в первые годы существования штата Орегон.
Луи Ремме был франкоканадцем, переселившимся на американский запад в качестве погонщика скота. Примечательный факт: среди всех наций, страдавших от переизбытка населения и надеявшихся обрести свободу, французы, жившие не сильно свободнее и не менее скученно, чем. скажем, англичане, никогда не принимали приглашения иммигрировать в США. пока в 1848 году в Калифорнии не разразилась Золотая лихорадка. Тогда они составили, по меньшей мере, четверть из тех 100 000 или около того человек, бросившихся наперегонки на золотые прииски, и получили прозвище «кескиди», поскольку охотно прислушивались к разговорам старателей (надеясь, как и все остальные, первыми услышать об обнаружении новой золотой жилы), при первой же возможности дергая за рукав соседа, чтобы встревоженно спросить: «Qu’est се qu’il dit?» (Фр. «О чем он говорит?») Ремме, родившийся в Канаде под британским управлением, никогда не покидал свои края. В 1850-х годах он перегонял скот в округе Рог-Ривер штата Орегон и в Северной Калифорнии. В 1855 году завершил долгий зимний перегон скота на реке Сакраменто, продавая его по пути за золотую монету, и оказался в Сакраменто с $12 500 в кармане. Он оперативно положил деньги в банк «Адамс и Компани» — западную контору, которая, подобно Уэллс-Фарго, сочетала курьерские услуги с банковскими. Ремме получил сертификат о размещении вклада на указанную сумму и заселился в отель «Орлеан». Дело было в феврале, на улице лежал снег, а Ремме впервые за много недель выспался в мягкой постели и неспешно позавтракал в соседнем ресторане, хозяином которого был Мариус Бремонд.
Он сел на ближайший пароход до Сан-Франциско, где провел примерно неделю, чтобы развеяться после долгого, изнурительного путешествия в седле. Прибыл пароход «Орегон», привезя новости о банкротстве «Пейдж, Бэкон и Ко» — банка в Сент-Луисе с дочерним банком в Калифорнии. Ремме не думал, что эти новости как-то его затронут, пока на следующий день не увидел, что все банки в городе осаждают толпы народа. Луи не был чересчур подвержен тревоге, но все же решил вернуться в Сакраменто и забрать свое золото.
Он сел на ночной пароход и по прибытии прямиком направился к конторе «Адамс и Ко», тоже окруженной толпой. Кассир взглянул на его сертификат и посоветовал «найти Коэна», ликвидатора имущества обанкротившегося банка. Дела принимали дурной оборот. По причинам ныне не ясным публика увязывала между собой потерпевший крах банк в Сент-Луисе и фирму «Адамс и Ко». Очереди перед банком становились все длиннее; стоять снаружи в ожидании худшего и безо всякой надежды казалось бессмысленным занятием.
Ремме сразу подумал об отделении фирмы в Мэрисвилле, но, если новости докатились до Сакраменто, они, вероятно, достигли и Мэрисвилля, равно как любого другого города, где имелись филиалы. И тут он вспомнил, что у «Адамс и Ко» был офис в Портленде, штат Орегон, примерно в 500 милях к северу, и прикинул, что должно пройти несколько дней, прежде чем новости доберутся до Портленда. Если добраться туда первым, возможно, удастся вовремя получить свои деньги.
Почтовый пароход тихоокеанских линий «Колумбия» готовился отправиться из Сан-Франциско в Портленд, но плыть на нем было бессмысленно: новости о банкротстве докатились бы вместе с ним. Даже если бы благодаря какому-нибудь ловкому трюку ему удалось сойти на берег первым, бросившись к конторе «Адамс и Ко», кассир, зная, что пароход везет новости и инструкции из Сан-Франциско, был бы начеку. Пароход мог часами входить в док, и к утру новости разошлись бы по всему городу. Идея плыть пароходом безнадежна. Дилижансы туда не ходили. Если он хотел ухватиться за малейший шанс получить свои деньги назад, следовало добраться до Портленда в одиночку и прежде, чем пароход пристанет к берегу.
Не теряя ни секунды, Ремме пробрался сквозь толпу и едва успел до речной пристани, откуда как раз отходил колесный пароход до Найтс-Лендинга, что в сорока милях выше по реке. Там он уже был в знакомых краях. Купил лошадь и направился в Грант-Айленд, где обменял ее у судьи Дифендорфа на свежую. Теперь Ремме уже был близок к Мэрисвиллю. Неподалеку от города он еще раз сменил лошадь, но здесь у него друзей не было, и пришлось заплатить в придачу пять долларов. В десять вечера Ремме добрался до Ред-Блафф, где остановился на несколько минут, чтобы перекусить и дать отдохнуть скакуну. В двадцати милях севернее он наткнулся на бивачные огни: ковбои захотели узнать, что за дело его сюда привело. Он назвался пастухом и сказал, что гонится за конокрадом, поэтому ему нужна свежая лошадь.
Люди в лагере проявили сочувствие и дали ему новую лошадь, помогли перекинуть на нее его седло. Ремме поскакал дальше. На рассвете он позавтракал в Тауэр-Хауз на Клир-Крик. Удача ему улыбнулась: он добрался до гор Тринити днем, поскольку почва была каменистой, и ему нужно было тщательно выбирать себе дорогу. Но здесь начинались горы, и в каньонах носился ледяной горный ветер, поднимая пургу. Горные вершины преградили путь. Часто приходилось отклоняться на восток или на запад вдоль каньонов, проезжая несколько миль, чтобы продвинуться на милю севернее. Чуть дальше на восток местность должна была стать попроще, но 1855 год был годом стычек с индейцами, и Ремме, вероятно, рассудил, что держаться выше безопаснее. С наступлением сумерек он обменял свою уставшую лошадь на новую в Тринити-Крик и до наступления рассвета двинулся дальше, в Скотт-Вэлли, у подножия горы Шаста. Здесь он сделал привал и проспал до полудня.
Начиная с Каллехена дорога улучшилась: теперь Ремме снова мог скакать верхом. В Иреке, в курьерской конторе «Норсли и Брастоу Маунтин» он нашел свежую лошадь и четыре часа спустя пересек границу штата Орегон. В шахтерском городке Джексонвилл поел и отыскал место, где смог немного поспать. Две перемены лошадей позволили добраться до новой горной цепи, где его предупредили об опасности нападения индейцев. Близ Вулф-Крик он был обстрелян, но индейцы промахнулись, и Ремме пришпорил своего коня, проехал через узкий горный проход и оказался в безопасности в поселке Винчестер, где пообедал в таверне Джо Нотта и поспал еще несколько часов.
Опасности остались позади, но под зимними дождями дороги размокли: перевал Крик стал почти непроходим из-за грязи, дорогу было плохо видно ночью в дождь. Незадолго перед рассветом Ремме промчался галопом через Юджин-Сити по пути к ферме Джона Миллайона, примерно в десяти милях от города, где нашел свежую лошадь и смог наскоро позавтракать.
Шел пятый день гонки. Дождь прекратился, воздух был прозрачен и морозен: дальше к востоку высились снежные вершины Каскада. Ремме ехал день и ночь, позавтракал вместе с какими-то звероловами компании Гудзонова залива во французских прериях, близ нынешнего Салема. Он заплатил пять долларов и получил новую лошадь. В половине одиннадцатого добрался до города Орегон; в полдень на пароме переправился через Вилламет. Он добрался до Портленда на шестой день своего путешествия, в час дня. Оставив лошадь на конюшне Стьюарта, Ремме поинтересовался, прибыл ли пароход из Калифорнии. Ему сказали, что пароход ждут во второй половине того же дня, и показали дорогу до конторы «Адамс и Ко».






