Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века до наших дней Кандель Эрик
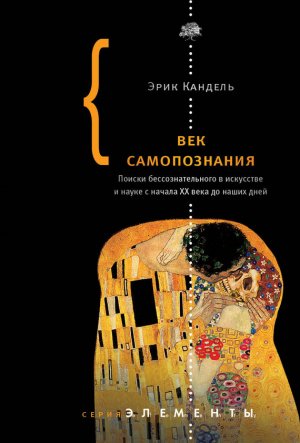
Рис. 31–2. Изображения лошадей в пещере Шове.
Рис. 31–3. Рисунок Нади.
Случай Нади интересным образом повлиял на изучение творчества древних людей. Ее блестяще нарисованные лошади напоминают европейскую наскальную живопись возраста около 30 тыс. лет, и исследователи не раз сравнивали их (рис. 31–2, 31–3). Более того, Надины рисунки заставили психолога Николаса Хамфри усомниться в сложившихся представлениях о психике авторов наскальной живописи.
Эрнст Гомбрих и другие историки искусства утверждали, что появление европейской наскальной живописи доказывает, что человеческая психика к тому времени вполне сформировалась. Гомбрих полагал, что у древних живописцев уже имелись речевые способности, позволявшие им использовать символы для общения. Описывая свою реакцию на открытые незадолго перед тем наскальные рисунки в пещерах Коске и Шове на юге Франции, Гомбрих процитировал латинское изречение: magnum miraculum est homo (“Великое чудо – человек”) 3. Он считал, что эти рисунки демонстрируют работу психики нового типа – современной, зрелой, утонченной, какой мы знаем ее сегодня.
Хамфри ставит эти выводы под сомнение. Он обращает внимание на поразительное сходство рисунков Нади и наскальных росписей. И для тех, и для других характерен яркий натурализм, проявляющийся во внимании к каждому животному в отдельности. Более того, Надя гораздо чаще рисовала животных, чем людей, а в пещере Шове нет ни одного изображения человека. Древнейшие известные изображения людей имеются в пещере Ласко: они примерно на 13 тыс. лет моложе и довольно грубы, схематичны. При этом Надины рисунки были творчеством трехлетнего ребенка, отнюдь не обладавшего исключительными способностями к использованию символов в общении. Оно давалось девочке с большим трудом, а языковые способности почти отсутствовали. Это наблюдение заставило Хамфри усомниться в сделанных ранее выводах о языковых способностях авторов наскальной живописи.
Хамфри предполагает, что 30 тыс. лет назад человеческая психика еще активно развивалась. Психическое развитие людей того времени могло напоминать развитие ребенка-аутиста с ограниченными способностями к речевому общению и эмпатии. Исходя из случая Нади, Хамфри высказывает мысль, что авторы наскальной живописи обладали психикой еще далеко не современной и не особенно полагались на символическое мышление. Наскальная живопись, по его мнению, могла быть не первым признаком новой ментальности, а скорее лебединой песней старой. Он видит в случае Нади свидетельство того, что для умения рисовать не требуется современной в эволюционном плане психики, и, более того, для столь исключительного умения рисовать наличие такой психики может быть даже помехой.
Хамфри пишет, что у людей, живших в Европе 30 тыс. лет назад, могло не быть языка, каким мы его знаем. Он мог появиться позднее и привести к утрате тех фантастических художественных способностей, которые демонстрировали авторы наскальной живописи и подобные которым можно было наблюдать у Нади. Когда сформировался язык, развитие искусства могло пойти более традиционным путем: “Возможно, утрата натуралистической живописи была ценой, которую пришлось заплатить за появление поэзии. У людей могла быть пещера Шове или эпос о Гильгамеше, но не могло быть того и другого вместе”[219].
Хотя эти рассуждения отчасти объясняют независимость изобразительного искусства от языка, они не особенно убедительны. Более того, некоторые исследователи, в том числе сам Хамфри, отмечают, что параллели между творчеством Нади и наскальной живописью могут быть случайными: “Сходство еще не означает тождества”[220]. Однако эти параллели свидетельствуют о том, что у нас нет оснований для однозначных выводов о психических способностях древних художников.
Способности Нади пропали так же быстро, как появились. Она лишилась их, когда начала делать успехи в других областях, таких как освоение языка. У некоторых других детей-аутистов, таких как Клодия, случай которой изучала Ута Фрит, художественный талант не пропал с годами. Клодия продолжала рисовать и после того, как научилась говорить, и стала признанной художницей. Портрет Уты Фрит (рис. 31–4) она нарисовала за 15 минут.
Рис. 31–4. Портрет Уты Фрит, нарисованный Клодией.
Стивен Уилтшир – пожалуй, самый знаменитый из художников, страдающих синдромом саванта – также не утратил талант, научившись говорить. Его способности привлекли внимание Хью Кэссона[221], президента Королевской академии художеств, который назвал Стивена “лучшим художником среди английских детей”[222]. Рассмотрев то или иное здание в течение нескольких минут, Стивен мог быстро, уверенно и точно его зарисовать. Точность его рисунков чуть ли не сверхъестественна, учитывая, что они нарисованы исключительно по памяти, без каких-либо записей и эскизов, на них редко можно найти пропущенную или лишнюю деталь. Кэссон отмечал в предисловии к книге с рисунками Стивена: “В отличие от большей части детей, которые обычно рисуют, исходя из воображения и общепринятых символов, Стивен Уилтшир рисует лишь то, что видит – ни больше, ни меньше”[223].
Сакса заинтриговал случай Стивена, чье дарование сочеталось с серьезными эмоциональными и интеллектуальными нарушениями: “Не было ли искусство проявлением его личности? Может ли художник творить без активно действующей личности, выступающей как целое, в котором познание окружающего осуществляется в единстве с переживанием?”[224] Сакс работал со Стивеном несколько лет, и ему становилось все яснее, что несмотря на исключительные навыки зрительного восприятия, у того не развилась полноценная способность к эмпатии. Сложилось впечатление, что два компонента изобразительного искусства, визуальный и эмпатический, у него в мозге разделены. В подтверждение этого тезиса Сакс цитирует Клода Моне:
Когда вы начинаете рисовать, старайтесь забыть, какой объект перед вами – дерево, поле, дом или что-то еще. Просто подумайте: здесь – небольшое преобладание голубого, там – розовая полоска, чуть в стороне – пятно желтого. Составив такое представление об объекте, рисуйте форму объекта в цвете, пока не перенесете на холст субъективное впечатление от увиденного[225].
Возможно, в творчестве Стивена и других художников-аутистов мало деконструкции именно потому, что в их восприятии, отмечал Сакс, не хватает предшествующей ей конструкции. Эта идея перекликается с выводами гарвардского психолога Говарда Гарднера, утверждающего, что к художественной деятельности могут приводить разные формы интеллекта, но не все они приводят к творчеству, то есть способности находить нечто совершенно новое[226]:
При работе с… детьми, больными аутизмом… мы часто видим, как на фоне средних или крайне заторможенных показателей в одних сферах одна из способностей человека сохраняется в уникальной чистоте. И снова тот факт, что такие люди существуют, позволяет нам наблюдать за интеллектом человека в относительной – и даже превосходной – изоляции[227].
Гарднер выделяет множество форм интеллекта (визуально-пространственный, музыкальный, лингвистический и так далее). Каждая автономна и по-своему постигает порядок и структуру, имеет собственные принципы работы и нейронные механизмы.
По мнению Сакса, синдром саванта убедительно свидетельствует о том, что наш интеллект представлен множеством форм, потенциально независимых: “Саванты резко отличаются от нормальных людей, и даже не потому, что одаренность проявляется в раннем возрасте, а главным образом потому, что их удивительные способности возникают, минуя предварительные фазы развития”[228].
Возможно, самая интересная особенность савантов состоит именно в том, что их способности достигают пика почти сразу. Им будто не приходится развивать свои дарования. Рисунки Стивена были совершенно исключительны уже в семилетнем возрасте, хотя к 12 годам его личные и социальные качества в какой-то степени развились, его художественные способности остались почти неизменными. В каком-то смысле можно даже утверждать, что хотя саванты исключительно талантливы, они не становятся по-настоящему творческими личностями. Они не создают новых форм и не вырабатывают новых мировоззрений. Это подтверждает выводы Гарднера о множественности интеллекта и таланта.
Чем объясняются черты савантов, никому пока не удалось выяснить. Австралийский исследователь Тед Неттельбек полагает, что они возникают, когда мозг образует новые когнитивные модули того или иного рода, а затем соединяет их прямой связью, работающей независимо от основных механизмов обработки информации со знаниями, хранящимися в долговременной памяти. Ута Фрит считает, что таланты савантов возникают как непосредственный результат развития аутизма. Аллан Снайдер, директор Центра по изучению психики при Сиднейском университете, утверждает, что при аутизме ослаблен левополушарный контроль над творческим потенциалом правого полушария, ведь творческие достижения, по-видимому, нередко сопровождаются ослаблением торможения правополушарных процессов.
Снайдер разработал концепцию, объясняющую исключительные способности аутистов-савантов в искусстве, музыке, математике и других областях. Он утверждает, что у савантов облегчен доступ к информации, находящейся на нижних, ранних уровнях обработки, обычно остающейся вне досягаемости сознания. Этим, по мнению Снайдера, и обеспечивается характерный для савантов когнитивный стиль методичного перехода от частного к целому. Иногда такие способности получается искусственно усиливать и у здоровых людей, подавляя активность передней части височной доли левого полушария и освобождая соответствующую область правого полушария.
О чем это говорит? Проявляющаяся у аутистов-савантов и художников-дислектиков способность к преодолению затруднений во взаимодействиях с окружающим миром можно рассматривать как биологический эквивалент нашей способности к преодолению социальных и финансовых трудностей, которые нередко помогают амбициозным людям добиваться того, к чему в обычной ситуации они, возможно, и не стали бы стремиться. Но дислексия отличается от аутизма тем, что у дислектиков не нарушены ни эмпатия, ни модель психического состояния. Многие из них, напротив, отличаются глубиной чувств и не только талантливы, но и способны к самобытному творчеству, например великий художник Чак Клоуз, неспособный распознавать лица, но достигший высот за счет своей техники и внимания к эмоциям.
Мы знаем, что при некоторых формах сенсорной депривации у людей нередко появляется повышенная чувствительность к чему-либо иному. Один из примеров – осязание слепых, которым, в частности, гораздо легче научиться читать шрифт Брайля, чем зрячим. Повышенная чувствительность – результат не только усиленной мотивации, но и более обширного представления осязательных ощущений в мозге. У слепых нейронные сети, отвечающие за осязание, шире, и осязательные ощущения сопровождаются активацией больших областей мозга.
Еще один пример творческих способностей у людей, страдающих расстройствами мозга, описала Кей Редфилд Джеймисон, специалист по клинической психологии. Она детально исследовала связь между маниакально-депрессивным психозом и творчеством, впервые отмеченную немецким психиатром Эмилем Крепелином в 1921 году. Крепелин, первым из практикующих психиатров отделивший маниакально-депрессивный психоз от раннего слабоумия (которое впоследствии назвали шизофренией), полагал, что при данном расстройстве происходят изменения мыслительных процессов, “высвобождающие силы, обычно сдерживаемые торможением. В результате художественная деятельность… может получать некоторое дополнительное усиление”[229].
В книге “Задетые огнем” Джеймисон описывает случаи перекрывания художественного и маниакально-депрессивного темпераментов и обсуждает данные, свидетельствующие о том, что писатели и художники гораздо чаще страдают маниакально-депрессивным психозом (биполярным расстройством) и депрессией (униполярным расстройством), чем обычные люди. Интересно, что маниакально-депрессивным психозом страдали оба основателя экспрессионизма – Ван Гог и Мунк.
Джеймисон ссылается также на данные Нэнси Андреасен, изучавшей современных писателей и установившей, что у них в четыре раза чаще, чем у людей, не занимающихся творческой деятельностью, встречается маниакально-депрессивный психоз и в три раза чаще – депрессия. Схожее исследование провел Хагоп Акискал, проанализировавший данные о 20 европейских писателях, живописцах и скульпторах, удостоенных различных премий, и обнаруживший почти у двух третей склонность к маниакально-депрессивным явлениям и у большинства хотя бы один перенесенный случай тяжелой депрессии.
Кей Редфилд Джеймисон выяснила, что у людей, страдающих маниакально-депрессивным психозом, долгое время не наблюдается никаких симптомов и что при переходе от депрессивного к маниакальному состоянию они испытывают прилив сил и способность порождать идеи. Джеймисон утверждает, что принципиальное значение для творчества таких людей играют напряжение и переход от одного настроения к другому, а также средства самоподдержания и самодисциплины, обеспечиваемые периодами без симптомов. Такое же напряжение и переходы служат источником творческих сил не только для писателей, но и для художников.
В другой своей книге Джеймисон пишет:
Как творческое, так и маниакальное мышление отличаются живостью и способностью объединять идеи… Обе формы мышления по своей природе склонны к отклонениям, пониженной целеустремленности и частому блужданию или перескакиванию с одного из множества направлений на другое. Люди тысячи лет назад отмечали, что расплывчатые, разнообразные и резко сменяющиеся идеи характерны для маниакального мышления[230].
Джеймисон цитирует швейцарского психиатра Эйгена Блейлера:
Мышление человека, пребывающего в маниакальном состоянии, переменчиво. Обходными путями он перескакивает с одного предмета на другой… Поэтому его мысли легко идут бок о бок… Ускоренный поток мыслей и особенно отсутствие тормозящих факторов способствуют художественным занятиям, несмотря на то, что нечто ценное при этом создают лишь пациенты, страдающие очень мягкими формами расстройства и в целом располагающие талантами в данной области[231].
Джеймисон отмечает, что широта мысли, характерная для маниакальных состояний, может открывать человеку больше возможностей для выбора идей и расширять кругозор. Предполагается, что такие состояния повышают творческие возможности, увеличивая число выдаваемых идей и тем самым повышая вероятность, что из их обдумывания разовьется что-либо стоящее.
Рут Ричардс из Гарварда продолжила работу в этом направлении, проверив гипотезу о том, что генетическая предрасположенность к маниакально-депрессивному психозу может сопровождаться предрасположенностью к творчеству. Она изучила не страдавших маниакально-депрессивным психозом ближайших родственников многих пациентов и выяснила, что корреляция существует. Рут Ричардс предположила, что гены, связанные с повышенным риском развития этого расстройства, могут также повышать вероятность развития творческих способностей. Это не означает, что само расстройство создает предрасположенность к творчеству, но некоторые особенности, характерные для людей, страдающих этим расстройством, такие как повышенная возбудимость (энтузиазм и энергия), проявляются и при творчестве. Ричардс сравнивает эти компенсаторные преимущества с устойчивостью к малярии, свойственной здоровым носителям гена серповидно-клеточной анемии.
Вместе с тем Джеймисон подчеркивает, что большинство писателей, как и людей вообще, не страдает тяжелыми психическими расстройствами. Более того, многие люди, страдающие маниакально-депрессивным психозом, в том числе художники, обычно мало что могут делать, когда им особенно плохо.
Из всех этих интереснейших исследований видно, что мы пока в самом начале пути познания нейронных механизмов творчества и художественного мастерства. При этом перед нами открываются широкие возможности. В некотором смысле наши представления об этих механизмах можно сравнить с представлениями о механизмах зрительного восприятия до 50х годов XX века, когда Стивен Куффлер и его коллеги совершили прорыв в этом направлении, а также с представлениями об эмоциях, бытовавшими на рубеже XIX–XX веков. Но я, нейробиолог, на чьих глазах оба направления принесли богатые плоды, в начале своих занятий наукой изучавший нейронные основы памяти, казавшиеся многим биологам преждевременными и не сулящими успеха, с оптимизмом смотрю и на новые подходы к познанию механизмов творчества.
Мозг представляет собой творческий аппарат. Он ищет порядок в хаосе и неоднозначности и конструирует модели окружающего мира. Такой поиск лежит в основе работы художников и ученых. Эту мысль красноречиво выразил в 1937 году великий голландский художник Пит Мондриан:
Ибо бывают “созданные” законы, “открытые” законы, но бывают и законы-истины на все времена. Они более или менее скрыты в окружающей действительности и не подвержены изменениям. Не только наука, но и искусство показывает, что действительность, сначала непонятная, постепенно открывается нам через взаимоотношения, присущие вещам[232].
Появление художественных способностей у людей с повреждениями левого полушария мозга, существование аутистов-савантов и творчество художников-дислектиков дают нам ключи к разгадке некоторых процессов в мозге, вероятно, лежащих в основе таланта художника и творчества. Эти интересные и поучительные случаи, скорее всего, проливают свет лишь на некоторые из многих путей, ведущих к творчеству. Будем надеяться, что в ближайшие полвека биология психики сможет дать удовлетворительные ответы на основные вопросы в этой области.
Глава 32
Самопознание: новый диалог искусства и науки
Над входом в храм Аполлона в Дельфах было выбито: “Познай себя”. Начиная с Сократа и Платона, мыслители стремились разобраться в природе человека и найти законы, управляющие психикой и поведением людей. Веками эти поиски ограничивались рамками философии и психологии, нередко исключавшими эмпирический подход. В наши дни нейропсихологи пытаются перевести абстрактные вопросы о психике на эмпирический язык когнитивной психологии и нейробиологии.
Принцип, которым руководствуются эти ученые, состоит в том, что наша психика есть набор операций, выполняемых мозгом – поразительно сложным вычислительным устройством, конструирующим восприятие мира, концентрирующим наше внимание и управляющим нашими действиями. Одно из призваний этой новой науки состоит в том, чтобы дать нам более глубокое понимание самих себя, связав биологию психики с гуманитарными науками. В частности, это относится к пониманию реакций на произведения искусства и, может быть, творческой деятельности его авторов.
Но для диалога науки и искусства требуются особые условия. В Вене рубежа XIX–XX веков он стал возможен благодаря тому, что этот сравнительно небольшой город представлял собой среду, где ученые и художники могли легко обмениваться идеями. Кроме того, имелись общие интересы. Источниками этих интересов послужили медицина, психология, психоанализ и искусствоведение. В начале XX века начался диалог искусства и науки, а в 30х годах к нему присоединились специалисты по когнитивной психологии и гештальтпсихологии зрительного восприятия. Это позволило в начале XXI века применить к концепциям когнитивной психологии данные биологических исследований восприятия, эмоций, эмпатии и творчества.
Воздействие творчества экспрессионистов во многом определяется социальной системой мозга, которым наделила нас эволюция. В нем широко представлены воспринимаемые нами лица, руки, тела и движения, и его системы восприятия обеспечивают наши реакции, не только сознательные, но и бессознательные, на утрированные изображения людей. Кроме того, системы зеркальных нейронов, модели психического состояния и биологической модуляции эмоций и эмпатии обеспечивают наши немалые способности в области понимания мыслей и чувств других.
Важнейшее достижение Оскара Кокошки и Эгона Шиле состоит в изобретении способов воздействовать на бессознательные процессы посредством портретного искусства. Интуитивное понимание и изучение возможностей передачи эмоций и возбуждения эмпатии позволили этим художникам выработать новые выразительные и современные формы психологического портрета. Австрийские модернисты исключительно хорошо изучили принципы визуального конструирования мира. Густав Климт, интуитивно понимая возможности подразумеваемых и контурных линий и нисходящей обработки зрительной информации, создал одни из самых выразительных произведений современного искусства. Открытия модернистов в области бессознательных механизмов эмпатии, эоций и восприятия ставят этих мастеров в один ряд с классиками когнитивной психологии. Одновременно с Фрейдом они научились проникать за кулисы чужой психики, понимать ее, а также передавать это понимание зрителю.
Открытия, помогающие разобраться в природе психики, сделаны не только учеными, но также писателями, поэтами, философами, психологами и художниками. Каждая область творчества готовит особый вклад в наши представления о психике, и если мы пренебрежем любой из этих областей, наши представления окажутся неполны. Хотя объяснением бессознательных процессов занимались Фрейд и другие психологи, без открытий Шекспира или Бетховена или современников Фрейда Климта, Кокошки и Шиле мы не знали бы, какие ощущения вызывают некоторые из этих процессов.
Научный анализ позволяет нам двигаться в сторону большей объективности. Применительно к изобразительному искусству это достигается за счет описаний взгляда зрителя на тот или иной предмет не в терминах субъективных впечатлений, производимых предметом на чувства зрителя, а в терминах специфических реакций мозга. Искусство лучше всего понимать как экстракт чистых ощущений. Поэтому оно дает нам отличное и весьма желательное дополнение к науке о психике. Венская жизнь рубежа XIX–XX веков показывает, что одного подхода недостаточно для понимания динамики ощущений человека. Нам нужен третий путь, который позволит перебросить мосты объяснений через пропасть, разделяющую искусство и науку.
Нужда в таких мостах заставляет задуматься, как вообще возникла пропасть между искусством и наукой. Исайя Берлин, поддерживавший разделение наук на естественные и гуманитарные, находил истоки этого разделения у Джамбаттисты Вико – итальянского историка и философа, жившего в начале XVIII века. Тот утверждал, что мало общего между естественнонаучным изучением проверяемых истин и гуманитарными исследованиями человеческих проблем. Математические и физические науки используют особую логику, дающую массу возможностей для изучения и анализа “внешней природы”, но изучение поведения людей, по мнению Вико, требует совсем другого – познания внутренней “второй природы”.
Несмотря на успешное установление связей искусства с наукой в Вене на рубеже XIX–XX веков и в 30х годах, идея необходимости такого разделения оставалась актуальной и во второй половине XX века. Чарльз Перси Сноу, физик, ставший писателем, в своей Ридовской лекции “Две культуры” (1959) описал бездну взаимного непонимания и враждебности, разделяющую представителей естественных наук, изучающих Вселенную, и представителей гуманитарных наук, изучающих человеческий опыт.
Однако в следующие десятилетия пропасть между двумя культурами начала сужаться. В послесловии ко второму изданию лекции, озаглавленному “Две культуры и повторный взгляд” (1963), Сноу обосновывает возможность третьей культуры, которая обеспечила бы диалог между естественниками и гуманитариями:
И все же, если повезет, мы можем дать значительной части наших лучших умов образование, которое сделает их в какой-то степени сведущими в вопросе творческой составляющей и искусств, и наук, а также в отношении вклада прикладных естественных наук в облегчение страданий людей и нашей ответственности за это, которую, если обратить на нее внимание, уже нельзя отрицать[233].
Тридцать лет спустя Джон Брокман развил идею Сноу в очерке “Третья культура: по ту сторону естественнонаучной революции”. Брокман подчеркнул, что самый эффективный способ навести мосты состоит в том, чтобы поощрять ученых-естественников рассказывать о науке на языке, понятном любому образованному читателю.
Существует и более смелый подход. Он основан на убеждении в единстве природы, которое историк науки Джеральд Холтон из Гарварда назвал ионическим очарованием. Это убеждение сформулировал еще Фалес Милетский (конец VII – первая половина VI века до н. э.), традиционно считающийся основоположником древнегреческой философии. Глядя на синие воды Ионического моря, Фалес и его последователи размышляли о фундаментальных законах природы. Они пришли к представлению о том, что мир состоит из бесконечного числа состояний воды. Однако очевидно, как ограничены возможности применения этого радикального взгляда на природу к поведению людей. Исайя Берлин называл Фалесов подход к объединению познания ионическим заблуждением[234].
Как нам двигаться вперед, совмещая подходы Сноу и Брокмана с подходом Холтона, к общим концепциям и осмысленному диалогу дисциплин? Полезно рассмотреть предпринятые ранее успешные попытки наведения мостов и выяснить, с чем связан их успех, как много времени они потребовали и насколько полно осуществились.
Всю историю науки вполне можно рассматривать как историю попыток объединения знаний. Пожалуй, самые зрелые попытки связаны с объединением важнейших природных сил: механических, гравитационных, электрических, магнитных, а с недавних пор и ядерных. На эти попытки объединения, цель которых, впрочем, еще не вполне достигнута, у ученых ушло три столетия. Законы гравитации сформулировал Исаак Ньютон в книге “Математические начала натуральной философии” (1687). Ньютон доказал, что феномен гравитации проявляется и в силе, притягивающей яблоко к земле, и в силах, определяющих движение Луны вокруг Земли и Земли вокруг Солнца. В 1820 году датский физик Ханс Кристиан Эрстед открыл, что вокруг электрического тока возникает магнитное поле. В том же XIX веке англичанин Майкл Фарадей и шотландец Джеймс Клерк Максвелл существенно расширили эту область, установив, что электричество и магнетизм представляют собой проявления одного феномена – электромагнитных взаимодействий.
В 1967 году Стивен Вайнберг, Шелдон Глэшоу и Абдус Салам независимо открыли, что электромагнетизм и слабые взаимодействия в атомном ядре представляют собой разные проявления электрослабых взаимодействий. Вскоре Говард Джорджи и Шелдон Глэшоу разработали концепцию, которую они назвали “теорией великого объединения”, показав, что сильные ядерные взаимодействия можно объединить с электрослабыми. Однако при всей грандиозности этой теории объединение физических сил отнюдь не завершено. Чтобы приблизиться к осуществлению мечты о теории всего (окончательной теории по Вайнбергу), требуется объединить с остальными взаимодействиями гравитационные.
С начала XX века физики говорят на двух несовместимых языках. С 1905 года они пользуются эйнштейновским языком теории относительности – попытки объяснить устройство Вселенной с привлечением сил взаимодействия звезд и галактик и предполагающей единство пространства и времени. Примерно тогда же физики заговорили на языке квантовой механики – языке Бора, Гейзенберга, Планка и Шредингера, объяснявших устройство Вселенной, опираясь на атомы и субатомные частицы. Объединение этих двух языков остается важнейшей задачей физики и в XXI веке. Как пишет физик-теоретик Брайан Грин, в своих нынешних формулировках общая теория относительности и квантовая механика “не могут быть обе верны”[235].
Тем не менее мы знаем, что законы относительности и квантовые законы тесно связаны. События, происходящие в масштабе планет, неизбежно определяются событиями, происходящими в квантовом масштабе. Все глобальные явления неизбежно должны быть результатом совокупного действия всех квантовых эффектов. Точно так же наше восприятие, эмоции и мысли представляют собой результат активности мозга. В обоих случаях мы понимаем необходимость восходящей причинно-следственной связи, но природа этой связи остается невыясненной.
Окончательная теория физики, если она будет сформулирована, должна разрешить эту проблему. Сама возможность такой теории заставляет задуматься над вопросами, важными для других естественных наук и для наведения мостов между естественными и гуманитарными науками. Можно ли объединить физику с химией? А с биологией? Может ли новая наука о психике стать отправной точкой для диалога с гуманитарными дисциплинами?
Один из примеров того, как объединние в одной области может положительно сказаться на другой, связан с объединением физики с химией и их обеих с биологией. В 30х годах XX века Лайнус Полинг начал работать над объединением с химией, используя квантовую механику для объяснения химических связей, и продемонстрировал, что в основе поведения атомов в ходе химических реакций лежат квантовые – то есть физические – законы. Отчасти под влиянием Полинга началось сближение и химии с биологией: его отправной точкой стало открытие в 1953 году Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком молекулярной структуры ДНК. Вооружившись этим знанием, молекулярная биология блистательно объединила биохимию, генетику, иммунологию, биологию развития, цитологию, онкологию, а позднее и молекулярную нейробиологию. Это объединение явилось прецедентом. Оно дает надежду, что рано или поздно в состав крупномасштабных теорий войдет и нейропсихология.
Один из подходов к объединению биологических и гуманитарных знаний, представляющий собой вполне реалистичное развитие идей Сноу и Брокмана, в последнее время отстаивает биолог Эдвард Осборн Уилсон, утверждающий, что такое объединение может быть основано на схождении, под которым он понимает совокупность диалогов разных дисциплин.
Уилсон доказывает, что получение новых знаний и научный прогресс обусловлены конфликтами и их разрешением. У каждой материнской дисциплины (например у психологии или науки о поведении) есть своя более фундаментальная антидисциплина (в данном случае нейробиология), оспаривающая точность методов и выводы материнской дисциплины. При этом антидисциплина обычно оказывается слишком узкой областью, чтобы найти парадигму, которая позволила бы ей занять место материнской дисциплины, будь то психология, этика или юриспруденция. Материнская дисциплина шире и глубже и не может быть сведена к антидисциплине. Она в конечном счете вбирает в себя антидисциплину и оказывается в выигрыше. Именно это и происходит сейчас, при слиянии когнитивной психологии (науки о психике) с нейробиологией (наукой о мозге), в результате чего формируется дочерняя дисциплина – новая наука о психике.
Эти отношения постоянно развиваются, в чем можно убедиться на примере искусства и нейробиологии. Искусство и искусствоведение составляют материнскую дисциплину, а психология и нейробиология выступают для нее антидисциплинами. Как теперь выяснилось, наше восприятие искусства и наслаждение им полностью обеспечиваются работой мозга, и известен целый ряд случаев, в которых открытия антидисциплины (нейробиологии) обогащают наши представления об искусстве. Мы также убедились, как много могут дать нейробиологии попытки объяснить “вклад зрителя”.
Однако наряду с перспективами, рисуемыми Холтоном и Уилсоном, следует помнить и о неумолимой истории. В конвергенции гуманитарных и естественных дисциплин стоит видеть не столько неизбежный итог развития единого языка науки и междисциплинарных концепций, сколько взаимодействие между замкнувшимися в себе областями знаний. В случае с искусством такому взаимодействию могут способствовать современные аналоги салона Берты Цуккеркандль – междисциплинарные университетские центры, помогающие свести вместе художников, искусствоведов, психологов и нейробиологов. Современная наука о человеческой психике возникла из общения специалистов по когнитивной психологии с нейробиологами, и современные представители этой новой дисциплины могут, в свою очередь, многое почерпнуть из общения с художниками и искусствоведами.
Стивен Джей Гулд писал о разрыве между естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами:
Мне хотелось бы, чтобы естественные и гуманитарные науки стали лучшими друзьями, признав свое глубокое родство и необходимость дружеских уз в общем стремлении к человеческому благу и новым достижениям, но по-прежнему отдельно друг от друга преследовали свои неизбежно разные цели и пользовались разными подходами, трудясь над совместными проектами и учась друг у друга. Пусть они будут двумя мушкетерами (один за двух и два за одного!), а не ступенями иерархии одного великого сходящегося целого[236].
В этой книге я попытался показать, как успеху диалога дисциплин во многом способствует их естественный союз (например нейропсихологии и науки о восприятии искусства), а также ограниченность целей такого диалога и его полезность для всех участников. Маловероятно, что в обозримом будущем произойдет полное объединение биологической науки о психике с эстетикой, но весьма вероятно, что развитие связей между различными аспектами искусства и наук о восприятии и эмоциях будет и далее обогащать оба направления. Рано или поздно такие связи вполне могут принести кумулятивный эффект.
Одной из главных черт венского модерна было осознанное устремление к объединению знаний. Медицина, психология и искусство Вены рубежа XIX–XX веков сближались в поиске истин, не лежащих на поверхности тела и психики, добывая новые знания и порождая новые формы искусства, которые навсегда изменили наше самовосприятие. Это сближение выявило наши инстинктивные импульсы – бессознательные эротические и агрессивные побуждения и эмоции – и обнаружило скрывающие их защитные структуры. Мечта об объединении знаний была свойственна и философам Венского кружка, и основателям психоанализа, и авторам журнала “Имаго”, основанном Фрейдом с целью преодоления разрыва между психоанализом и искусством.
Дальнейшие шаги в этом направлении привели к возникновению нейроэстетики. Эта дисциплина появилась из трудов Эрнста Криса и Эрнста Гомбриха, первыми применившими к искусству данные современной психологии. Нейроэстетика соединяет в себе биологию и психологию зрительного восприятия и использует достижения обеих дисциплин в искусствознании. Направление нейроэстетики, изучающее эмоции, идет еще дальше, пытаясь соединить с искусствознанием когнитивную психологию и биологию восприятия, эмоций и эмпатии.
Понимание того, что зрение – это творческий процесс, помогает разбираться во “вкладе зрителя” и начать продуктивный диалог науки с искусством. Кому и какую пользу он может принести?
Польза для новой науки о психике очевидна. Одна из высших целей этой науки состоит в том, чтобы разобраться в механизмах реакции мозга зрителя на произведения искусства и в механизмах сознательной и бессознательной обработки информации, связанной с восприятием, эмоциями и эмпатией. Но чем может быть полезен такой диалог художникам? Начиная с XV–XVI веков, когда возникла современная экспериментальная наука, ею интересовались многие художники, от Брунеллески, Мазаччо, Дюрера и Брейгеля до наших современников Ричарда Серра и Дэмьена Херста. Подобно тому, как Леонардо да Винчи использовал результаты своих анатомических изысканий для убедительного изображения людей, современные художники наверняка смогут использовать всевозможные данные о работе мозга, например для создания образов, вызывающих определенные эмоциональные реакции.
Есть все основания считать, что новые открытия в области биологии восприятия и эмоциональных и эмпатических реакций повлияют на художников будущего и что это влияние будет способствовать открытию новых путей художественного выражения. Более того, художники, интересовавшиеся иррациональными аспектами психики, например Рене Магритт, предпринимали подобные попытки. Магритт и другие сюрреалисты пользовались самоанализом. Но хотя художнику самоанализ полезен и даже необходим, в области познания работы мозга потенциал самоанализа ограничен. Теперь этот потенциал можно увеличить за счет научных данных о различных аспектах психики. Поэтому знания о механизмах зрительного восприятия и эмоциональных реакций будут полезны не только нейропсихологии, но и искусству.
Редукционистские подходы вроде тех, за которые ратовал Гомбрих, играют ключевую роль в науке, но многие опасаются, что редукционистский подход к человеческой мысли умалит восторг, который у нас вызывают ее возможности, или опошлит ее. Скорее всего, верно обратное. Знание того, что сердце – это мышечный насос, перегоняющий кровь по телу, нисколько не умалило нашего восхищения го работой. И все же в 1628 году, когда Уильям Гарвей описал свои опыты с сердечно-сосудистой системой, общество отнеслось к его редукционистским взглядам настолько враждебно, что это заставляло его бояться за свою жизнь и судьбу своего открытия:
Но об объеме и источнике крови, движущейся описанным образом, нам остается сказать нечто столь новое и неслыханное, что я не только страшусь зла, которое мне могут причинить немногие из зависти, но и дрожу при мысли о том, что все человечество может стать моим врагом, ведь обычай и привычка суть наша вторая натура. Корни посеянных некогда учений сидят глубоко, а почтения к старине не чужд ни один из смертных. Тем не менее, жребий брошен, и мне остается лишь уповать на любовь к истине и доброжелательность развитых умов[237].
Понимание биологических механизмов работы мозга ни в коей мере противоречит признанию богатства и сложности мысли. Напротив, концентрируясь на разных компонентах психических процессов, редукционистский подход расширяет наши представления о психике, выявляя неожиданные связи между биологическими и психологическими явлениями.
Такого рода редукционизм свойствен не только биологам: в неявном, а иногда в явном виде он востребован в гуманитарных сферах, в том числе в изобразительном искусстве. Художники-абстракционисты, например Василий Кандинский, Пит Мондриан и Казимир Малевич (а также поздний Уильям Тернер), были редукционистами-радикалами. В искусстве редукционизм отнюдь не опошляет наше восприятие цвета, света и перспективы, а позволяет по-новому увидеть каждый компонент. Более того, некоторые художники, например Марк Ротко и Эд Рейнхардт, сознательно ограничивали себя в средствах выражения, чтобы передать самое существенное.
В XXI веке у нас, пожалуй, впервые появилась возможность прямо связать Климта, Кокошку, Шиле с Крисом и Гомбрихом и разобраться, чем эксперименты художников могут быть полезны нейробиологам и что художники и зрители могут узнать от нейробиологов о природе творчества, неоднозначности в искусстве и реакциях зрителя. Здесь я попытался на материале венских экспрессионистов рубежа XIX–XX веков и достижений молодых научных дисциплин, изучающих биологические основы восприятия, эмоций, эмпатии, эстетики и творчества, показать, чем искусство и наука могут оказаться полезными друг другу. Приведенные примеры свидетельствуют об огромном интеллектуальном потенциале новой науки о человеческой психике – богатого источника знаний, которые, судя по всему, будут способствовать новому диалогу естественных и гуманитарных наук. Этот диалог должен помочь нам лучше разобраться в нейронных механизмах творческой работы и художников, и ученых, открыть новую историю человеческой мысли.
Благодарности
Работа над этой книгой началась ненамного позднее рубежа XIX–XX веков. Я родился в Вене 7 ноября 1929 года, через одиннадцать лет после поражения Габсбургской монархии в войне и распада империи. Хотя территория и политическое значение Австрии заметно уменьшились, столица, какой я ее запомнил, осталась одним из главных культурных центров мира.
Моя семья жила в 9м районе, на Северингассе, дом 8. Неподалеку от нашего дома находятся три музея, в которых я ни разу не побывал в детстве, но тематикой которых я впоследствии увлекся, так что в этой книге она играет важную роль. Первый, ближайший к дому – Йозефинум, Музей истории медицины, где я многое узнал о Рокитанском. Второй – нынешний Музей Зигмунда Фрейда на Берггассе, во времена моего детства – его квартира. Чуть дальше, в 4м районе, расположен Верхний Бельведер, где хранится богатейшая в мире коллекция работ Климта, Кокошки и Шиле.
Весной 1964 года, проработав год в Париже и вновь посетив Вену, я отправился в Галерею Мирского на Ньюбери-стрит в Бостоне и купил завладевшую моим воображением литографию Кокошки 1922 года, изображающую девочку-подростка по имени Труде. В то время у меня уже появился интерес к ранним портретам Кокошки: не только потому, что они напоминали мне о покинутой Вене, но и потому, что мои догадки об исключительных способностях Кокошки как портретиста подтвердил великий искусствовед Эрнст Гомбрих. Я встретился с Гомбрихом летом 1951 года в Гарварде, куда он ненадолго приехал, чтобы прочитать цикл лекций. Гомбрих сказал, что считает Кокошку величайшим портретистом нашего времени.
Портрет Труде положил начало моей скромной коллекции графики австрийских и немецких экспрессионистов, которую я собрал вместе с женой Дениз и которой мы очень дорожим. Мне вспоминаются слова Фрейда из его письма к венгерскому психоаналитику Шандору Ференци. Фрейд писал о своей страсти к собиранию древностей: она отражает “странные и тайные мечтания… о жизни совсем иного рода – неприспособленные к действительности желания позднего детства, которым никогда не суждено осуществиться”.
Двадцать лет спустя, в июне 1984 года, я получил за изучение молекулярных механизмов памяти степень почетного доктора медицинского факультета Венского университета. Декан Гельмут Грубер попросил меня выступить от лица тех, кому вручали в тот день почетные дипломы, и я решил рассказать о том, чем давно интересовался: об истории венской медицинской школы и особенно ее вкладе в развитие психоанализа.
В 2001 году, когда пришла моя очередь читать лекцию в Обществе практикующих специалистов (небольшой нью-йоркской научно-медицинской ассоциации), я рассказал коллегам о своем хобби – венских художниках-модернистах. Готовясь к лекции, я обратил внимание на связь венской медицинской школы и психоанализа с австрийскими модернистами. Это заставило меня еще сильнее поверить в психическую предопределенность – концепцию Фрейда, согласно которой в психической жизни ничто не происходит случайно, или, как я говорю друзьям, бессознательное никогда не лжет. Эта книга выросла из той лекции.
Я благодарен Фонду Клингенстайнов и Фонду Слоуна за гранты, которые позволили мне работать над этой книгой, и моим литературным агентам Катинке Мэтсон и Джону Брокману, которые помогли мне подготовить заявку. Я также обязан сотруднице издательства “Рэндом хаус” Кейт Медине за тот энтузиазм, с которым она отнеслась к этой книге, и за активную помощь в работе. Я признателен также подчиненным Кейт – Бенджамину Стейнбергу, Анне Питоняк и Салли-Энн Маккартин. Кроме того, я благодарен программе Колумбийского университета “Психика, мозг, поведение”, в рамках которой эта книга получила поддержку как одна из первых публикаций, посвященных поиску новых форм междисциплинарного обучения. Мои собственные исследования щедро спонсирует Медицинский институт им. Говарда Хьюза.
Мне помогали советами и замечаниями коллеги и друзья, больше меня сведущие в той или иной области. Первые пять глав удалось существенно улучшить благодаря вмешательству трех историков науки: директора Йозефинума Сони Хорн, сотрудницы Барнард-колледжа Колумбийского университета Деборы Коэн и Татьяны Буклияш, работавшей ранее в отделении истории и философии науки Кембриджского университета, а теперь сотруднице Института Лиггинса при Оклендском университете. (Именно от Татьяны я узнал, что Климт познакомился с биологией благодаря салону Берты Цуккеркандль.) Кроме того, Татьяна предоставила в мое распоряжение неопубликованную работу, посвященную венской медицинской школе.
Выдающийся биолог Эмиль Цуккеркандль из Стэнфордского университета, внук Берты и Эмиля Цуккеркандлей, любезно согласился прочитать посвященную им главу и пригласил меня побывать у него дома в Пало-Альто, где я увидел некоторые предметы из знаменитого салона, в том числе изумительный бюст Малера работы Родена. Марк Солмс, Анна Крис Вулф и Крис Тегель поделились со мной замечаниями к главам 4, 5 и 6, посвященным Фрейду и психоанализу. Исследовательница творчества Шницлера Лайла Файнберг дала мне немало ценных советов, как улучшить главу 7.
Мою работу над главами 8, 9 и 10, посвященными венским художникам-модернистам, направляли пять выдающихся специалистов, щедро делившихся со мной соображениями: Эмили Браун, Джейн Каллир, Клод Чернуски, лессандра Комини и Энн Темкин. Кроме того, много об интересе Климта к биологии я почерпнул из книги Эмили Браун, посвященной салону Берты Цуккеркандль (Braun 2007), а у Джейн Каллир (Kallir 1990, 1998) я позаимствовал мысль о том, что представления Климта о сексуальности, либеральные по меркам рубежа XIX–XX веков, все же были чисто мужским взглядом на эротическую жизнь женщин. От Клода Чернуски (Cernuschi 2002) я многое узнал о Кокошке. Кроме того, Чернуски и Комини обратили мое внимание на то, что еще у Дюрера есть выполненный пером и кистью автопортрет в обнаженном виде. Также от Алессандры Комини (Comini 1974, 1975) я узнал о молодости Шиле. Энн Темкин помогла мне научиться понимать этих трех художников в контексте европейского искусства XX века.
Мои представления о сотрудничестве Эрнста Криса и Эрнста Гомбриха стали гораздо полнее после обсуждения этого вопроса с Лу Роузом и чтения его замечательной книги (Rose 2011), с которой он позволил мне ознакомиться еще до публикации. Тони Мовшон несколько раз перечитал черновые варианты глав, посвященных зрительному восприятию. Замечаниями к главам о зрительном восприятии со мной также делились Томас Олбрайт, Митчелл Аш, Чарльз Гилберт, Маргарет Ливингстон, Дэниел Солзман и Дорис Цао.
Дэниел Солзман, Кевин Окснер, Элизабет Фелпс и Джозеф Леду помогли мне доработать главы об эмоциях. Ута Фрит, Крис Фрит и Рэй Долан перечитали главы об эмпатии, а Оливер Сакс, Джон Куниос, Марк Юнг-Биман и Нэнси Андреасен – главы о творчестве. Кэтрин Симпсон помогла существенно улучшить фрагмент о безобразном в искусстве.
С другими разделами мне помогли Дэвид Андерсон, Джоэл Брэслоу, Говард Гарднер, Клод Гез, Майкл Голдберг, Жаклин Готтлиб, Анируддха Дас, Джонатан Коэн, Лора Кан, Джон Кракауэр, Питер Ланг, Сильвия Лиске, Джордж Макари, Паскаль Мамасьян, Бетси Марри, Роберто Мичотто, Уолтер Мишель, Дэвид Олдс, Кевин Пелфри, Стивен Рейпорт, Ребекка Сакс, Ларри Суонсон, Джонатан Уоллис, Хоакин Фустер, Нина Холтон, Джеральд Холтон и Вольфрам Шульц.
Три выдающихся специалиста по нейронным механизмам восприятия и творчества – Антонью Дамазью, Семир Зеки и Вилейанур Рамачандран – прочитали последний черновик. Попытки навести мосты между биологией и искусством, которые предпринимали Стивен Куффлер, Дэвид Хьюбел, Торстен Визель, Семир Зеки и Маргарет Ливингстон и их ученики, заложили фундамент новой науки – нейроэстетики, существенный вклад в развитие которой внесли Жан-Пьер Шанже, Зеки, Рамачандран и Ливингстон. Эти ученые применяли свои обширные знания о нейронных механизмах зрительного восприятия для изучения представлений художественных произведений в мозге зрителя. Маргарет Ливингстон особенно подробно занималась вопросом, как художники интуитивно используют в творчестве особенности обработки зрительной информации о форме и цвете.
Мой друг и коллега Том Джессел прочитал мои черновики.
Я выражаю благодарность редактору и другу Блэр Бернс Поттер, работавшей над несколькими вариантами рукописи. Она сделала для моей предыдущей книги столько, что я думал: сделать больше просто невозможно. Но эта книга охватывает более широкий круг тем, и в нашем сотрудничестве открылось новое измерение.
Я также благодарен Джейн Невинс, главному редактору фонда Dana, которая помогла сделать текст, особенно его естественнонаучную часть, доступнее для широкого круга читателей; Джеффри Монтгомери за ознакомление с одним из ранних черновых вариантов и ценные замечания; Марии Палилео за упорядочивание множества фрагментов, составивших окончательный текст. Мне повезло, что на всех этапах работы над книгой мне помогала Соня Эпстайн, взявшая на себя заботу об иллюстрациях, проверявшая точность цитат и ссылок, добывавшая разрешения на воспроизведение изображений и цитат и участвовавшая в редактировании текста. Ближе к концу к нам присоединился талантливый молодой художник Крис Уилкокс.
Литература
Gombrich, E., and D. Eribon Looking for Answers: Conversations on Art and Science. New York: Harry N. Abrams, 1993.
Kandel, E. R. In Search of Memory: The Emergence of a New Science of Mind. New York: W. W. Norton, 2006. [Рус. пер.: Кандель Э. В поисках памяти: возникновение новой науки о человеческой психике. М.: АСТ: CORPUS, 2012.]
Schorske, C. E. Fin-de-Sicle Vienna: Politics and Culture. New York: Vintage Books, 1981.
Zuckerkandl, B. Ich erlebte 50 Jahre Weltgeschichte. Stockholm: Bermann-Fischer Verlag, 1939. Англ. пер.: Szeps, B. My Life and History. New York: Alfred A. Knopf, 1939.
Alexander, F. Sigmund Freud: 1856–1939 // Psychosomatic Medicine 2 (1) 1940: 68–73.
Ash, M. The Emergence of a Modern Scientific Infrastructure in the Late Habsburg Era. Center for Austrian Studies. University of Minnesota, 2010.
Belter, S., ed. Rethinking Vienna 1900. New York: Berghan Books, 2001.
Bilski, E. P., and E. Braun Ornament and Evolution: Gustav Klimt and Zuckerkandl / In: Gustav Klimt: The Ronald S. Lauder and Serge Sabarsky Collections. R. Price, ed. New York: Neue Galerie, Prestel Publishing, 2007.
Braun, E. The Salons of Modernism / In: Jewish Women and Their Salons: The Power of Conversation. Bilski, E. P., and E. Braun, eds. New Haven: The Jewish Museum and Yale University Press, 2005.
Broch, H. Hugo von Hofmannsthal and His Time: The European Imagination 1860–1920. M. P. Steinberg, editor & translator. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
Cernuschi, C. Re/Casting Kokoschka: Ethics and Aesthetics, Epistemology and Politics in Fin-de-Sicle Vienna. Plainsboro, NJ: Associated University Press, 2002.
Coen, D. R. Vienna in the Age of Uncertainty: Science, Liberalism, and Private Life. Chicago: University of Chicago Press, 2007.
Comini, A. Gustav Klimt. New York: George Braziller, 1975.
Darwin, C. On the Origin of Species by Means of Natural Selection. New York: Appleton-Century-Crofts, 1859.
Dolnick, E. The Clockwork Universe: Isaac Newton, the Royal Society, and the Birth of the Modern World. New York: HarperCollins, 2011.
Freud, S. Jokes and Their Relation to the Unconscious. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Intro. by P. Gay. New York: W. W. Norton, 1952.
Gay, P. The Freud Reader. New York. New York: W. W. Norton, 1989.
Gay, P. Schnitzler’s Century: The Making of Middle-Class Culture 1815–1914. New York: W. W. Norton, 2002.
Gombrich, E. H. Reflections on the History of Art. R. Woodfield, ed. Berkeley, CA: University of California Press, 1987.
Helmholtz, H. von Treatise on Physiological Optics (1910). Southall, J. P. C., editor & translator. New York: Dover, 1925.
Janik, A., and S. Toulmin Wittgenstein’s Vienna. New York: Simon and Schuster, 1973.
Johnston, W. A. The Austrian Mind: An Intellectual and Social History 1848–1938. Berkeley, CA: University of California Press, 1972.
Kallir, J. Who Paid the Piper: The Art of Patronage in Fin-de-Sicle Vienna. New York: Galerie St. Etienne, 2007.
Lauder, R. Discovering Klimt / In: Gustav Klimt: The Ronald S. Lauder and Serge Sabarsky Collection. R. Price, ed. New York: Neue Galerie, Prestel Publishing, 2007. P, 13.
Leiter, B. Just cause: Was Friedrich Nietzsche “the First Psychologist”? // Times Literary Supplement, March 4, 2011: 14–15.
Lillie, S., and G. Gaugusch Portrait of Adele Bloch-Bauer. New York: Neue Galerie, 1984.
Mach, E. Populr-wissenschaftliche Vorlesungen. Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1896.
Main, V. R. The naked truth // The Guardian, October 3, 2008.
McCag, W. O., Jr. A History of Habsburg Jews 1670–1918. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1992.
Musil, R. The Man Without Qualities. Vol. I: A Sort of Introduction and Pseudoreality Prevails (1951). New York: Alfred A. Knopf, 1995.
Nietzsche, F. Beyond Good and Evil (1886). New York: Prometheus Books, 1989.
Rentetzi, M. The city as a context for scientific activity: Creating the Mediziner Viertel in fin-de-si cle Vienna // Endeavor 28 (2004): 39–44.
Robinson, P. Freud and His Critics. Berkeley, CA: University of California Press, 1993.
Schopenhauer, A. Studies in Pessimism: A Series of Essays. London: Swan Sonnenschein, 1891.
Schorske, C. E. Fin-de-Sicle Vienna: Politics and Culture. New York: Vintage Books, 1981.
Springer, K. Philosophy and Science / In: Vienna 1900: Art, Life and Culture. C. Brandsttter, ed. New York: Vendome Press, 2006.
Taylor, A. J. P. The Habsburg Monarchy 1809–1918: A History of the Austrian Empire and Austria-Hungary. London: Hamish Hamilton, 1948.
Tgel, C. Und Gedenke die Wissenschaft auszubeulen: Sigmund Freuds Weg zur Psychoanalyse (Tbingen). 1994. Pp. 102–103.
Witcombe, C. The Roots of Modernism. What Is Art? What Is an Artist? (1997). См.: http://www.arthistory.sbc.edu/artartists/artartists.html.
Wittels, F. Freud’s scientific cradle // American Journal of Psychiatry 100 (1944): 521–528.
Zuckerkandl, B. Ich erlebte 50 Jahre Weltgeschichte. Stockholm: Bermann-Fischer Verlag, 1939. Англ. пер.: Szeps, B. My Life and History. New York: Alfred A. Knopf, 1939.
Zweig, S. The World of Yesterday: An Autobiography. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1943.
Ackerknecht, E. H. Medicine at the Paris Hospital 1794–1848. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1963.
Arika, N. Passions and Tempers: A History of the Humours. New York: Ecco/HarperCollins, 2007.
Bonner, T. N. American Doctors and German Universities. A Chapter in International Intellectual Relations 1870–1914. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1963.
Bonner, T. N. Becoming a Physician: Medical Education in Britain, France, Germany, and the United States, 1750–1945. New York: Oxford University Press, 1995.
Brandsttter, C., ed. Vienna 1900: Art, Life and Culture. New York: Vendome Press, 2006.
Buklijas, T. Dissection, Discipline and the Urban Transformation: Anatomy at the University of Vienna, 1845–1914. Ph.D. dissertation. University of Cambridge, 2008.
Hollingsworth, J. R., Mller, K. M., and E. J. Hollingsworth China: The end of the science superpowers // Nature 454 (2008): 412–413.
Janik, A., and S. Toulmin Wittgenstein’s Vienna. New York: Simon and Schuster, 1973.
Kandel, E. R. The Contribution of the Vienna School of Medicine to the Emergence of Modern Academic Medicine. 1984.
Kink, R. Geschichte der Universitt zu Wien / In: Puschmann, T. History of Medical Education. London: H. K. Lewis, 1966.
Lachmund, J. Making sense of sound: Auscultation and lung sound codification in nineteenth-century French and German medicine // Science, Technology, and Human Values 24 (4) 1999: 419–450.
Lesky, E. The Vienna Medical School of the 19th Century. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976.
Miciotto, R. J. Carl Rokitansky. Nineteenth-Century Pathology and Leader of the New Vienna School. Johns Hopkins University. Ph.D. dissertation. University of Michigan microfilm. 1979.
Morse, J. T. Life and Letters of Oliver Wendell Holmes. Two volumes. London: Riverside Press, 1896.
Nuland, S. B. The Doctors’ Plague: Germs, Childbed Fever, and the Strange Story of Ignac Semmelweis. New York: W. W. Norton, 2003.
Nuland, S. B. Bad medicine // New York Times Book Review, July 8, 2007.
Rokitansky, C. von Handbuch der pathologischen Anatomie. Braumller & Seidel, 1846.
Rokitansky, A. M. Ein Leben an der Schwelle. Lecture. 2004.
Rokitansky, O. Carl Freiherr von Rokitansky zum 200 Geburtstag: Eine Jubilumgedenkschrift // Wiener Klinische Wochenschrift 116 (23) 2004: 772–778.
Seebacher, F. Primum humanitas, alterum scientia: Die Wiener Medizinische Schule im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik. Dissertation, Universitt Klagenfurt, 2000.
Vogl, A. Six Hundred Years of Medicine in Vienna. A History of the Vienna School of Medicine // Bulletin of the New York Academy of Medicine 43 (4) 1967: 282–299.
Wagner-Jauregg, J. Lebens errinnerungen Wien. Springer-Verlag, 1950.
Warner, J. H. Against the Spirit of System: The French Impulse in Nineteenth-Century American Medicine. Princeton: Princeton University Press, 1998.
Weiner, D. B., and M. J. Sauter The city of Paris and the rise of clinical medicine // Osiris 2nd Series 18 (2003): 23–42.
Wunderlich, C. A. Wien und Paris: Ein Beitrag zur Geschichte und Beurtheilung der gegenwrtigen Heilkunde. Stuttgart: Verlag von Ebner & Seubert, 1841.
Braun, E. The Salons of Modernism / In: Jewish Women and Their Salons: The Power of Conversation. Bilski, E. D., and E. Braun, eds. New Haven: The Jewish Museum and Yale University Press, 2005.
Braun, E. Ornament and Evolution: Gustav Klimt and Berta Zuckerkandl / In: Gustav Klimt: The Ronald S. Lauder and Serge Sabarsky Collections. R. Price, ed. New York: Prestel Publishing, 2007.
Buklijas, T. The Politics of Fin-de-Sicle Anatomy / In: The Nationalization of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire. Ash, M. G., and J. Surman, eds. Basingstoke, UK: Palgrave MacMillan, 2012.
Janik, A., and S. Toulmin Wittgenstein’s Vienna. New York: Simon and Schuster, 1973.
Kallir, J. Who Paid the Piper: The Art of Patronage in Fin-de-Sicle Vienna. New York: Galerie St. Etienne, 2007.
Meysels, L. O. In meinem Salon ist sterreich: Berta Zuckerkandl und ihre Zeit. Vienna: A. Herold, 1985.
Schorske, C. E. Fin-de-Sicle Vienna: Politics and Culture (1961). New York: Vintage Books, 1981.
Seebacher, F. Freiheit der Naturforschung! Carl Freiherr von Rokitansky und die Wiener medizinische Schule: Wissenschaft und Politik im Konflikt. Vienna: Verlag der OAW, 2006.
Springer, K. Philosophy and Science / In: Vienna 1900: Art, Life and Culture. Brandsttter, C., ed. New York: Vendome Press, 2006.
Zuckerkandl, B. Ich erlebte 50 Jahre Weltgeschichte. Stockholm: Bermann-Fischer Verlag, 1939. Англ. пер.: Szeps, B. My Life and History. New York: Alfred A. Knopf, 1939.
Zweig, S. The World of Yesterday: An Autobiography. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1943.
Auden, W. H. In Memory of Sigmund Freud / In: Another Time. New York: Random House, 1940.
Breuer, J. Die Selbststeuerung der Athmung durch den Nervus vagus. Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch – naturwissenschaftliche Classe. Vol. II. Vienna: Abtheilung, 1868. S. 909–937.
Freud, S. Letter from Sigmund Freud to Eduard Silberstein, August 14, 1878 / In: The Letters of Sigmund Freud to Eduard Silberstein, 1871–1881. Boehlich, W., ed. Cambridge, MA: Belknap Press, 1878. Pp. 168–170.
Freud, S. The Structure of the Elements of the Nervous System. Lecture // Anals of Psychiatry 5 (3) 1884: 221.
Freud, S. On Aphasia: A Critical Study. Great Britain: Imago Publishing, 1953.
Freud, S. Studies on Hysteria. New York: Basic Books, 1957.
Freud, S. Jokes and Their Relation to the Unconscious. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. New York: W. W. Norton, 1952.
Freud, S. Five Lectures on Psycho-Analysis. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. New York: W. W. Norton, 1952.
Freud, S. An Autobiographical Study. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. New York: W. W. Norton, 1952.
Freud, S. The Question of Lay Analysis: Conversations with an Impartial Person. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. New York: W. W. Norton, 1950.
Gay, P. Freud: A Life for Our Time. New York: W. W. Norton, 1988.
Gay, P. The Freud Reader. New York. New York: W. W. Norton, 1989.
Gay, P. Schnitzler’s Century: The Making of Middle-Class Culture 1815–1914. New York: W. W. Norton, 2002.
Geschwind, N. Selected Papers on Language and the Brain. Holland: D. Reidel Publishing, 1974.
Jones, E. The Life and Work of Sigmund Freud. Vol. III: The Last Phase: 1919–1939. New York: Basic Books, 1981.
Krafft-Ebing R. Psychopathia Sexualis, with Special Reference to Contrary Sexual Feelings. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1886.
Lesky, E. The Vienna Medical School of the 19th Century. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976.
Makari, G. Revolution in Mind: The Creation of Psychoanalysis. New York: HarperCollins, 2007.
Meynert, T. Psychiatry: A Clinical Treatise in Diseases of the Forebrain Based upon a Study of Its Structure and Function (1877). New York: Hafner Publishing, 1968.
Meynert, T. Lectures on Clinical Psychiatry (Klinische Vorlesungen ber Psychiatrie). Vienna: Wilhelm Braumueller, 1889.
Rokitansky, C. Handbuch der pathologischen Anatomie. Germany: Braumller & Seidel, 1846.
Sacks, O. The Other Road: Freud as Neurologist / In: Freud: Conflict and Culture. M. S. Roth, ed. New York: Alfred A. Knopf, 1998. Pp. 221–234.
Sulloway, F. J. Freud, Biologist of the Mind: Beyond the Psychoanalytic Legend. New York: Basic Books, 1979.
Wettley, A., and W. Leibbrand Von der Psychopathia Sexualis zur Sexualwissenschaft. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1959.
Wittels, F. Freud’s Scientific Cradle // American Journal of Psychiatry 100 (1944): 521–528.
Alexander, F. Sigmund Freud 1856 to 1939. Psychosomatic Medicine II (1940): 68–73.
Ansermet, F., and P. Magistretti Biology of Freedom: Neural Plasticity, Experience and the Unconscious. London: Karnac Books, 2007.






