Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать Жуков Борис
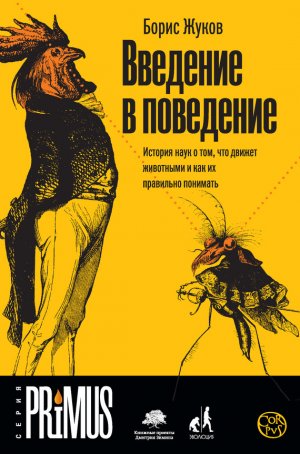
Серию PRIMUS составят дебютные просветительские книги ученых и научных журналистов. Серия появилась благодаря совместной инициативе «Книжных проектов Дмитрия Зимина» и фонда «Эволюция» и издается при их поддержке.
Это межиздательский проект: книги серии будут выходить в разных издательствах, но в едином оформлении. На данный момент в проекте участвуют два издательства, наиболее активно выпускающих научно-популярную литературу: CORPUS и АЛЬПИНА НОН-ФИКШН.
Иллюстрации Олега Добровольского
© Б. Жуков, 2016
© О. Добровольский, иллюстрации, 2016
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016
Издательство CORPUS ®
Во избежание разночтений русское написание иностранных имен приведено к единому принципу – максимального соответствия их звучанию. В тех случаях, когда имена имеют устойчивую традицию русского написания, не совпадающую с требованиями данного принципа, это каждый раз оговаривается в сноске.
Б. Ж.
Движение со смыслом
А что это вообще такое – поведение?
Это понятие настолько емко, фундаментально и в то же время интуитивно ясно, что его даже трудно определить, не прибегая к нему самому. У слова «поведение» нет сколько-нибудь точных синонимов, но при этом проблем с переводом на другие языки не возникает: английское behavior, французское conduite, немецкое Verhalten довольно точно совпадают по смыслу с русским словом «поведение».
На одном из сайтов удалось найти более тридцати определений поведения или посвященных ему словарных статей. Самое короткое занимало полстрочки, самое длинное раскинулось почти на три стандартных страницы. Практически к любому из них можно было тут же, никуда не заглядывая, подобрать пример, в котором применение этого определения приводит к явному абсурду. Впрочем, авторы многих приведенных формулировок честно признавались, что общепринятого определения этого понятия не существует и дать его затруднительно.
Это, однако, не мешает слову «поведение» широко употребляться в научной литературе – вплоть до того, что оно входит в названия весьма респектабельных журналов и даже крупных научных направлений. Более того, практически любой человек – даже никогда не занимавшийся изучением поведения и незнакомый с научными представлениями в этой области – прекрасно понимает, что означает это слово. И что совсем уж удивительно, это понимание у разных людей довольно сходно: некоторые расхождения можно обнаружить разве что в действительно неоднозначных «пограничных» случаях (скажем, если человек краснеет, бледнеет, спит – что из этого поведение, а что нет?), но, как правило, мы без труда отличаем поведение от любых других проявлений жизнедеятельности. Пожалуй, трудно назвать другое слово, которое бы так широко употреблялось и в научной терминологии, и в обыденном языке – и при этом понималось бы настолько одинаково всеми, кто им пользуется.
Мы не будем сейчас пытаться дать этому понятию точное и однозначное определение, которое подойдет ко всем случаям и устроит всех. Но давайте попробуем как-нибудь его очертить – хотя бы для того, чтобы обозначить, о чем, собственно, эта книга. Если уж не выходит с определениями, можно хотя бы попытаться указать на какие-то характерные и существенные черты.
Прежде всего, поведение присуще только живым организмам и его можно наблюдать, только пока они живы – со смертью организма всякое его поведение немедленно прекращается. Правда, слово «поведение» (часто даже и без кавычек) нередко применяют к некоторым физическим и химическим объектам – «поведение термодинамической системы», «поведение ансамбля частиц», «поведение плазмы», «поведение компьютерной модели» и т. п. Что общего во всех этих процессах – и что отличает их от других, сходных по природе, но не называемых «поведением»? Пожалуй, следующее: всякий раз речь идет об активности (спонтанной или вызванной каким-то внешним возмущением) достаточно сложной системы, причем сама эта активность тоже достаточно сложна и многовариантна. В одних случаях ее можно полностью рассчитать, в других – нет, но она никогда не очевидна априори.
Не правда ли, это кое-что говорит о том, что мы готовы называть «поведением»? Тем не менее мы все же будем считать, что такое употребление – не более чем метафора, а в собственном, буквальном смысле это слово относится только к живым существам.
Следующий признак, который мы можем заметить, – поведение присуще только организму в целом. Невозможно говорить о «поведении правой передней ноги», «поведении поджелудочной железы» или, скажем, жевательных мышц. Это слово не применяют даже к отчаянной пляске хвоста, отброшенного ящерицей, хотя в этот момент он уже представляет собой некое подобие самостоятельного организма. Иногда, правда, слово «поведение» прилагают к тем клеткам, которые способны самостоятельно передвигаться в пределах организма и не образуют сплошной ткани (иммунные клетки крови, фибробласты, некоторые стволовые клетки и т. д.). Не будем вдаваться в филологические тонкости и выяснять, употребляется ли в таких случаях это слово в буквальном или в переносном смысле. Нам сейчас важно, что действия клетки называют «поведением» в тех случаях, когда видят в них явное сходство с действиями самостоятельного организма.
Вернемся, однако, к поведению животных. Вроде бы оно должно выражаться в движениях – но кошка, неподвижно застывшая у мышиной норки, птенец куропатки, припавший к земле и замерший по тревожному сигналу матери, иксодовый клещ, много дней пребывающий без малейшего движения в «позе ожидания» на кончике травинки, тоже тем самым ведут себя. Все перечисленное – несомненно формы поведения, причем чрезвычайно характерные для названных животных, хотя никаких движений они в себя не включают. Но если не всякое поведение выражается в движениях, то и не всякое движение можно назвать поведением или элементом поведения. Это слово не применяют к судорогам (даже охватывающим весь организм – например, при эпилептическом припадке), к беготне обезглавленной курицы, к нервному тику у человека или подрагиванию лап спящей собаки. Можно сказать, что, для того чтобы признать ту или иную последовательность движений и/или поз актом поведения, мы должны увидеть в ней определенный смысл.
И все же связь поведения с движением настолько прочна, что мы применяем это слово к любым существам, способным активно двигаться. Мы уверенно говорим о поведении подвижной бактерии, амебы или странного существа диктиостелиума, существующего то в виде россыпи самостоятельных клеток, то в виде своеобразного ползающего гриба. Но мы испытываем некоторую неловкость, называя этим словом реакции росянки или мимозы, у которых подвижны лишь отдельные части организма – листья. Обычно же, говоря о «поведении», мы имеем в виду поведение животных[1].
Вот о нем мы и поговорим в этой книге. О нем – и о том, как люди пытались его понять и чего достигли в этих попытках.
Глава 1
Легендарные времена
Давно ли люди изучают поведение животных?
Странный вопрос, скажете вы. Скорее всего, они начали его изучать еще до того, как стали людьми. Согласно современным представлениям антропологов, наша эволюционная ветвь отделилась от ветви самых близких к нам ныне живущих обезьян – шимпанзе и бонобо – примерно 6–7 миллионов лет назад. Почти все это время наши предки добывали себе пропитание охотой, собирательством, грабежом хищников – такой способ существования немыслим без знания повадок множества живых созданий. Тем более без этого невозможно представить последующее одомашнивание наших спутников – от собаки и лошади до медоносной пчелы и шелковичного червя. Сведения о поведении животных в изобилии встречаются у античных авторов (включая таких авторитетных, как Аристотель и Плиний Старший), составляют значительную часть средневековых космографий, физиологов и бестиариев[2], без них не обходился ни один рассказ вернувшихся из дальних стран путешественников во времена Великих географических открытий. И уж конечно этот предмет всегда входил в круг интересов того, что мы называем наукой в строгом смысле слова, – европейского естествознания Нового времени.
Так-то оно так, да не совсем. Традиционные культуры – и прежде всего охотничье-собирательские – действительно накопили огромное количество эмпирических сведений о животных, в первую очередь о тех, которые служили человеку источником пищи и других необходимых ресурсов либо угрожали его жизни, здоровью и благополучию. Известный орнитолог и популяризатор науки Джаред Даймонд свидетельствует: папуасы Новой Гвинеи делят пернатое население своих лесов практически на те же виды, что и ученые-орнитологи, вооруженные всем изощренным арсеналом современной систематики, включая молекулярно-биологические методы. Все мы помним, как тонко понимал поведение разных зверей и птиц старый нанаец Дерсу Узала, увековеченный исследователем и писателем Владимиром Арсеньевым. И мы можем быть уверены, что Арсеньев ничего не придумал. Известный зоолог профессор Петр Мантейфель приводит свидетельство дальневосточного охотника Алексея, в молодости промышлявшего вместе с Дерсу. Даже его, выросшего в тайге промысловика, поражала способность Дерсу предугадывать поведение зверей.
Все это, бесспорно, так. Но даже в рассказах прирожденных охотников, проводящих всю жизнь в лесах и горах, наряду с тонкими и точными наблюдениями то и дело можно услышать сведения совершенно фантастические. Если верить, например, охотникам-тувинцам, ирбис (снежный барс) не только крадет человеческих детей, но и насилует женщин. В самых разных концах Евразии среди охотников бытует сюжет об относительно некрупном, но злобном и кровожадном хищнике, который устраивает засады на горизонтальных ветвях, нависающих над тропами, и оттуда бросается на крупных копытных, мгновенно перегрызая им сонную артерию или яремную вену. На севере европейской России и на Урале это рассказывают про рысь и лося, на Дальнем Востоке – про харзу и изюбря. А охотники-даяки на острове Калимантан приписывают подобное поведение… местному виду белок. По их словам, злобный зверек, убив таким приемом оленя, выгрызает у него сердце и печень, а остальную тушу бросает[3]. Надо сказать, кистеухая белка Rheithrosciurus macrotis, о которой идет речь, необычайно крупна для своего семейства – более килограмма весом, – а зрительно кажется еще больше из-за огромного пушистого хвоста. Кроме того, она, как и все белки, не упускает случая разнообразить свою диету животной пищей, будь то крупное насекомое, птичьи яйца или даже птенцы. Но, разумеется, ни о какой охоте на оленей зверек не помышляет – просто, видимо, в местных лесах не нашлось более подходящего кандидата на роль древесного хищника в этом архетипическом сюжете.
Заметим: все это рассказывается о животных промысловых, то есть тех, знание повадок которых жизненно необходимо для охотника. Что же касается животных, не представляющих для человека большой хозяйственной ценности (а особенно тех, которые при этом еще и опасны, – ядовитых змей, скорпионов и т. д.), то тут народная фантазия ни в чем себе не отказывает. Название малоприметной ночной насекомоядной птицы – козодой – отражает широко распространенное поверье, что эта птица по ночам доит коз. В покушении на молоко народная молва обвиняет и других животных: рассказывают, например, что в летнюю жару, когда коровы заходят в реку, к ним подплывают сомы и, присосавшись к вымени, выдаивают молоко. (На самом деле ни клюв козодоя, ни пасть сома совершенно непригодны для сосания, а если бы даже молоко как-то попало этим животным в желудок, они были бы не в состоянии его усвоить.) Змеи подстерегают людей на тропинках, бросаются на них с веток, гонятся за ними, а если не могут догнать обычным способом, то сворачиваются в кольцо и катятся, как колесо. А самая ядовитая змея в наших краях – ужасная медянка, чей укус безусловно смертелен. (На эту роль народная мудрость определила веретеницу – безногую ящерицу, изысканно-красивую и абсолютно безобидную: никакого яда у нее нет, а ее мелкие зубки не способны прокусить даже детскую кожу[4].)
Переход к цивилизации сопровождался огромным прогрессом человеческого знания в астрономии, математике, механике, логике, географии и многих других областях. Античные авторы собрали немало сведений и о живой природе. Один из величайших мудрецов древнего мира, Аристотель, в своей огромной «Истории животных» и других трактатах не только собрал и систематизировал эти сведения, но и изрядно обогатил их результатами собственных исследований и штудий своих учеников. Ему принадлежит немало выдающихся открытий в области сравнительной анатомии и эмбриологии, любое из которых даже спустя две тысячи лет сделало бы честь самому блестящему ученому. Но там, где речь заходит о поведении животных, точные знания сменяются умозрительными суждениями и совсем уж фантастическими утверждениями – вроде того, что многие птицы (ласточки, жаворонки, дрозды, горлицы и даже аисты) на зиму впадают в спячку, причем ласточки для этого зарываются в ил на морском дне.
Всем нам с детства памятен трудолюбивый ежик, несущий в свою норку наколотые на иголки яблоки и грибы. Вероятно, многие читатели удивятся, узнав, что этот образ – чистая фантазия. Ежи действительно охотно поедают спелые плоды (хотя основная их пища – насекомые и другие беспозвоночные), но никогда и ничего не заготавливают и ничего не носят на колючках – во всяком случае, намеренно. Однако авторы детских книжек и мультфильмов не сами придумали этот образ – он упоминается еще в «Естественной истории» Плиния Старшего и проходит, не прерываясь, через всю средневековую литературу. Правда, античные и средневековые ежики предпочитали накалывать на иголки не яблоки, а виноградины, предварительно «собственноручно» сбросив их с лозы. Упоминания об этом ежином промысле можно встретить и в русской средневековой литературе: «Яко взлезет на лозу…» – говорится о еже в одном из русских переводов «Физиолога». Понятно, что ничего подобного бедное насекомоядное не может проделать при всем желании: ежиные лапы совершенно неприспособлены для лазанья по растениям. Как видим, однако, это не помешало явной небылице пройти сквозь тысячелетия и благополучно дожить до наших дней.
Сведения о повадках животных, излагаемые средневековыми бестиариями, вообще поражают своей фантастичностью. Из них можно узнать, например, что кошки в жару лижут жаб или змей и тем утоляют жажду, но при этом сами становятся ядовитыми. Или что змеи спасаются от заклинателей (которые, «как известно», игрой на дудочке лишают их воли) следующим образом: они ложатся одним ухом на землю, а другое затыкают кончиком своего хвоста – и благодаря этому не слышат гипнотической мелодии. В любом средневековом бестиарии обязательно фигурировал лев – и непременно сообщались три его важнейшие особенности: что он спит с открытыми глазами, что во время движения он заметает хвостом следы и что львята рождаются мертвыми и остаются такими до третьего дня, когда в логово приходит лев-отец, дует им в мордочки и вдувает в них жизнь…
Не будем слишком строги к средневековым сочинениям: в конце концов, описание повадок и привычек животных не было для них самоценным. Особенности того или иного животного были важны авторам бестиариев лишь как своеобразная живая аллегория тех или иных людских добродетелей или пороков либо положений христианского вероучения. Например, тот же еж, неутомимо таскающий виноградины своим деткам, давал повод обратиться к читателю: «Человече, подражай ежу!.. Не пропусти гроздей винограда истинного, а именно слов Господа нашего Иисуса Христа и донеси их заботливо до чад своих» и т. д. Понятно, что для этой цели фактическая сторона излагаемых сведений была не так уж важна.
Однако и с приходом Ноого времени положение мало изменилось. Уже существовал научный метод и появились профессиональные ученые; уже не только физика и химия, но и некоторые разделы биологии (такие, например, как анатомия или микроскопические исследования) имели дело только с достоверно установленными фактами. И ушлых торговцев диковинками, пытавшихся впарить ученым какой-нибудь очередной «зуб дракона» или засушенного детеныша пятиглавой гидры, уже без разговоров выпроваживали в шею. А знания о поведении все еще выглядели так же, как во времена физиологов и бестиариев, – пестрой и трудноразделимой смесью практических знаний, случайных наблюдений, нравоучительных притч и откровенных фантазий и суеверий. Их переписывали из одной солидной книги в другую, даже не пытаясь выяснить, что в них правда, а что нет. «Дознано, что они дают услышать звук своих гремушек за несколько минут до отмщения своему врагу», – читаем мы о гремучих змеях в «Лексиконе естественных наук» XVIII века, выпущенном Королевским ботаническим садом в Париже, самым авторитетным ботанико-зоологическим научным центром того времени[5]. Его руководителем в те годы был не кто иной, как Жорж-Луи Бюффон – едва ли не самый знаменитый ученый-естественник XVIII века, автор капитальнейшей 36-томной «Всеобщей и частной естественной истории», оказавшей огромное влияние на естествознание своей эпохи и сохранявшей популярность вплоть до середины XIX века. Увы, этот фундаментальный труд наряду со множеством интересных фактов и блестящих догадок включал и явные небылицы – вроде того, что медвежонок рождается в виде бесформенного комка плоти (и только уже после рождения мать-медведица, вылизывая его, придает ему форму четвероногого животного) или что фараонова мышь (то есть египетский мангуст), подкараулив спящего с открытой пастью крокодила, забирается к нему в желудок и разрывает его изнутри.
Правда, Бюффон был известен своим вольным отношением к фактам – даже доброжелательные к нему современники и биографы в один голос отмечали, что для него занимательность всегда была важнее достоверности, а недостаток сведений он был склонен восполнять остроумными догадками. Но другой великий натуралист XVIII века – создатель современной биологической систематики Карл Линней – был в этом отношении полной противоположностью Бюффону. Однако и он не только воспроизводил в своих трудах древнюю, идущую еще от Аристотеля байку о зимующих на дне ласточках, но и защищал ее в споре с теми коллегами, которые начали сомневаться в достоверности столь фантастической «теории»…
Я вовсе не пытаюсь доказать, выражаясь словами героя знаменитого советского фильма, «будто в истории орудовала банда двоечников». Разумеется, сочинения Аристотеля и Плиния, Линнея и Бюффона состояли отнюдь не из одних только ошибок, заблуждений, пересказов охотничьих баек и вздорных поверий и т. д. – будь это так, мы сегодня вряд ли бы вообще помнили эти имена, не говоря уж о том, чтобы относиться к ним с почтением. И даже в том, что касается конкретно поведения животных, эти авторы сообщали немало интересного. Дело вообще не в конкретных ошибках конкретных авторов, а в том, что эта область оставалась своеобразным заповедником донаучных форм познания – оставалась так долго, как, возможно, никакой другой раздел естествознания.
Чтобы объяснить, о чем идет речь, надо сказать несколько слов о том, что такое наука. Наука в строгом смысле слова – европейское естествознание Нового времени, сложившееся в конце XVI – начале XVII века, – это не просто некая совокупность фактов, теорий, гипотез и правил обращения с ними, но прежде всего метод, позволяющий получать достоверные знания и отделять их от недостоверных. Про любое научное утверждение можно спросить: «А откуда нам это известно?» – и получить такой ответ, который (хотя бы в принципе) можно проверить самому, путем наблюдения или/и эксперимента. Если же в ответ звучит только что-нибудь вроде «ну это же всем известно!», «люди говорят» или «один мой знакомый знал человека, который сам видел», то такое утверждение не может считаться научным – вне зависимости от того, верно ли оно.
Именно с этой точки зрения то, что писали о поведении животных знаменитые философы и даже натуралисты XVII–XVIII столетий (как до них – античные и средневековые авторы), никак нельзя признать научными знаниями. И дело даже не в том, сколько в этих сочинениях было фактов, а сколько – небылиц, но в том, что у их читателя не было ни малейшей возможности отделить одно от другого. Вполне достоверные и точные сведения излагались совершенно так же, как и россказни о лезущем на лозу ежике или зимующих на дне водоема ласточках[6]. Прославленные авторы трактатов никак не давали понять, что эта информация имеет разный статус – да, вероятно, и сами не замечали этого.
Почему же ученые эпохи Просвещения, следуя в своих работах по анатомии и систематике строгому научному канону, продолжали смешивать факты с небылицами там, где речь заходила о поведении? Конечно, не потому, что им недоставало принципиальности. К таким вольностям их подталкивал сам предмет исследования.
Практически все успехи естествознания в XVII–XVIII веках были достигнуты в лабораториях. Методами, приведшими ученых к этим успехам, были эксперимент и специально организованное наблюдение. В тех областях знания, которые сегодня находятся в ведении биологии, преобладал именно второй метод, обычно включавший в себя препарирование, то есть довольно изощренную подготовку объекта к собственно исследованию. Предмет интереса ученого проходил глубокую обработку: его вскрывали, окрашивали, отделяли друг от друга его части и после этого изучали – опять-таки при помощи специальных инструментов. Арсенал и технические возможности этих инструментов постоянно расширялись, а вместе с ними рос и объем достоверных научных знаний.
Но поведенческий акт невозможно принести в кабинет или лабораторию. Из него нельзя сделать анатомический препарат или срез для микроскопирования, которые затем можно было бы неспешно изучать. В работе с ним мало помогают скальпели и микроскопы, мерные линейки и наборы реактивов. Он существует только в виде последовательности движений и поз животного, которые невозможно затем даже показать тому, кто при этом не присутствовал (напомним, что до появления фотографии, а тем более – киносъемки оставались еще века). Немного сгущая краски, можно сказать, что в первые столетия своего существования наука практически не имела возможностей для объективного изучения поведения животных. Тем ученым, которых интересовала эта область явлений, оставалось полагаться лишь на донаучные способы познания: случайные недокументированные наблюдения, мнения экспертов (охотников и других знатоков животных) и умозрительные рассуждения.
О последних нужно сказать особо. Всякий раз, когда наука XVII–XVIII столетий пыталась выйти за пределы вороха не связанных друг с другом фактов и свидетельств и сформулировать какие-нибудь общие принципы и закономерности, она неизменно прибегала к спекуляциям разной степени фантастичности. Некоторым из них трудно отказать в остроумии. Так, например, известный философ и просветитель аббат Этьен де Кондильяк выпустил в 1755 году «Трактат о животных», в котором в числе прочих вопросов рассмотрел проблему происхождения инстинктов. По мнению Кондильяка, инстинктивные действия произошли от… привычек. В самом деле, обе эти формы поведения сходны тем, что не требуют участия сознания. Причем в тех случаях, когда мы можем проследить рождение привычки, оказывается, что когда-то она была вполне осознанным и разумным действием. Например, попав в незнакомое помещение, мы первое время вполне сознательно ищем глазами выключатели (а иной раз и пытаемся догадаться, где бы они могли быть). Если мы пользуемся этим помещением постоянно, то через какое-то время мы уже автоматически протягиваем руку к нужному месту и часто даже не осознаем это действие. При этом мы не можем сказать, когда именно осознанное действие превратилось вавтоматическое – сознание как бы постепенно уменьшало свое участие в этом акте, пока не исчезло из него вовсе. Почему бы не предположить, что привычные действия, регулярно повторяемые целым рядом поколений на протяжении всей жизни, в конце концов становятся у их потомков врожденными[7], то есть превращаются в инстинкт?
Четверть века спустя, уже после смерти Кондильяка, эту идею оспорил его ученик, Шарль-Жорж Леруа. По мнению Леруа, выстроенный Кондильяком ряд «разум – привычка – инстинкт» следует читать в обратном порядке: инстинкт – это элементарная способность, которая в результате многократного повторения (и происходящего при этом упражнения и совершенствования с учетом приобретаемого опыта) в конце концов переходит в высшее психическое свойство. (Это звучит не так правдоподобно, как идея Кондильяка, зато гораздо лучше соответствует идее развития и прогресса, центральной для эпохи Просвещения.) Свою теорию Леруа подкреплял ссылками на охотничьих собак, передающих свои характерные повадки потомству, и домашних кроликов, даже не пытающихся рыть норы, – хотя для их диких родичей такое поведение чрезвычайно характерно.
Не будем сейчас говорить о достоверности этих фактов (в частности, о том, что и как передают своим потомкам охотничьи собаки). Заметим лишь, что оба примера с таким же – если не с большим – успехом могут иллюстрировать и теорию Кондильяка. Уже одно это показывает, насколько слаба была связь теоретических представлений того времени о поведении животных с реальностью – даже у тех авторов, кто отличался наблюдательностью и независимостью суждений и старался вывести свои теории не из общефилософских спекуляций, а из конкретных наблюдений.
И дело было не только в том, что поведение трудно изучать методами науки XVIII века. Как объект исследования оно имеет еще одно коварное свойство. Вряд ли найдется какая-нибудь другая область науки (по крайней мере – естествознания), в которой было бы настолько трудно отделить факт от его интерпретации. Иными словами – то, что исследователь реально видит, от того, как он это истолковывает.
В нашей повседневной жизни нам постоянно приходится интерпретировать поведение окружающих нас людей – воссоздавать в уме их желания, цели и намерения, исходя из их действий. Конечно, эту задачу нам сильно облегчает язык: мы можем спросить человека о том, что он делает или намеревается сделать, чего он хочет этим достигнуть и т. д., или он сам, не дожидаясь нашего вопроса, известит нас об этом. Но даже для правильного понимания слов другого человека нужно иметь некоторое представление о том, что он имеет в виду, – то есть о той части информации, которая не высказана и существует только в голове нашего партнера[8]. (Это не говоря уж о том, что слова, которые мы слышим, могут оказаться ложью, чисто ритуальными формулами или еще чем-то неинформативным – а ведь распознавание таких ситуаций тоже есть не что иное, как интерпретация поведения другого человека.) Часто же мы даже в общении с незнакомыми людьми обходимся без слов: когда при входе в фойе театра билетерша молча протягивает к нам руку, мы не спрашиваем «что вам угодно, сударыня?», а так же молча предъявляем билет. И если гардеробщик, которому мы протянули номерок, вдруг спросит «а что я должен делать с этой штукой?», мы, вероятно, сочтем это глупой шуткой и уж точно не поверим, что он не понял наших намерений.
Мы не просто умеем интерпретировать действия других людей – мы делаем это постоянно, безотчетно, и если бы в какой-то момент попытались не делать этого, нам бы это далось с большим трудом. Неудивительно, что эту нашу привычку мы обращаем и на животных – особенно когда они делают что-то, что очень похоже на те или иные человеческие действия. Прежде всего это относится, конечно, к животным, с которыми мы постоянно взаимодействуем (и к тому же состоим в достаточно близком родстве, чтобы понимать или, во всяком случае, замечать элементы их социальной коммуникации), – собакам, кошкам, в прежние века – к лошадям. Но и поведение курицы, скликающей цыплят, самца аквариумной рыбки цихлиды, топорщащего жаберные крышки при виде самочки, пчелы, усердно собирающей нектар, или муравья, нацелившего кончик брюшка на поднесенную к муравейнику палку, мы интерпретируем уверенно и не задумываясь. Даже об улитке, резко втянувшей «рожки» при приближении нашей руки, мы без колебаний скажем «испугалась». Неудивительно, что и при виде спешащего куда-то ежика со случайно наколовшейся на иголки виноградиной мы тут же припишем ему желание угостить ежат или пополнить запасы на зиму (особенно если мы мало что знаем о реальных повадках ежей). И потом, если нам случится кому-то об этом рассказывать или писать, мы с чистой совестью сообщим, что видели такое поведение своими глазами…
Понятно, что и ученые, обращаясь к теме поведения животных, поначалу толковали свои и чужие наблюдения столь же наивно и безотчетно. Довольно скоро, однако, они заметили эту проблему и попытались решить ее самым простым и естественным путем: исключить из описания и анализа поведения всевозможные интерпретации и говорить только о том, что можно объективно наблюдать. Уже знакомый нам Бюффон доказывал, что запасы пищи, создаваемые пчелами и муравьями, не следует считать проявлением «разумности» и «предусмотрительности» – хотя бы потому, что объем этих запасов явно превышает потребности пчелиной или муравьиной семьи. Бюффон вообще призывал исключить из описания поведения животных такие понятия, как «разум», «понимание», «любовь», «ненависть», «стыд» и тому подобные проявления антропоморфизма[9]. Правда, сам он при описании конкретных видов животных и их повадок то и дело грешил против собственных установок – сообщая, например, что приматы и хищные умнее грызунов или что египетский мангуст испытывает врожденную антипатию к крокодилу.
Впрочем, попытку последовательного отказа от антропоморфизма еще за сто лет до Бюффона предпринял великий Рене Декарт. Он утверждал, что у животных вовсе нет никакой психики, они представляют собой автоматы, все действия которых предопределены их устройством, как движение часовых стрелок и бой часов – конструкцией часового механизма. (Даже вопли, которые издает животное в процессе вивисекции, по мнению Декарта, – не более чем «скрип плохо смазанного механизма, но никак не проявление чувств».) Но из этого естественным образом следовал вывод: изучать поведение животных как таковое вообще незачем – оно станет нам понятно само, когда мы в должной мере изучим устройство и функционирование их тел. И Декарт не преминул этот вывод сделать.
Можно, конечно, считать это казусом, историческим анекдотом. Но, как мы увидим в дальнейшем, наука о поведении снова и снова пыталась отказаться от интерпретаций, от «домысливания» за животное, попыток реконструкции его субъективного мира – и всякий раз убеждалась, что в конечном счете это означает отказ от изучения поведения вообще. И это не случайно. Как уже говорилось в предисловии, та или иная последовательность движений может быть признана актом поведения только в том случае, если она имеет некоторый смысл – хотя бы только с точки зрения самого животного. Как бы трудно ни было нам порой выяснить этот смысл и сформулировать его в наших понятиях, попытки не рассматривать его вовсе действительно равносильны отказу от изучения поведения.
Но не будем забегать вперед.
Глава 2
Рожденная эволюцией
Прощаясь с эпохой Просвещения, мы должны сказать, что совершенно бесплодной для развития науки о поведении животных она все же не была. Именно рационалистическая философия XVII–XVIII веков выработала целый ряд понятий и категорий, впоследствии сыгравших огромную роль в исследованиях поведения. Достаточно назвать хотя бы такие понятия, как «инстинкт», «рефлекс» или представление о естественом поведении. Подчеркнем: речь идет не просто о введенных в научный оборот терминах[10], но именно о понятиях, за каждым из которых стоит определенный взгляд на природу того или иного поведенческого феномена или поведения в целом. Можно сказать, что в течение двух последующих столетий все вновь добываемые знания в этой области осмыслялись и приводились в систему посредством этих понятий и категорий – и такое положение в значительной мере сохраняется до сих пор. Разумеется, «новое вино» сильно влияло на «ветхие мехи»: содержание самих базовых понятий заметно менялось под влиянием фактов и проблем, к которым их применяли. Впрочем, для этого факты надо было сначала добыть, а проблемы – поставить.
Первые попытки сделать наконец поведение предметом по-настоящему научного изучения относятся к первой половине XIX века. И одним из пионеров этого направления стал директор парижского Зверинца[11] Фредерик Кювье.
Этот ученый, почти всю жизнь остававшийся в тени своего знаменитого старшего брата – классика сравнительной анатомии и создателя палеонтологии Жоржа Кювье, – мало известен широкой публике. Читатель, не искушенный в биологии, может вспомнить его разве что по ироническому пассажу из «Моби Дика», в котором Мелвилл потешается над изображением кашалота, помещенным Кювье-младшим в одной из его главных работ – «Естественной истории китообразных». Между тем это был едва ли не первый капитальный труд по сравнительной анатомии китообразных – животных, в ту пору почти недоступных для изучения: в командах китобоев зоологов не было, а привезти в большой город целую тушу кита или хотя бы его полный скелет было практически невозможно.
У Фредерика Кювье есть и другие заслуги перед классической зоологией: он дал научное описание множества видов млекопитающих (в том числе таких как бородавочник и малая панда), первым предложил рассматривать зубную систему млекопитающих как таксономический признак (позднее вся систематика этой группы была построена буквально «на зубах» и оставалась такой до самого появления молекулярных методов) и т. д. Конечно, многое в его успехах определялось служебным положением: в 1804 году старший брат назначил его «главным хранителем» (то есть директором) Зверинца – и на этом посту Фредерик оставался 34 года, до самой своей смерти. Именно туда, в Зверинец, поступали – живыми или мертвыми – все диковинные животные, добытые в наполеоновских походах и дальних экспедициях, так что директору было что изучать.
Но за шкурами и черепами Кювье не забывал порученную его заботам живую коллекцию. Обитателей Зверинца надлежало как можно дольше сохранять в добром здравии, а для этого надо было иметь хоть какое-то представление об их поведении. Побасенки, которые можно было почерпнуть из сочинений натуралистов прежних времен, оказались малопригодны – равно как и умозрительные теории философов. Главе Зверинца ничего не оставалось, как самому заняться изучением поведения своих подопечных – так сказать, без отрыва от производства.
Фредерик Кювье не создал никакой общей теории поведения животных, не написал об этом предмете специального труда. Его многочисленные наблюдения и оригинальные выводы из них разбросаны по 70 выпускам «Естественной истории млекопитающих», которую Фредерик (вместе с другом и непримиримым оппонентом своего брата, Этьеном Жоффруа Сент-Илером) издавал в 1818–1837 годах. Там можно найти едва ли не первое в научной литературе описание реального поведения человекообразной обезьяны – орангутана, интересные наблюдения за жвачными, лошадьми, хищными, ластоногими и другими животными. Он описал сексуальное поведение ряда животных, их взросление и развитие (в Зверинец часто попадали детеныши-сироты). Изучая тюленя, он установил факты, противоречившие господствовавшему тогда (и еще долго потом) представлению, будто ум (или, как мы бы сейчас сказали, когнитивные способности) животного определяется остротой его чувств (зрения, слуха, обоняния и т. д.) и сложностью устройства соответствующих органов.
Среди прочего Кювье пишет о бобрятах, попавших в руки людей совсем маленькими и позже уже никогда не видевших своих сородичей. Повзрослев, они, как и положено порядочным бобрам, принялись строить хатки – и неплохо справились с этой задачей, хотя никогда прежде не видели, как это делается.
Отсюда Кювье делает вполне резонный вывод о врожденном характере такой формы поведения – и далее, отталкиваясь от этого примера, размышляет о том, чем же отличается такое поведение от того, что мы называем «разумным»[12]. Но нам сейчас интереснее другое. Опыт с бобрятами и другие наблюдения и эксперименты (намеренные или невольные) Фредерика Кювье можно считать первыми попытками действительно научного изучения поведения животных. Конечно, с сегодняшних позиций его работам можно предъявить немало серьезных теоретических и методологических претензий. Но не будем забывать: мы можем оценивать труды ученых былых эпох с высоты сегодняшних знаний только потому, что они добыли нам эти знания. Работы младшего Кювье стали предвестием, первой пробой применения научного метода к такому эфемерному и неудобному для него предмету, как поведение животных.
Но, как это часто происходит, предвестия грядущей революции практически никто не заметил. Фредерик Кювье умер, получив все положенные награды и почести, его имя навсегда вписано в историю науки – но помнят его в основном как сравнительного анатома и систематика. В глазах коллег его описания повадок и особенностей конкретных видов ничем принципиально не отличались от аналогичных описаний у Бюффона и других натуралистов XVIII века, а его рассуждения об инстинкте и разуме казались естественным продолжением философского дискурса, восходящего к Леруа, Кондильяку, Реймарусу[13] и далее – к Декарту и античным мыслителям.
Ситуация начала меняться только после того переворота, который произвел в умах натуралистов всего мира выход «Происхождения видов».
«Дарвиновская революция», ее подробности и последствия для современной ей биологии многократно описаны в литературе, и рассказывать здесь о ней нет нужды. Напомним только один момент. В считанные годы (если не месяцы) после выхода книги Дарвина практически все биологи не просто признали факт эволюции – эволюционный подход, взгляд в свете эволюционных представлений стал главенствующим и едва ли не обязательным в зоологии и ботанике, не говоря уж о палеонтологии. Что бы ни изучали теперь натуралисты, во главу угла ставился прежде всего вопрос: из чего и как это могло возникнуть?
Поведение животных не стало исключением. Более того: эволюционный подход придал этому предмету – довольно, как мы видели, маргинальному для зоологов первой половины XIX века – неожиданную остроту и актуальность. В самом деле, если человек произошел естественным путем, если его органы и части тела имеют ту же природу, что и соответствующие структуры животных, то и его психическая жизнь должна иметь свои истоки в животном мире. И эти истоки могут стать предметом научного исследования.
Сам Дарвин высказался на этот счет совершенно недвусмысленно: «Разница между психикой человека и высших животных, как бы она ни была велика, это разница в степени, а не в качестве». Впрочем, его вклад в изучение поведения не ограничился общими фразами, пусть даже и столь радикальными. Проблема осмысления поведения с эволюционной точки зрения представлялась ему настолько важной, что уже в первом издании «Происхождения видов» мы видим целую главу «Инстинкт». Правда, эта глава посвящена не столько инстинктам как таковым (о том, что понимали под этим словом Дарвин и его современники, мы поговорим чуть позже), сколько инстинктам как материалу эволюции. Главная ее мысль заключается в том, что с точки зрения дарвиновской теории инстинкты обладают теми же свойствами, что и морфологические признаки (случайной изменчивостью, наследуемостью изменений и их неравноценностью для выживания), и потому их эволюционное формирование может быть столь же успешно объяснено естественным отбором[14].
Но в 1872 году Дарвин выпустил уже довольно специальный труд «Выражение эмоций у человека и животных», дающий все основания считать его одним из пионеров научного исследования поведения. В этой книге он указывал на сходство некоторых универсальных внешних проявлений человеческих эмоций (волосы дыбом при сильном страхе, оскаленные зубы в ярости и т. д.) с чертами поведения животных (прежде всего, конечно, человекообразных обезьян), видя в нем свидетельство нашего родства. Но, пожалуй, важнее были даже не выводы, а сам метод исследования и рассуждения. Книга не просто утверждала наличие у животных полноценной психики, но и предлагала способ ее исследования: наблюдение внешних проявлений (то есть поведения) и сравнение с аналогичными внешними проявлениями у человека.
Разумеется, возможности такого метода были, мягко говоря, ограничены. Скажем, огромную роль в выражении эмоций и контактах с сородичами у собаки играет хвост – орган, который у человека попросту отсутствует. Так что никакие аналогии с человеческими способами выражения чувств не помогут понять смысл фигур, которые выделывает собачий хвост. В значительной степени то же самое справедливо и для другого важнейшего «коммуникативного» органа млекопитающих – ушей (точнее, ушных раковин): у человека они, конечно, есть, но произвольные движения ими для многих людей невозможны физически и для всех – не имеют отношения к выражению эмоций. А, скажем, у бурого медведя, ведущего одиночный образ жизни и мало нуждающегося в тонком понимании намерений соплеменников, внешние проявления эмоций выражены слабо и в большинстве ситуаций просто неразличимы для человека. Что не означает, будто у столь высокоразвитого зверя нет психической жизни. И это – млекопитающие, наши относительно близкие родственники, «братья по классу». Понятно, что суждения «по аналогии с человеком» о чувствах и побудительных мотивах птиц или лягушек, не говоря уж о пчелах и каракатицах, будут еще менее надежны.
Впрочем, анатомические различия – только часть препятствий на пути трактовки поведения «по аналогии», причем часть не такая уж большая и относительно хорошо заметная. На самом деле одни и те же или, по крайней мере, весьма сходные движения и действия у разных видов животных[15] могут иметь совершенно разный смысл. «Пес ворчит, когда сердится, а когда доволен, виляет хвостом. Ну а я ворчу, когда я доволен, и виляю хвостом, когда сержусь. Следовательно, я не в своем уме», – говорит Чеширский Кот Алисе в сказке Льюиса Кэрролла. Может быть, Кот несколько лукавит, опуская тонкие различия между соответствующими сигналами кошек и собак, но проблему он подметил верно. Достаточно вспомнить хотя бы, что у многих животных мимические движения, близко напоминающие человеческую улыбку, означают нешуточную угрозу.
Но как бы ни были серьезны эти обстоятельства, в конце концов, они представляли собой лишь технические трудности – пусть и огромные. Указанный Дарвином путь таил в себе, однако, и другой, более глубокий соблазн. Попытки реконструкции психики животных на основе сходства элементов их поведения с элементами поведения человека почти неизбежно приводили исследователей к антропоморфизму. При таком подходе мы видим в поведении животных то, чего в нем нет (но что есть в нашем), – но это еще полбеды. Гораздо хуже, что мы при этом в принципе неспособны увидеть в нем то, что в нем есть, но чего в нашем поведении нет. Если, как мы помним, даже Бюффону, осознававшему порочность антропоморфизма и пытавшемуся от него отказаться, не удавалось его избежать, то исследователи первых последарвиновских десятилетий устремились к нему сознательно и восторженно, словно к наконец-то обретенной истине.
Здесь необходимо сказать несколько слов во избежание недоразумений. Идея развития человеческой психики из психики его животных предков (подразумевающая, конечно, наличие у животных психической жизни) в самом деле логически вытекает из эволюционной теории Дарвина. Она вполне соответствует всему, что мы знаем о психике и поведении человека и животных, – не только тем фактам, которые были известны полтора века назад, но и всем тем, что были установлены позже. Эта идея стала в науке аксиомой – сегодня, пожалуй, не найдется ни одного ученого, занимающегося этой тематикой, который отрицал бы естественное происхождение человеческой психики.
Однако если мы признаём, что Б эволюционно происходит от А (чем бы ни были эти А и Б – видами живых существ, системами органов или специализированными белками), это не означает, что в Б нет ничего такого, чего не было бы в А. Крыло птицы происходит от передней конечности рептилии, а в конечном счете – от плавника кистеперой рыбы, но это не значит, что между ними нет никакой разницы или что эта разница сводится к чисто количественным различиям. Цветковые растения (как и вообще все сосудистые) происходят от зеленых водорослей – но вряд ли кто-то в здравом уме будет надеяться набрать яблок и орехов или хотя бы нарубить дров в прудовой тине. Помимо всего прочего, считать утверждение «Б произошло от А» равносильным утверждению «Б – это в общем-то то же самое, что и А», означает, по сути дела, отрицать эволюцию – которая, следуя этой логике, не может создать ничего принципиально нового! А видеть в поведении животных лишь зачатки тех или иных явлений человеческой психики означает игнорировать конкретную историю и пути эволюции поведения. Знаменитый пчелиный «язык танца» обладает некоторыми свойствами, присущими человеческому языку (и не обнаруженными в коммуникативных системах других животных). Но это ни в коей мере не значит, что пчела – близкая родня человека или эволюционирует в его сторону.
Увы, в 1860–1880-х годах, в период триумфального шествия дарвинизма по всем естественным (и не только естественным) наукам, многие восприняли идею естественного происхождения человеческой психики именно так плоско и прямолинейно – как представление, что «ничто человеческое им не чуждо» и любой феномен человеческой психики можно, пусть в примитивном, зачаточном, трудноразличимом виде, найти и у животных. Причем не только у таких высокоорганизованных и близких к человеку, как, скажем, обезьяны, но и у собак и крыс, птиц и рыб, насекомых и моллюсков. Наиболее радикальные сторонники этого подхода допускали существование «известной разумности» у растений и одноклеточных, у отдельных клеток, тканей и органов в составе организма и даже у молекул и атомов.
Впрочем, это были все-таки явные крайности – пусть даже их высказывали действительно крупнейшие ученые того времени. Основу нового и весьма популярного направления исследований – сравнительной психологии, или зоопсихологии – составляли все же не поиски психики у атомов, а работы, так или иначе посвященные животным, преимущественно высокоразвитым. Образцом и в известном смысле итогом таких трудов стала книга Роменса «Ум животных», вышедшая в 1882 году.
Джордж-Джон Роменс – фигура необычная даже на колоритном фоне ученых второй половины XIX века: богослов, поэт, композитор, публицист и натуралист-экспериментатор в одном лице. Еще совсем молодым человеком он свел близкое знакомство с Дарвином, став для последнего не только коллегой и другом, но и помощником и кем-то вроде приемного сына (и сам на всю жизнь попал под обаяние личности Дарвина и его учения – понятого, впрочем, довольно своеобразно), а после смерти великого натуралиста активно участвовал в разборе и публикации его научного наследия.
Книга Роменса действительно посвящена «уму» животных. При этом понять, что именно автор называет «умом», современному читателю не так-то просто. Книгу почти полностью составляют описания примеров целесообразного поведения различных животных, позволяющего им достигнуть того или иного полезного результата. Автора трудно упрекнуть в том, что он, подобно натуралистам и философам XVIII века, отождествляет целесообразность с разумностью: уже во введении он подробно обсуждает разницу между инстинктом и разумом и необходимость их различения. И далее при описании каждой конкретной формы поведения он задается вопросом: видим ли мы тут проявление разума или инстинкт? Однако при этом, по мнению Роменса, «инстинкт требует сознательных процессов[16], это самый важный пункт, так как он есть единственный, по которому можно отличать инстинктивные действия от рефлективных». В последних Роменс видит «непсихическое нервно-мышечное приспособление к соответствующим стимулам», то есть, выражаясь современным языком, вовсе отказывается считать рефлексы актами поведения. Эта мысль, выраженная столь ясно на заре всеобщего увлечения рефлексологией (о котором мы еще не раз поговорим ниже), делает честь проницательности Роменса и оригинальности его ума – но при этом дополнительно запутывает вопрос, чем же все-таки разумные действия отличаются от инстинктивных.
Для Роменса решающий критерий в этом вопросе – используют ли животные в данном акте поведения свой индивидуальный опыт, то есть является ли такое поведение результатом обучения. На это стоит обратить особое внимание: не только в ту эпоху, но и еще много десятилетий спустя философы и ученые всех специальностей, обращаясь к теме разума, считали обучение несомненным его проявлением и «по умолчанию» полагали, что в процессе обучения человек (или животное) становится умнее[17]. Даже те, кто непосредственно занимался изучением поведения, усомнились в этом лишь в середине XX века (см. главу 8). В исследованиях же, затрагивающих тему лишь косвенно, способность к обучению и скорость его нередко и сегодня рассматриваются как «показатели интеллекта». Массовое сознание и вовсе не различает эти понятия.
С другой стороны, признавая необходимость отличать разум от инстинкта, Роменс все же не считает эту разницу столь уж принципиальной. «Между инстинктом и разумом нельзя провести точной границы, инстинкт переходит в разум неуловимыми оттенками… Исходя из законов эволюции, мы и не можем ожидать ничего другого…» – пишет он. И немного ниже – снова: «…инстинкт переходит в разум с неуловимой постепенностью, так что в действиях, имеющих, в общем, характер инстинктивных, очень часто примешивается то, что П. Гюбер называет „маленькой дозой суждения или разума“…» Как мы увидим ниже, последнее утверждение в известном смысле оказалось весьма недалеко от истины: врожденные и приобретенные элементы могут сочетаться даже внутри одного акта поведения (например, птичьей песни). Но сам автор (как и его читатели-современники) имел в виду совсем другое: разум вырастает из инстинкта, это две стадии развития одного и того же феномена, различие между которыми опять-таки «в степени, а не в качестве».
Да и что в этом, собственно, такого? Ведь коль скоро высшие животные произошли от низших, естественно предположить, что и характерные для них формы поведения тоже представляют собой лишь видоизменения и усложнения поведения более простых существ. И если действия этих «более простых существ» мы называем инстинктами, значит, инстинкт – это зачаток будущего разумного действия (вспомним построения Леруа). Труд Роменса и есть попытка проследить развитие этого свойства у животных от самых простых до самых продвинутых его форм: книга начинается с рассмотрения поведения простейших[18], далее переходит к кишечнополостным, иглокожим и т. д., вплоть до последней главы, посвященной обезьянам. И хотя амебам, медузам и иглокожим автор решительно отказывает в каком бы то ни было разуме (а в отношении двух первых сомневается даже, можно ли прилагать к их поведению понятие «инстинкт» или оно представляет собой чисто рефлекторные действия), его описания складываются в картину непрерывного поступательного развития умственных способностей животных – от низших к высшим.
В более поздние времена книгу Роменса часто критиковали за то, что наряду с безусловно достоверными и зачастую нетривиальными сведениями о поведении животных в нее вошло немало случайных и произвольно истолкованных наблюдений и даже откровенных побасенок и охотничьих рассказов – точно так же, как в сочинения авторов предшествующих веков, от Аристотеля до Бюффона. Это действительно так (чего стоит, например, хотя бы рассказ о некоем пчеловоде, выучившем пчел маршировать в пешем строю!), и это сильно снижает ценность книги как научного труда. Но даже если бы все сообщаемые в ней фактические сведения были безусловно достоверны, она вряд ли стала бы прорывом в изучении поведения животных. Никакой оригинальной идеи, придающей смысл всем приводимым данным (кроме, конечно, идеи прогрессивной эволюции – но ее трудно считать оригинальной для 1880-х годов), в ней нет, а для всестороннего и беспристрастного рассмотрения известных на момент ее написания фактов она слишком тенденциозна. Зато эта книга может служить довольно полным и точным отражением круга идей и понятий зоопсихологии в первые десятилетия ее существования – о чем свидетельствует и немалая популярность «Ума животных» в ту пору. Можно даже сказать, что достоинства книги – от незаурядного ума и таланта ее автора, а вот ее пороки были общими для подавляющего большинства тогдашних исследователей, обращавшихся к этой тематике.
Для большинства – но все-таки не для всех. Одним из тех немногих, кого не коснулась эта мода, был знаменитый французский энтомолог Жан Анри Фабр. И сам он, и его роль в истории изучения поведения животных настолько необычны, что разговор о нем я решил вынести в отдельный сюжет (см. интермедию 1). Другим исследователем, не соблазнившимся прямолинейно понятым «дарвинизмом», оказался… сам Дарвин. В отличие от Роменса, он четко разграничивал врожденное (инстинктивное) поведение, результаты обучения и «способность к рассуждению» (reasoning) – то есть проявления собственно разума. Больше всего поражает именно это последнее различение – если учесть, насколько естественным казалось и тогда, и много позже отождествление разума с обучением и обучаемостью и насколько мало фактических оснований для их различения было у Дарвина.
Но вернемся к мейнстриму новорожденной зоопсихологии. Итак, поведение животных рассматривалось как внешнее проявление психических явлений и возможностей, позволяющее судить о них, сопоставляя наблюдаемое поведение с теми или иными формами поведения человека и приписывая животным соответствующие черты и явления человеческой психики. То есть соотношение психической жизни и ее внешних проявлений у человека было для зоопсихологов того времени своеобразным эталоном, образцом для сравнения. Парадокс, однако, заключался в том, что если источником знаний о поведении животных наряду с «рассказами бывалых людей» и случайными единичными наблюдениями все больше становились специально организованные наблюдения и эксперименты, то в отношении человека исследователям приходилось опираться лишь на обыденное знание и умозрительные рассуждения философов. Психологии как науки в 1860–1870-х годах попросту еще не существовало.
Не будет большим преувеличением сказать, что зоопсихология не только появилась раньше собственно психологии, но и в значительной мере стимулировала становление последней как самостоятельной дисциплины с собственным предметом и методом исследования. И преемственность между ними не ограничивалась только идейным влиянием. Уже в 1862/63 учебном году молодой ассистент знаменитого физиолога Германа Гельмгольца, преподававший в Гейдельбергском университете физиологию, прочел годичный курс лекций «О душе человека и животных» – одно из первых систематизированных изложений рождающейся зоопсихологии, – а затем издал их отдельной книгой. Лектора звали Вильгельм Вундт. Спустя 16 лет, будучи уже профессором Лейпцигского университета, он создал первую в мире психологическую лабораторию – и это событие традиционно считается условным моментом рождения научной психологии.
Книга Роменса была весьма популярна как у широкой публики (в ту пору всякому образованному человеку полагалось интересоваться новинками науки, а уж такая тема, как «ум животных», была обречена на успех у читателей), так и в научных кругах. Однако даже ко времени ее выхода безудержно-антропоморфистский подход автора разделяли уже не все исследователи – хотя его сторонники все еще преобладали. Начиная с 1880-х годов маятник научной моды начал движение в обратную сторону – поначалу медленное и незаметное, но набирающее скорость едва ли не с каждым годом.
Причин тому было несколько. Прежде всего, к этому времени эйфория первых последарвиновских лет уже немного повыгорела, эволюционный энтузиазм понемногу начал уступать место некоторой усталости, переходящей в разочарование. Первые, самые богатые плоды применения эволюционного подхода ко всем биологическим (и не только) проблемам были уже собраны, к другим оказалось не так-то просто подступиться. Виды упорно не хотели превращаться друг в друга, Фрэнсис Гальтон и особенно Август Вейсман поставили под сомнение возможность наследования приобретенных признаков (для большинства биологов того времени это выглядело как удар по самой идее эволюции, хотя оба скептика были убежденными эволюционистами), прямое наблюдение эволюционных процессов представлялось невозможным. Вакуум восполняли многочисленные умозрительные теории (механизмов наследственности, механизмов эволюции, происхождения тех или иных групп организмов или отдельных важных феноменов вроде многоклеточности и т. д.), в обилии которых терялись критерии научности и доказательности. Вместо содержательных объяснений все чаще предлагались чисто умозрительные (и притом довольно шаблонные) схемы.
Чтобы не быть голословным, приведу всего лишь один пример. Известно, что одно из самых наглядных достижений дарвинизма – объяснение покровительственной (маскирующей) окраски, существование которой очень трудно интерпретировать с точки зрения других эволюционных теорий (попробуйте представить животное, которое регулярно упражняется в цветовом сходстве с фоном!). Но побочным следствием этого успеха стало то, что как «покровительственную» стали трактовать едва ли не вообще любую окраску. Скажем, на болотах Флориды живет розовая колпица – довольно крупная птица из семейства ибисов. Она действительно окрашена в ярко-розовый цвет, резко контрастирующий с любым природным фоном. Однако некоторые зоологи XIX века совершенно серьезно рассматривали эту окраску как покровительственную: якобы она делает птицу незаметной в лучах рассветного и закатного солнца[19]. Начитавшись таких «объяснений», трезво мыслящие ученые стали сомневаться, существует ли покровительственная окраска вообще.
Усталость от таких фантазий к последним годам XIX века вылилась в то, что позже историки науки назовут «кризисом классического эволюционизма». Выход из него наметился лишь во второй половине 1920-х годов и окончательно свершился к середине века. Но это – тема отдельного разговора и какой-нибудь другой книги. Нам сейчас важно, что уже начиная с 1880-х годов эволюционный подход понемногу терял привлекательность в глазах ученых – и это рикошетом отражалось на популярности зоопсихологических идей и построений. Но это была, пожалуй, наименьшая из трудностей, с которыми им пришлось тогда столкнуться.
Гораздо важнее было то, что ученые постепенно убеждались: антропоморфистские толкования поведения занятны и увлекательны, но ничего не объясняют и никуда не ведут. В начале зоопсихологического бума казалось: признав, что в психическом отношении человек связан с животными столь же тесным родством, что и в отношении физическом, мы сможем судить о внутреннем мире животных. Дескать, мы же знаем, каким душевным переживаниям у нас соответствуют улыбка или нахмуренные брови, о чем мы думаем, делая запасы на зиму или пытаясь открыть задвижку неизвестной конструкции. Но чем больше зоопсихологи занимались реальным поведением животных, чем строже становились их требования к наблюдениям, тем отчетливее они понимали, что даже внешне сходные проявления психической жизни у человека и у животных могут выражать совершенно разные состояния: например, прямой взгляд в глаза у горилл означает вызов и угрозу. А как быть с теми психическими процессами, которые и у человека-то не имеют явного и стандартного внешнего выражения? Одни люди во время напряженного размышления трут лоб или чешут в затылке, другие теребят и вертят в руках мелкие предметы, третьи расхаживают из угла в угол, у четвертых нет вообще никакого постоянного внешнего проявления этого состояния… Ну и как это поможет нам заметить аналогичные процессы у животных?
Антропоморфизм оказывался совершенно бессилен перед видовыми различиями в поведении. Известно, например, что слонов можно обучить слушаться команд погонщика, носить на спине людей и грузы, участвовать в бою. Многочисленные попытки обучить тому же носорогов не привели ни к чему. В чем бы ни состояла причина этой разницы, ясно, что ее невозможно объяснить, проводя параллели с человеческим поведением.
Все больше и больше исследователей задавались вопросом: а надо ли вообще проводить эти параллели? Нельзя ли объяснить наблюдаемые феномены чем-то другим, простым и измеримым, не привлекая таких ненаблюдаемых и непроверяемых понятий, как «подумал», «вспомнил», «захотел» и т. п.?
На корабле зоопсихологии зрел бунт. И наиболее радикальным выразителем его стал немецкий (а затем американский) биолог с французским именем Жак Лёб. Этот ученый оставил свой след во многих областях биологии: он изучал искусственное оплодотворение и партеногенез у животных, процессы роста у растений, механизмы регенерации тканей, действие солей на живую клетку (в частности, на развивающуюся яйцеклетку), свойства белковых растворов, влияние температуры среды на продолжительность жизни животных и многое другое. И почти все его исследования можно объединить под рубрикой «действие простых физико-химических факторов (температуры, освещенности, концентрации определенных веществ и т. д.) на биологические процессы и явления». На любые загадки жизни Лёб искал простые ответы. Так же он подошел и к проблеме поведения животных.
В 1890 году он выпустил книгу «Гелиотропизм животных и его соответствие гелиотропизму растений». Основная ее идея была такова: известно, что у многих растений верхушки растущих побегов или цветы поворачиваются в сторону источника света. Это происходит за счет того, что свет каким-то (не важно, каким именно) образом тормозит растяжение молодых клеток. На затененной стороне стебля клетки растягиваются сильнее, чем на освещенной, и стебель изгибается в сторону источника света. Для объяснения этого процесса не требуется привлекать не только никаких «психических функций», но даже никакой центральной регуляции: каждая клетка в своем функционировании подчиняется простому правилу (чем больше света – тем меньше растяжение), не нуждаясь в каких-либо дополнительных сигналах ни от соседних клеток, ни от других тканей и органов растения[20].
А нельзя ли таким же образом объяснить и поведение животных? Вот, скажем, известно, что некоторые мелкие пресноводные ракообразные (например, многие дафнии) днем держатся преимущественно в менее освещенных придонных слоях воды. Понятно, что объяснить это предпочтение «по аналогии с человеком» невозможно. А надо ли? Представим себе, что каждая отдельная дафния вообще не выбирает, куда ей двигаться. Просто падающий на нее свет возбуждает ее нервную систему, и та заставляет мышцы сильнее и чаще махать ногами-веслами. Дафния движется хаотически, но на свету это движение усиливается, а в тени – ослабевает. В результате при исходно равномерном распределении дафний по всей площади пруда из света в тень будет перемещаться больше рачков, чем из тени в свет – до тех пор, пока разница концентрации дафний на свету и в тени не уравновесит разницу их активности. Никакой психологии, минимум физиологических допущений, в основном – чистая физика вроде молекулярно-статистических моделей Максвелла и Больцмана! По сравнению с этой простой и ясной схемой даже концепция рефлекса (предполагающая строгое соответствие между внешним воздействием и ответной реакцией) выглядела ненужным усложнением или частным случаем. К тому же для рефлекса нужна хоть какая-то нервная система, а механизмы типа вышеописанного могут существовать даже у одноклеточных. Правда, непонятно, почему те же дафнии все же остаются в толще воды, а не набиваются под камни и коряги, где освещенность еще ниже. Но, наверно, там, вблизи дна, включается еще какой-нибудь тропизм – так по аналогии с реакциями растений назвал эти явления Лёб[21].
Теория тропизмов привлекла немало внимания и с тех пор неизменно излагается во всех учебниках и справочниках по зоопсихологии. Правда, мало кто готов был видеть в ней универсальный ключ к проблеме поведения в целом. Даже самому Лёбу было ясно, что в понятиях тропизмов очень трудно описать и объяснить, например, феномен обучения. Чтобы не отказываться от столь милого его сердцу взгляда на поведение как на однозначное следствие универсальных свойств живой материи, он вынужден был наделить все живое «мнемической функцией» (способностью запечатлевать внешние воздействия, сходной со способностью фотореактивов запечатлевать падающий на них свет, но чувствительной не к одному лишь свету, а к любым факторам среды) и способностью к ассоциации, то есть к связыванию регулярно совпадающих во времени воздействий – в результате чего прежде безразличное воздействие начинает производить эффект, аналогичный эффекту воздействия значимого. Эти построения были вполне в духе того времени: подобные идеи высказывались и в биологии, и в психологии. Но апелляция к ним лишала теорию Лёба ее главного козыря – объяснения поведения простыми физическими процессами. Каков бы ни был механизм этой загадочной «способности к ассоциации», ясно было, что чем-нибудь вроде «возбуждения нервной ткани под действием света» тут не обойтись.
Впрочем, у теории тропизмов хватало проблем и на ее собственном поле. Ну хорошо, допустим, дафнии собираются на затененных участках по чисто статистическим причинам, двигаясь в целом хаотически. А почему, например, насекомые – в том числе сугубо ночные – летят на свет? И почему они приближаются к источнику света не по прямой, а по сужающейся спирали? Почему в начале своей жизни лососи скатываются вниз по течению, затем долго вовсе не заходят в пресные воды, а потом, идя на нерест, движутся строго против течения? Применительно к этим (и многим другим) явлениям слово «тропизм» оказывалось ничего не объясняющей тавтологией, вроде незабываемых «пояснений» мольеровского доктора Диафуаруса: опиум-де усыпляет, потому что в нем содержится усыпительное начало…
Но сама идея того, что поведение животных можно объяснить, не прибегая к психологии и не пытаясь «реконструировать» их ненаблюдаемую психическую жизнь, показалась привлекательной многим ученым. И даже те, кто по-прежнему считал изучение психики животных возможным и желательным, ощущали необходимость как-то ограничить безудержный антропоморфизм предыдущих десятилетий.
В 1894 году профессор зоологии и геологии Университетского колледжа в Бристоле Конви Ллойд Морган выпустил книгу «Введение в сравнительную психологию». В ней, как и в книге Роменса, приводилось немало фактов, связанных с поведением животных, – как установленных самим автором (в том числе путем специально организованных наблюдений), так и взятых из обширной зоопсихологической литературы. Однако подход автора к истолкованию этого материала был гораздо критичнее – о чем он сам сообщал читателям в следующих словах: «Ни при каких обстоятельствах мы не имеем права рассматривать то или иное действие как проявление какой-либо высшей психической способности, если его можно объяснить как проявление способности, занимающей более низкую ступень на психологической шкале». Сам автор назвал эту максиму «правилом экономии», а в историю наук о поведении животных она вошла как «канон Ллойда Моргана».
Бросается в глаза сходство канона Ллойда Моргана с бритвой Оккама – одним из самых известных и универсальных правил научной методологии: в тех случаях, когда факты допускают несколько возможных объяснений, надлежит выбирать самое простое и требующее меньше всего гипотетических допущений. Можно сказать (большинство комментаторов канона Ллойда Моргана так и говорят), что «правило экономии» и есть частный случай бритвы Оккама, ориентированный на задачи зоопсихологии. Это, безусловно, верно – и между прочим означает, что на «бритву Ллойда Моргана» распространяются все ограничения и парадоксы, касающиеся бритвы Оккама (о которых мы не будем здесь говорить, так как это увело бы нас далеко от темы). Но к этому следует добавить, что у канона Ллойда Моргана есть специфическая ахиллесова пята – сама идея «психологической шкалы».
Дело даже не в том, можно ли считать, скажем, изощренное совершенство действий осы помпила, от рождения знающей, как парализовать грозного паука, которого она еще ни разу не видела, «низшей психической способностью» по сравнению с поведением новорожденного цыпленка, который сначала клюет все мелкие предметы подряд, но вскоре обучается не обращать внимания на то, что оказалось несъедобным. Гораздо важнее, что представление о единой шкале психических способностей неизбежно заставляет нас видеть в инстинкте зачаточную форму разума и невольно вносить в любое сопоставление этих двух разноприродных компонентов поведения умозрительную идею «развития от низшего к высшему». Гоня наивный роменсовский прогрессизм в ворота, канон Ллойда Моргана сам открывает ему неприметную калитку.
Тем не менее само по себе выдвижение такого требования знаменовало отход от наивного антропоморфизма и появление в зоопсихологии некоторой внутренней критической рефлексии – что означало определенную зрелость этой дисциплины. При этом критика Ллойда Моргана отнюдь не ставила под сомнение возможность и необходимость психологической интерпретации поведения животных – речь шла только о том, чтобы ввести эту интерпретацию хоть в какие-то методологические рамки. Можно даже сказать, что книга Ллойда Моргана была полемичной не только по отношению к старой антропоморфистской зоопсихологии, но и по отношению к уже сложившейся альтернативе ей – попыткам вовсе исключить из рассмотрения психику при анализе поведения. И хотя формально предельным случаем следования канону Ллойда Моргана можно считать подход Лёба, в реальных научных баталиях 1890-х годов эти ученые оказались в разных лагерях.
Как уже говорилось, теория Лёба привлекла много внимания, но мало сочувствия. Однако общая идея заменить в объяснении поведения ненаблюдаемые психологические факторы на что-нибудь более осязаемое не только не была скомпрометирована неудачей Лёба, но с каждым годом выглядела все соблазнительнее. Тем более что как раз в это время начала вырисовываться подходящая кандидатура для такой замены: вторая половина и особенно конец XIX века были временем бурного развития экспериментальной физиологии. И одним из самых успешных направлений в ней стала физиология нервной системы, где царила уже знакомая нам идея рефлекса.
Как мы помним, концепция «отраженного действия» была выдвинута еще Декартом в первой половине XVII века и в равной мере относилась как к физиологии животных, так и к их поведению (тем более что сам Декарт не видел существенной разницы между этими двумя областями, считая то и другое производным от анатомии). На рубеже XVIII–XIX веков эта идея (уже под привычным нам именем «рефлекса») возродилась в физиологии и до поры до времени не выходила за ее пределы. Но уже в 1863 году русский физиолог Иван Сеченов опубликовал свою знаменитую работу «Рефлексы головного мозга», содержавшую не только ряд интересных и нетривиальных экспериментальных результатов и теоретических положений, но и явно выраженную претензию на научное описание поведения человека на основе концепции рефлекса[22]. (Напомним: в эти годы психологии как самостоятельной науки еще не существует[23], область душевной жизни традиционно считается вотчиной философии, но естествознание уже заявляет свои притязания на нее – и работа Сеченова стала одной из таких заявок.) На родине автора работа имела успех шумный и скандальный (поскольку была воспринята прежде всего как манифест воинствующего материализма), за пределами же России на нее обратили внимание только профессионалы, отнесшиеся к ней с интересом, но вполне спокойно. В любом случае в ту пору это было скорее программой на будущее, чем реальной попыткой создания полноценной теории. Однако к 1890-м годам рефлексология и вообще физиология не только продвинулись далеко вперед, но и стали одной из «горячих точек» науки – областью, от которой ждут открытий, важных не только для нее самой. Чарльз Шеррингтон уже начал свои исследования по выяснению основных закономерностей рефлекторной деятельности нервной системы, и в его работах так соблазнительно просматривалась возможность представить любой акт поведения как более или менее сложную последовательность рефлексов[24]. И конечно же, нашлись желающие пойти по этому пути.
В 1898 году физиолог Альбрехт Бете опубликовал статью, заголовок которой говорил сам за себя: «Должны ли мы приписывать муравьям и пчелам психические качества?» Автор полагал, что если не все животные вообще, то уж беспозвоночные, во всяком случае, представляют собой «рефлекторные машины». Но даже если у высших животных и есть нечто похожее на психику, научное изучение ее все равно невозможно, поскольку психические явления по определению субъективны. Зато можно изучать рефлекторные механизмы, совокупность которых, собственно, и создает то, что мы называем поведением. В следующем году Бете и двое его коллег – Теодор Беер и Якоб фон Юкскюль[25] – предложили радикальную программу «объективизации» научной терминологии, заключающейся в полном изгнании из нее психологических терминов и стоящих за ними понятий. Вместо слова «память» предлагалось говорить и писать «резонанс», вместо «видеть» – «воспринимать свет» и т. д.
Нельзя сказать, что зоопсихологи приняли эту идею на ура (хотя среди физиологов она нашла немало сторонников – и кое с кем из них мы еще встретимся). Среди оппонентов «программы объективизации» вскоре оказался даже один из ее авторов – Якоб фон Юкскюль (подробнее см. главу 4). Но так или иначе в ходе дискуссий 1890-х годов перед всеми зоопсихологами встала довольно неприятная дилемма: ничем не ограниченный произвол ничего не объясняющих «психологических» интерпретаций – или возвращение к декартовскому взгляду на животных как на «рефлекторные машины». Прямо как в русской сказке: направо ехать – убиту быть, налево ехать – коня потерять…
Прежде чем двинуться дальше, я должен извиниться перед читателями за некоторое лукавство. Книга посвящена истории изучения поведения животных, но никто из исследователей, о которых шла речь до сих пор, не определял предмет своих интересов такими словами. От античности и до самых последних лет XIX века философы и ученые писали о «повадках», «привычках», «обычаях», «нравах», «уме», «характере», «манерах», «умениях», «способностях», «инстинктах», «чувствах», «воле», «душевной деятельности» и тому подобных категориях. (Даже сами слова, которые мы переводим словом «поведение», если и употреблялись, то довольно редко и отнюдь не как научный термин.) Внимательное чтение показывает, что часть этих слов – «повадки», «обычаи» и некоторые другие – обозначали как специфические формы поведения того или иного вида животных, так и то, что мы сегодня отнесли бы к его экологическим характеристикам: где он предпочитает селиться или держаться, чем питается, как переживает зиму и т. п. Другие же слова – в частности, чуть ли не самое характерное для этой темы слово «инстинкт» – у старых авторов обозначали одновременно как некие психические факторы (причем тоже довольно разнородные: в одних случаях это могли быть эмоции, в других – побуждения к конкретным действиям и т. д.), определяющие поведение животных, так и сами формы поведения, в которых эти факторы проявлялись. И дело тут было не в терминологической небрежности исследователей. Просто для них всех, к какой бы традиции они ни принадлежали – философской, натуралистической или физиологической, – поведение было лишь внешним проявлением психических явлений и качеств. Собственно, оно и интересовало их не само по себе, а именно как отражение внутреннего, психического мира животного, дающее возможность судить о нем. И для зоопсихологов XIX века, и тем более для их предшественников называть одними и теми же словами внешние действия и предположительно стоящие за ними психические феномены было столь же естественно, как, скажем, для палеонтолога – называть «позвонками» или «челюстями» как реальные окаменелости (по сути – куски камня), так и структуры тела некого древнего существа – никем не виданного, но реконструированного на основании этих окаменелостей.
Однако с середины 1880-х годов в работах англоязычных зоопсихологов изредка, а в 1900-е годы – уже регулярно используются слова, обозначающие именно и только поведение: conduct и современное behavior. И это было не просто веянием словесной моды. Как показала современный российский историк науки Елена Гороховская, специально исследовавшая этот вопрос, данный лексический сдвиг отражал изменения в самом взгляде ученых на проблему, сдвиг фокуса их внимания. Начинают появляться работы, в которых те или иные формы поведения (описываемые все еще в основном в старых терминах «инстинктов», «привычек», «ума» и т. д.) рассматриваются уже не как средство судить о психике животных, а как самостоятельный предмет изучения. В 1898 году известный американский зоолог Чарльз Уитмен прочитал в основанной им Морской биологической лаборатории в Вудс-Холе обширную лекцию, которая, начиная прямо со своего названия – «Поведение животных», – утверждала поведение именно как самостоятельный и самодостаточный предмет исследований. В следующем году Уитмен издал свою лекцию в виде брошюры, а еще через год уже знакомый нам Конви Ллойд Морган выпустил книгу с тем же названием.
Новое видение предмета исследований не означало решительного отказа от изучения психики животных (во всяком случае, не для всех исследователей – ожесточенные дискуссии на тему «Легитимна ли сравнительная психология?»[26] продолжались еще два десятилетия). Но распределение ролей решительно изменилось: теперь уже не поведение рассматривалось как внешнее проявление психики (только этим и интересное), а психика – как внутренние механизмы поведения. Которые можно пытаться выяснить, а можно обойтись и без этого – смотря какие задачи ставит себе конкретный исследователь в конкретной работе и допускает ли он вообще возможность изучения психики животных. Несколько упрощая, можно сказать: то, что было фигурой, стало фоном, и наоборот – как на хрестоматийной картинке гештальтпсихологов, где по желанию можно видеть то бокал, то сблизившиеся для поцелуя лица. Собственно, только с этого времени – самых последних годов XIX века – и можно говорить об «изучении поведения животных» в строгом смысле слова.
Обсуждая возможные причины такого концептуального сдвига, Елена Гороховская называет среди них наметившийся в конце XIX века поворот зоологии к изучению живых животных в их естественной среде обитания, становление экологии и экспериментальной психологии как самостоятельных дисциплин, появление новых экспериментальных направлений в нейрофизиологии; а главное – возникновение и развитие зоопсихологии. К этому можно, пожалуй, добавить философский контекст: именно в это время в умах образованного общества в целом и особенно среди профессиональных ученых стремительно набирал популярность так называемый второй позитивизм (эмпириокритицизм), согласно которому наука могла заниматься только предметами, хотя бы в принципе доступными для объективного наблюдения (подробнее мы будем говорить об этом в главе 3). Но, как мне кажется, главной причиной действительно оказалось развитие зоопсихологии, его внутренняя логика. Поворот к изучению поведения как самостоятельного феномена стал своеобразным ответом зоопсихологии на ту дилемму, к которой она пришла к концу 1890-х годов: антропоморфизм либо механицизм.
На первый взгляд выход, предлагаемый таким смещением акцента исследований, был сугубо формальным – не выходом даже, а остановкой, отказом выбирать из двух зол. Однако на деле превращение поведения в самостоятельный предмет исследований позволило добиться на удивление значительных успехов в понимании этого предмета. Среди ученых, занявшихся новым предметом, с самого начала наметились два основных направления. Те и другие занимались исследованием поведения – но при этом у них разительно отличались не только методы и объекты, но и основные понятия и категории, в которых они осмысляли результаты своих исследований. В частности – представление о том, что же такое это самое «поведение» и из чего оно состоит. Одно направление сложилось в основном в США, было представлено преимущественно психологами и интересовалось главным образом феноменом обучения – то есть индивидуальных адаптивных изменений поведения. Его основным методом стал лабораторный эксперимент. Другое направление развивалось главным образом в Европе (прежде всего в Англии и Германии), объединяло в основном зоологов и изучало в первую очередь врожденные, неизменяемые формы поведения, характерные для целых видов.
Вся дальнейшая история наук о поведении животных связана в основном с этими направлениями, с разработанными ими методами и теоретическими представлениями (хотя были и другие, не связанные с ними школы и традиции – и по крайней мере об одной из них не сказать просто невозможно). Им и их наследникам будут посвящены почти все последующие главы нашей книги. Но прежде чем продолжить рассказ о них, мы должны бросить хотя бы беглый взгляд на фигуру, которая осталась вне школ и направлений, вдали от теоретических споров – но без которой невозможно представить историю изучения поведения животных.
Интермедия 1
Натуралист на пустыре
Положение Жана Анри Фабра в истории науки своеобразно и довольно двусмысленно. Еще при жизни он получил множество самых престижных научных и государственных наград и, наверное, по сей день остается самым знаменитым энтомологом всех времен и народов. Но при этом мало кто может вразумительно сказать, что же, собственно, сделал этот ученый, какие явления он открыл, какие теории выдвинул. Если людей, знакомых с историей биологии, спросить, кто такой Фабр, то ответы наверняка будут содержать самые лестные эпитеты – если уж не «великий», то как минимум «крупнейший» и «выдающийся». А если просто попросить назвать наиболее значительных биологов XIX века, то четверо из пяти не упомянут Фабра вовсе. Словно бы человек достиг выдающихся успехов в своей области, да только сама эта область – как бы и не совсем наука. Или, по крайней мере, лежит где-то далеко в стороне от магистральных проблем и путей науки.
Поприще Фабра действительно необычно для его века. В ту пору «естественная история» еще не была поделена границами отдельных дисциплин: все занимались всем, и один и тот же ученый мог с успехом исследовать то структуру горных пород, то строение усоногих раков, то экологическую роль дождевых червей, то способы выражения эмоций у приматов. Бесспорной царицей биологии была сравнительная анатомия, а другими «горячими точками», наиболее бурно развивавшимися направлениями – сравнительная эмбриология и филогенетика. В географическом же измерении передний край науки проходил вдали от обжитой Европы – в джунглях Амазонии и Малайи, в пустынях Центральной Азии, в морях и океанах. Фабр тоже интересовался широким кругом проблем естествознания, писал популярные книги по химии и астрономии, создал отличные атласы грибов Южной Франции и морских раковин Корсики, но свои оригинальные исследования ограничил единственным классом живых существ – насекомыми (лишь изредка заглядывая к их соседям по системе природы – паукообразным). Их он изучал в ближайших окрестностях городов, где жил, а в последние десятилетия – так просто рядом с собственным домом или внутри него. И хотя он уделял некоторое внимание их строению и даже пытался выделять и описывать новые виды (позднее упраздненные), главным предметом его интересов было поведение насекомых. Этот эфемерный феномен Фабр и изучал более полувека.
Биография Фабра описана подробно и многократно, в том числе и на русском языке (можно напомнить биографический очерк Н. Н. Плавильщикова, предпосланный русскому изданию однотомника избранных трудов Фабра, или книгу И. А. Халифмана и Е. Н. Васильевой в серии «Жизнь замечательных людей»). Поэтому напомним только ключевые моменты. Фабр родился 22 декабря 1823 года в довольно бедной семье, однако благодаря своим способностям и интересу к наукам смог получить образование и стать учителем начальной, а затем и средней школы. Преподавал в городе Карпантра, затем в Аяччо на Корсике, а последние 19 лет своей учительской деятельности – в Авиньоне. В последние годы Второй империи был привлечен министром просвещения Виктором Дюпюи к работе над проектом реформирования школьного образования и даже успел получить свой первый орден Почетного легиона. Но после падения Наполеона III эти знаки внимания вышли Фабру боком: в 1871 году он был уволен из авиньонского лицея и фактически отлучен от единственной профессии, которой владел. Однако примерно в это время вошли в моду научно-популярные книжки по естествознанию для детей, которые Фабр начал писать, еще будучи учителем. Доход от этих книг не только обеспечил Фабру и его семье кусок хлеба и крышу над головой, но и позволил ему в 1879 году осуществить свою давнюю мечту: неподалеку от Оранжа (где он жил после изгнания из школы), в городке Сериньян, Фабр купил дом и прилежащий к нему довольно большой участок земли – бывший виноградник. Официально участок именовался «Пустырем» (harmas), и это слово вскоре стало названием всего «имения» Фабра, как бы подчеркивая, что пустырь, превращенный новым владельцем в микрозаповедник для насекомых и энтомологическую лабораторию под открытым небом, является главной ценностью владения. В «Пустыре» Фабр и прожил все оставшиеся годы, засадив часть его плодовыми деревьями и цветущими кустами, а большую часть оставив в нетронутом виде.
Миром насекомых Фабр увлекся уже во взрослом возрасте, когда ему перевалило за 30, и продолжал полевые наблюдения почти до конца своей долгой жизни (он умер 11 октября 1915 года, немного не дожив до 92 лет). В 1855 году вышла его первая научная статья – об одиночной осе церцерис. Поселившись в «Пустыре», Фабр стал публиковать свои наблюдения в виде серии книг под общим названием «Энтомологические воспоминания». Томики «Воспоминаний» выходили регулярно три десятилетия, последний, десятый вышел в 1909 году. А вся научная деятельность Фабра вместила в себя первый период истории зоопсихологии целиком: начав свои исследования за несколько лет до выхода «Происхождения видов», Фабр дожил до манифеста Уотсона и становления бихевиоризма (см. главу 3), хотя вряд ли узнал об этом: в последние годы он уже не работал с литературой, да и прежде не очень интересовался отвлеченными вопросами. Прогремела перевернувшая «естественную историю» дарвиновская революция[27], зародились, расцвели и вступили в полосу кризиса зоопсихология и собственно психология, вспыхнула и угасла теория тропизмов Лёба, Чарльз Уитмен и Конви Ллойд Морган наконец-то утвердили поведение животных (то, чем Фабр занимался к этому времени уже почти полвека) в качестве самостоятельного предмета исследований, Иван Павлов начал публиковать первые результаты изучения условных рефлексов. Круто менялась и вся биология: процвел и увял неоламаркизм и другие эволюционные построения XIX века, едва возникшая генетика заявила свои притязания стать основой всех наук о живом, эспериментальная эмбриология бросала вызов последовательному материализму предыдущего столетия, в круг понятий ученых вошли хромосомы, хлоропласты, вирусы, гормоны, витамины, фагоциты, антитела, группы крови. А упрямый старый натуралист день за днем и год за годом смотрел и описывал, как жук-навозник катит свой шар, как личинка осы сколии с церемонностью и неизменностью ритуала королевской трапезы ест свое огромное блюдо – личинку бронзовки, как жуки-могильщики закапывают в землю трупик мыши и как гусеницы походного шелкопряда идут своим бесконечным походом… Его не соблазняли возможности, открываемые новыми приборами и методами, он не вставал под знамена того или другого теоретического лагеря и не обсуждал корректность методологии. Он наблюдал.
Что он увидел там, на своем пустыре, за полвека с лишним сосредоточенных наблюдений? Помимо детального и достоверного описания поведения множества видов насекомых, Фабру принадлежит целый ряд открытий, каждое из которых могло бы вписать имя своего автора в историю науки. Он открыл явление гиперметаморфоза у жуков-нарывников: шустрая и стройная личинка первого возраста (триунгулин), закончив свое развитие и перелиняв, превращается не в куколку и не во взрослую особь, а опять-таки в личинку, но совсем другого типа – толстую, червеобразную, малоподвижную. Он опроверг миф о «самоубийстве» скорпиона, окруженного кольцом огня, и разобрался с механизмом мнимого «притворства» насекомых (реакции замирания, когда внезапно потревоженный жучок падает и неподвижно лежит, прижав лапки к телу, словно мертвый). И, в частности, он разгадал волновавшую натуралистов предыдущего поколения загадку: почему добыча ос-охотниц, сложенная в норку, не высыхает и не разлагается за то время, что ею питается личинка осы? Леон Дюфур, исследовавший этот феномен на одном из видов осы церцерис, охотящемся за жуками-златками, предположил, что оса, убивая жука жалом, одновременно впрыскивает ему какое-то вещество, препятствующее гниению. Фабр доказал, что дело обстоит совсем иначе: церцерис не убивает, а парализует жука, поражая его нервные узлы. Жук лишается подвижности, но остается живым и свежим – до тех пор, пока прожорливая личинка осы не доберется до его жизненно важных органов. И, как показали дальнейшие исследования Фабра, точно так же поступают другие осы-охотницы: аммофила – с гусеницей озимой совки, сфекс – с кузнечиком, помпил-каликург – с тарантулом и т. д.
Таким образом, старое доброе понятие «инстинкт» представало в совершенно новом свете. Одно дело – просто воткнуть жало в жертву определенного вида и впрыснуть ей дозу яда, который довершит остальное. Как ни удивительно, что новорожденная церцерис, не видавшая еще ни одного жука, знает, что ее добыча – златки, это, в конце концов, не более удивительно, чем столь же врожденное знание кошки о том, как следует поступать с мышами. Но точные и строго дозированные инъекции в нервные узлы, расположение которых невозможно установить по внешнему виду жертвы, – это нечто иное. Откуда оса могла получить столь точное и изощренное знание?
Царивший в то время в зоопсихологии антропоморфизм тут был совершенно бессилен: у человека нет столь сложных и подробных врожденных программ поведения, и ему трудно даже представить, что могла бы думать и чувствовать оса, выполняя такую программу. Не впечатлял и эволюционный подход. Дарвин писал, что инстинкты формируются так же, как и морфологические структуры: отбором мелких случайных изменений (в данном случае – поведения). Но как это приложить к осам-парализаторам? Когда-то они тыкали жалом в кого попало, потом отбор сохранил только тех, что жалили жуков, затем – тех, кто предпочитал исключительно златок, и наконец – только тех, кто наносил удары строго в нервные узлы и никуда больше? Но опыты Фабра показали: ни на мертвом, ни на недообездвиженном жуке личинка осы не дотянет до окукливания. Если бы эволюция шла таким путем, осы церцерис давным-давно исчезли бы с лица Земли, не достигнув нынешнего совершенства в своих приемах. Впрочем, что там церцерис! Ее добыча защищена прочным панцирем, но сама совершенно безоружна. А вот другая оса-парализатор – помпил – охотится на крупных ядовитых пауков, и точка, куда она должна нанести удар, – прямо возле смертоносных крючков-хелицеров. Малейшая неточность в движениях – и охотник сам превратится в дичь. Можно ли представить, что такое поведение возникло как цепочка мелких случайных изменений?![28]
Тогда, может быть, правы последователи модного в 1870–1900-е годы направления – психоламаркизма? Может, изощренные приемы ос-охотниц когда-то были изобретены сознательно, затем в результате многократного применения вошли в привычку и в конце концов закрепились наследственно так, что теперь каждая оса владеет ими от рождения? Эта схема, выдвинутая, как мы помним, в середине XVIII века Кондильяком, в последней трети XIX столетия снова обрела некоторую популярность.
Вопрос о соотношении инстинкта и разума – пожалуй, единственный крупный и острый теоретический вопрос, явно интересовавший Фабра. Снова и снова сериньянский мудрец обращался к нему, исследуя самые сложные и совершенные формы поведения у самых разных видов своих шестиногих подопечных и пытаясь найти в их действиях если не разум, то хотя бы сознательное намерение, оценку результата своих усилий и соотнесение дальнейших действий с этим результатом. И всякий раз ответ был отрицательным. Насекомое может поражать сложностью и совершенством своих действий – но лишь до тех пор, пока оно действует в стандартной, веками повторявшейся ситуации и встречается лишь с такими трудностями, с которыми регулярно сталкивались бесчисленные поколения его предков. Все, чего в естественных условиях не бывает или бывает достаточно редко, ставит насекомое в тупик и превращает его столь целесообразное поведение в бессмысленное и порой самоубийственное. Вот молодая, только что вылупившаяся из куколки пчела-каменщик покидает свое гнездо, прогрызая пробку из самодельного цемента, которой запечатала вход ее мать. Если дополнительно закрыть вход в гнездо кусочком бумаги, плотно прилегающим к пробке, пчела без труда прогрызет и ее. Но если накрыть гнездо колпаком из такой же бумаги, юная пчела так и умрет под ним: в тот момент, когда она выбралась в свободное пространство и расправила крылья, программа прогрызания останавливается и больше уже не запускается. Вот гусеницы походного шелкопряда на марше: они движутся строго друг за другом, каждая ползет вдоль шелковинки, оставленной предыдущей. Если сделать так, чтобы первая гусеница наткнулась на шелковый след последней, колонна замкнется в кольцо – и гусеницы будут ходить по кругу, пока не упадут от истощения, но ни одна из них не попытается прервать бессмысленное кружение. И оса аммофила деловито замуровывает норку, из которой Фабр только что выкинул парализованную гусеницу вместе с отложенным на нее яичком. Они валяются тут же, на виду у осы, но она не обращает на них ни малейшего внимания.
Многолетние наблюдения и остроумные опыты Фабра доказали: инстинкт и разум – не две степени развития одной и той же способности, как полагал Роменс и большинство их современников. Это два совершенно разных феномена, сами принципы действия которых абсолютно различны. Инстинкт может развиваться, становясь сложнее и совершеннее, но никакое развитие не превратит инстинктивное действие в хоть немного разумное – и точно так же никакая «привычка» не превратит разумное действие в инстинктивное. Между этими двумя формами поведения – пропасть, и чем дальше они развиваются, тем дальше уходят друг от друга.
Сегодня этот категорический вывод нуждается в некоторых оговорках. Разум и инстинкт действительно имеют разную природу и никогда не превращаются друг в друга, но могут причудливым образом переплетаться и взаимодействовать в текущем поведении. Но сейчас нас интересует другое: казалось бы, такая позиция просто не оставляет Фабру иного выхода, как разделить набирающий силу взгляд на животных – ну хотя бы только на насекомых – как на автоматы, лишенные всякой психической жизни. И действительно, в одном из редких у него «лирико-теоретических» отступлений мы читаем: «Насекомое не свободно и не сознательно в своей деятельности. Она лишь внешнее проявление внутренних процессов, вроде, например, пищеварения. Насекомое строит, ткет ткани и коконы, охотится, парализует, жалит точно так же, как оно переваривает пищу, выделяет яд, шелк для кокона, воск для сотов, не отдавая себе отчета в цели и средствах. Оно не сознает своих чудных талантов точно так же, как желудок ничего не знает о своей работе ученого химика».
Однако при чтении книг Фабра возникает неотвязное ощущение конфликта между тем, что в них утверждается, – и тем, как это говорится. Снова и снова Фабр доказывает: все поведение того или иного насекомого – лишь проявления инстинкта, там нет ничего разумного и сознательного, и само шестиногое существо не вольно хоть что-то изменить в своем поведении. Но при этом сам слог, выбор слов, построение фраз проникнуты горячим сочувствием и уважением к этим странным созданиям, столь похожим и столь непохожим на нас. Текст пестрит выражениями типа «труженик», «мои маленькие друзья», «нежная мать», «свирепый охотник оказался жалким строителем» и т. п. Фабр пишет о «мимике торжества» у аммофилы, а от лица другой осы-парализатора восклицает: «Самца на обед моей личинке! За кого вы ее принимаете?» Конечно, это не более чем литературный прием, призванный облегчить читателю восприятие сообщаемых сведений, «оживить» рассказ о странных существах. (Фабр был не чужд литературных амбиций – и, между прочим, «Энтомологические воспоминания» были в 1904 году номинированы на Нобелевскую премию по литературе.) Но этот прием – по замыслу автора или вопреки ему – достигает и еще одной цели: не имея возможности достоверно изобразить или описать внутренний мир насекомых, Фабр тем не менее поддерживает в читателе уверенность, что этот мир существует. Да, за действиями насекомых стоит совсем не то, что за внешне сходными с ними действиями людей, – но что-то все же стоит. Это «что-то» трудно исследовать и почти невозможно вообразить – но и игнорировать его нельзя.
Фабр не создал никакой общей теории поведения животных, не примкнул ни к одной из теорий, созданных его современниками или предшественниками, и вообще мало обсуждал общие вопросы (за исключением вопроса о соотношении инстинкта и разума). «Тысячи теорий не стоят одного факта», – писал он. В этой нелюбви к теоретизированию была и сила его, и слабость. Сила – потому что она сообщала его наблюдениям непредвзятость и достоверность, делая его труды ценнейшим сводом надежных фактических данных для ученых любых школ и направлений. Слабость – потому что «Монблан фактов», не пронизанных единой глубокой идеей, плохо удерживается в памяти коллег и потомков и, следовательно, слабо влияет на развитие науки.
Фабр – безусловный наследник традиции великих французских натуралистов, на сочинениях которых он рос. Но когда он вошел в науку, времена Бюффонов и Ламарков, видевших в живой природе наглядное проявление своих общефилософских взглядов, уже безвозвратно миновали. А эпоха создания теорий, объяснявших поведение животных из него самого, время Лоренца и Тинбергена началось, когда Фабра уже не было в живых.
И все же, помимо множества конкретных наблюдений и ряда частных открытий, помимо доказательства инстинктивного характера почти всего наблюдаемого поведения насекомых, Фабр оставил после себя еще кое-что: метод. Сосредоточенное, многолетнее, тщательное и беспристрастное вглядывание в естественное поведение своего «объекта», при необходимости дополняемое простыми и остроумными полевыми экспериментами. В главе 4 мы увидим, какие удивительные плоды принес этот метод в работах ученых XX века – тех из них, кто сумел им воспользоваться.
Глава 3
Душа отменяется
Почтительно попрощавшись с одинокой и независимой фигурой Фабра, мы возвращаемся к мейнстриму мировой зоопсихологии рубежа веков. Итак, мы остановились на том, что буквально в самые последние годы XIX столетия поведение животных было осознано как самостоятельный феномен и предмет изучения, а само это словосочетание становилось все более популярным, появляясь в названиях статей, книг и даже специальных журналов. И что в исследованиях этого нового предмета сразу же наметились два подхода – пока еще не противопоставленные друг другу и никак себя не называющие. Задним числом, зная, в какие научные направления развились эти два зачатка, мы можем условно обозначить их довольно неуклюжими именами «протобихевиоризм» и «протоэтология». Эта глава посвящена судьбе первого.
Массовое сознание любит украшать историю науки легендами о предметах или происшествиях, якобы подсказавших тому или иному великому ученому прославившую его идею. Кто не слыхал о ванне Архимеда, яблоке Ньютона или чайнике Уатта? В истории «лабораторной зоопсихологии» такую роль – и не в позднейшей легенде, а на самом деле – сыграла собака. В уже знакомой нам книге Конви Ллойда Моргана «Введение в сравнительную психологию» автор, иллюстрируя, как поведение, выглядящее «проявлением высшей психической способности», объясняется «проявлением способности, занимающей более низкую ступень», описывает собственного терьера Тони, наловчившегося (так и хочется написать – насобачившегося) отпирать садовую калитку. Всякий, кто увидел бы только окончательную форму этого поведения – собака бежит к калитке и уверенно отодвигает задвижку, – счел бы это несомненным проявлением интеллекта, пониманием связи между положением задвижки и невозможностью открыть калитку. Но хозяин видел, как возник этот навык: пес крутился около калитки, трогал, дергал, толкал и тянул все, до чего мог достать, и в какой-то момент сдвинул задвижку – после чего обнаружил, что калитка беспрепятственно открывается. Вскоре он уже сразу отодвигал задвижку. Ллойд Морган истолковал это как действие методом проб и ошибок: животное совершает множество разнонаправленных и в общем-то случайных действий – но всякий раз оценивает результат. И когда какое-то действие приводит к успеху, животное запоминает его и в дальнейшем воспроизводит уже целенаправленно.
Пример с терьером и свою интерпретацию его Ллойд Морган повторил и в своих лекциях о зоопсихологии, прочитанных в 1896 году в США. Одним из его слушателей был молодой американский психолог Эдвард Торндайк, увидевший в этом нечто большее, чем просто довод в пользу «правила экономии». Для Торндайка это единичное наблюдение стало готовой основой экспериментальной методики изучения поведения животных, а слова о «методе проб и ошибок» – подходящей рабочей гипотезой. Конечно, садовая калитка – не самый удобный экспериментальный стенд, но можно ведь посадить подопытное животное в ящик с дверцей, отпирающейся изнутри, и посмотреть, как оно будет оттуда выбираться.
Торндайк так и сделал. Его первые подопытные – кошки – исправно вертелись в сконструированных им «проблемных ящиках», не только подтверждая модель «проб и ошибок», но и позволяя количественно оценивать динамику обучения – по времени отыскания пути к свободе. Кошка, однажды выбравшаяся из ящика, в следующий раз совершала нужное действие гораздо быстрее, а после нескольких сеансов уже задерживалась в ящике не дольше, чем нужно было, чтобы нажать на педаль или рычаг. При смене конструкции запора весь процесс начинался сначала – и приходил к тому же финалу.
Уже в 1898 году Торндайк изложил результаты своих экспериментов в книге, которую назвал… «Интеллект животных». Взяв у Ллойда Моргана схему эксперимента и гипотезу «научения путем проб и ошибок», он совершенно проигнорировал принципиальное для Моргана противопоставление такого научения «разумному решению». В конце концов, что такое «разум», как не умение достигать нужного результата в ситуациях, для которых у животного нет готового, врожденного ответа? Вот вам такая ситуация, вот животное, успешно находящее решение, – и вот механизм того, как оно это делает! Чего же вам еще? Противопоставлять этому простому и эффективному механизму туманные рассуждения о каком-то другом «разуме» означает играть в слова, пренебрегая возможностью объективного изучения поведения.
Позднее Торндайк значительно расширил круг животных в своих опытах, исследовав представителей разных отрядов млекопитающих. При этом оказалось, что скорость формирования простого навыка у них практически одинакова и больше зависит от индивидуальных качеств особи, чем от ее видовой принадлежности. Казалось бы, это должно было заставить усомниться в том, что обучение «методом тыка» и разум – одно и то же. Однако Торндайк и увлеченные его примером энтузиасты экспериментальной психологии сделали совсем другой вывод: раз динамика обучения у всех видов примерно одинакова, значит, этот процесс можно с равным успехом изучать на ком угодно – например, на белых крысах. Это делало изучение поведения доступным практически любому исследовательскому центру. А предложенные Торндайком количественные параметры процесса обучения открывали соблазнительную возможность превратить исследования поведения в столь же строгую научную дисциплину, как экспериментальная физика. Дело, казалось, было за малым: правильно выбрать переменные, от которых может зависеть «функция поведения».
И вот в 1908 году двое сравнительных психологов – Роберт Йеркс и Джон Додсон – сформулировали закономерность, признанную впоследствии основным законом обучения. Они изучали зависимость успешности обучения от уровня мотивации. Первую из этих величин измеряли уже знакомым нам способом – временем, необходимым для нахождения правильного решения (или числом проб, если его можно было точно подсчитать). А мерой мотивации служила величина подаваемого на лапы напряжения (подкрепление в этих опытах было отрицательным – крыса получала удары тока, пока не решала задачу). Варьируя ее, Йеркс и Додсон обнаружили, что с ростом мотивации успешность решения задачи (величина, обратная затрачиваемому времени) сначала растет, а затем, достигнув некоторого максимума, начинает падать. Получалось, что для каждой задачи существует оптимальный уровень мотивации, при котором задача решается успешнее всего. Сравнивая эти оптимумы для разных задач, исследователи обнаружили еще одну закономерность: чем труднее задача – тем ниже оптимальный для нее уровень мотивации.
Разумеется, во всех случаях речь шла о средних величинах. Последующий анализ первичных, «сырых» данных Йеркса и Додсона показывает, что при увеличении мотивации скорее возрастал разброс индивидуальных показателей успешности. А поскольку «сверху» эта величина ограничена чисто физическими причинами (грубо говоря, крыса не может «решить задачу» за время меньшее, чем нужно, чтобы просто добежать до рычага и нажать его), увеличение разброса оказывается асимметричным и приводит к снижению средней величины. Уязвимым с современных позиций выглядит и приравнивание силы мотивации к физической величине подкрепляющего воздействия. Тем не менее обе основных идеи Йеркса и Додсона (о существовании оптимального уровня мотивации и о том, что для однотипных задач он тем ниже, чем труднее задача) были впоследствии подтверждены на самых разных объектах – в том числе и на людях, которым предлагали собирать головоломки, вознаграждая правильные решения реальными деньгами. Так что «закон Йеркса – Додсона» быстро вошел во все учебники психологии, укрепляя представление о том, что именно таким путем – в строгих лабораторных экспериментах, регистрируя объективные и поддающиеся измерению показатели и не обращаясь ни к каким субъективным характеристикам – можно раскрыть основные закономерности, управляющие поведением животных. И людей – ведь Йеркс и Додсон показали, что между поведением человека и белой крысы в этих опытах нет принципиальной разницы. Все это еще более подогревало ожидания, привлекая в «экспериментальную психологию» молодых, энергичных, амбициозных ученых.
Таково было общее направление умов, интеллектуальный фон, на который легли первые сообщения о поразительных результатах, полученных русским физиологом Иваном Павловым и его сотрудниками. В самом обращении русского ученого к этой теме ничего особенного для американских психологов не было: в 1900-х годах, особенно во второй их половине, исследование процессов обучения стало для них уже центральной темой, так что их не удивляло, что и по другую сторону Атлантики кто-то наконец занялся этой интереснейшей областью. Но Павлов подошел к ней с совершенно неожиданной стороны: первые же его опыты показывали возможность адаптивного изменения («обучения») вегетативной функции – слюноотделения. Подобные функции у человека находятся вне контроля сознания[29], и то, что вовлечь их в процесс обучения оказалось так же легко, как и произвольные движения, заставляло взглянуть на соотношение сознания и поведения совсем по-другому. Речь шла уже не о том, что поведение можно изучать, не привлекая категорий сознания (раз уж применительно к животным оперировать ими все равно невозможно), а о том, что, обходясь без них, мы, возможно, вообще ничего не теряем. А самое главное – работы Павлова подводили под исследования поведения солидную физиологическую базу, основанную на почтенной идее рефлекса.
Вопрос о возможности интерпретации поведения как совокупности рефлексов обсуждался в зоопсихологии и раньше (см. главу 2), но в Америке этот подход имел прежде даже меньше сторонников, чем в Европе. Против него, в частности, резко и убедительно возражал Торндайк: никакой рефлекс и никакая комбинация рефлексов не могут объяснить адаптивные изменения в поведении, так как рефлекс – это определенная реакция на определенный стимул, он задан раз и навсегда и не может меняться. По Торндайку, поведение реализуется не той или иной рефлекторной дугой[30], а только организмом в целом и задается не стимулом, а целью. Но результаты Павлова снимали это возражение: если любое исходно нейтральное ощущение может при известных условиях превратиться в стимул, запускающий тот или иной рефлекс, то это может обеспечить поистине безграничные возможности адаптивного изменения поведения. По крайней мере, так в ту пору казалось многим. Торндайк, правда, остался при своем мнении, но даже его авторитет не мог перевесить всеобщего ощущения, что заветный ключ к пониманию поведения найден. Тем более что работы Павлова давали не только теоретическую основу для интерпретации поведения, но и великолепный, почти универсальный метод его экспериментального изучения.
Можно сказать, что американская «экспериментальная психология» сыграла роль своеобразного усилителя, через который идеи Павлова проникли в мировое психологическое сообщество (именно психологическое – в мире физиологов Павлов был прекрасно известен задолго до того, как занялся условными рефлексами). Кстати, успех работ Павлова среди американских психологов пробудил у них интерес к русской физиологической школе вообще, в том числе к трудам Сеченова. Знакомство с ними в итоге привело американского ученого Генри Мак-Комаса к созданию так называемой моторной теории сознания, согласно которой содержание сознания просто отражает собственные движения тела, не будучи их причиной и вообще никак на них не влияя. Не все американские психологи разделили столь радикальный взгляд, но теория Мак-Комаса активно обсуждалась в психологической литературе и в общем-то не встречала принципиальной критики.
Таким образом, как мы видим, общее умонастроение в американской экспериментальной психологии на протяжении всех 1900-х годов неотвратимо сдвигалось в сторону идеи о ненужности привлечения психики (и вообще субъективной стороны дела) для исследования и понимания поведения. Едва ли не каждый заметный успех в исследованиях укреплял позиции именно такого подхода – независимо от личных взглядов ученых, достигших этого успеха, и даже порой вопреки им. К началу 1910-х этот концептуальный сдвиг в основном уже произошел. Для его завершения не хватало только одного – человека, который бы прямо и внятно провозгласил подобный подход.
И такой человек, конечно же, вскоре нашелся.
Точная дата рождения крупного научного направления почти всегда условна, а часто ее вообще невозможно определить. И все же такие даты всегда привлекают наше внимание – хотя бы потому, что маркируют собой некие качественные переходы в развитии науки. Пусть эти переходы свершались не в один день – дата, даже условная, дает возможность сравнить состояния «до» и «после».
13 февраля 1913 года в самом респектабельном университете Нью-Йорка – Колумбийском – 35-летний психолог Джон Бродес Уотсон выступил с публичной лекцией на тему «Психология, какой ее видит бихевиорист» (Psychology as the Behaviorist Views It). Диковинного словечка «бихевиорист» еще не было ни в одном словаре, но слушателям было очевидно его родство со словом behavior – «поведение».
Лектор обвинил свою дисциплину в том, что она вообще не является наукой. Ведь, как учит современная философия, всякая наука имеет дело только с фактами, измерениями и прочими непосредственно наблюдаемыми вещами. В крайнем случае – с объективными закономерностями. Все остальное – натурфилософский и метафизический хлам, от которого давно пора избавляться. Между тем ни основной метод классической психологии – интроспекция, – ни сам ее предмет – явления сознания – ни в коей мере не являются объективными, а значит, наука ими заниматься не может. Если психология хочет быть наукой, ее предметом должно стать поведение и только поведение. А поскольку, как уже доказала современная наука, поведение состоит из рефлексов и служит приспособлению организма к внешней среде, всякий акт поведения можно рассматривать как ответ на внешние раздражители – стимулы. Мы будем воздействовать на организм – не важно, на человека или на животное – различными стимулами, регистрировать его ответы и искать закономерности, связывающие одно с другим. Это труд долгий и кропотливый, но в конце концов он позволит нам предсказывать поведение любого организма и управлять им.
В этот день в психологии и зоопсихологии родилось новое направление – бихевиоризм. Ему было суждено приобрести необычайную популярность, оказать огромное влияние не только на все области этих дисциплин, но и на другие науки и на всю культуру XX века. Но прежде чем продолжать рассказ о нем, нужно сказать несколько слов о том, что привело к его рождению. Мы уже знаем, как развивалась ситуация в науках о поведении в целом и конкретно – в американской экспериментальной психологии в годы, предшествовавшие рождению бихевиоризма. Но у этого направления были и другие, более давние и более общие истоки. Чтобы рассмотреть их, нам придется вернуться далеко назад во времени – и уйти немного в сторону от предмета «поведение животных».
Общепризнано, что наука в узком смысле слова – европейское естествознание Нового времени – зародилась внутри философии (о чем до сих пор напоминает название ученой степени в английском языке – PhD, то есть philosophi doctor, «доктор философии»). И конечно же, ее становление меньше всего напоминало рождение Афины, в одночасье явившейся из головы Зевса во всем блеске красоты и ума и в полном вооружении. Наука провозгласила свою самостоятельность устами Фрэнсиса Бэкона еще в начале XVII века, однако и через двести лет после этого ее размежевание с философией все еще не было завершено. Такие отвлеченные понятия, как «природа», «идея», «стремление» и т. д., не только постоянно присутствовали в научных трудах, но и рассматривались как вполне приемлемые и достаточные объяснения наблюдаемым фактам. Считалось даже желательным (и чуть ли не правилом хорошего научного тона) возводить наблюдаемые процессы и явления к таким вот абстрактным понятиям. Род Rosa является типическим в семействе розоцветных, поскольку именно в нем наиболее полно и неискаженно воплощена идея этого семейства. Крохотный комочек одинаковых клеток развивается в сложный организм, состоящий из множества типов тканей, потому что в нем заложена vis essentialis – «существенная сила», управляющая его развитием. По мере умножения и усложнения собственно научных знаний процедура включения их в подобные умозрительные построения становилась настолько изощренной и нетривиальной, что внутри философии оформилась отдельная область – натурфилософия, или «философия природы», задачей которой было именно обобщение частных научных представлений и интеграция их в общую (философскую) картину мира.
Однако в умах ученых-естественников постепенно нарастала неудовлетворенность таким состоянием собственных наук. Примером им служила физика – точнее, ньютонова механика, где «метафизические» понятия либо не использовались, либо переосмыслялись, превращаясь в строго определенные, экспериментально измеримые величины.
В 1830 году научный мир потряс публичный диспут между двумя крупнейшими натуралистами того времени, основателями сравнительной анатомии – Жоржем Кювье и Этьеном Жоффруа Сент-Илером. В изложении современных авторов этот спор обычно трактуется как решительный бой старых креационистских взглядов с молодой эволюционной идеей – по странной прихоти истории завершившийся победой креационизма. На самом деле спор шел не столько о возможности эволюции (эта тема оставалась преимущественно в подтексте) и даже не столько об эквивалентности-неэквивалентности общего плана строения позвоночных и головоногих. Главным вопросом было (как совершенно справедливо указывал Гете в написанных тогда же статьях об этой дискуссии), имеет ли вообще натурфилософия право на существование как научный метод и подход.
Безоговорочная победа Кювье означала: нет, не имеет. Буквально в том же году только-только приобретающий известность Огюст Конт начинает выпускать главное сочинение своей жизни – «Курс позитивной философии». Согласно изложенным в нем взглядам, человечество проходит три стадии умственного развития: богословскую, метафизическую и положительную (позитивную). На первой стадии все доступные человеческому восприятию объекты, процессы и явления объясняются сверхъестественными силами – действиями духов, богов, демонов и т. д. На второй для того же самого используются различные «первопричины» и «сущности» – сконструированные философами абстрактные понятия. С началом XIX века, по мнению Конта, ее сменяет третья стадия: ученые наконец отказываются от бесплодного поиска причин и сущности вещей (эти вопросы остаются неразрешимыми, так как возможные ответы на них нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть), а вместо этого изучают сами вещи и объективные взаимосвязи между ними – законы природы. По сути дела, «позитивная философия» (или, как ее вскоре стали называть, позитивизм) объявила открытую войну за независимость науки от философии (под которой понималось вообще всякое умозрение) и за изгнание элементов натурфилософии из самой науки.
Трудно сказать, влияли ли на научное сообщество непосредственно идеи Конта или они лишь отражали и артикулировали преобладающие настроения. Но так или иначе именно в 1830–1840-е годы радикально – и вполне в духе позитивизма – изменился сам понятийно-категориальный аппарат (и соответствующая ему терминология) наук о природе. Многие слова просто перестали употребляться в научных текстах, другие изменили свое значение. Это объясняет, в частности, почему Дарвин, по его собственному признанию, «не смог ничего вынести» из книги Ламарка: автор «Происхождения видов» уже не понимал языка, которым была написана «Философия зоологии». Новый язык науки был малопригоден для натурфилософских построений. И хотя разного рода умозрительные теории (о природе наследственности, о движущих силах эволюции и т. д.) в изобилии вырастали и расцветали всю вторую половину XIX века, они вызывали все меньше интереса и все больше оттеснялись на обочину научного дискурса.
Последний и решительный поход против рудиментов метафизики в науке провозгласили в 1880-е годы основатели так называемого «второго позитивизма» (эмпириокритицизма) – физик Эрнст Мах и философ Рихард венариус. Всестороннее изложение и оценка их взглядов выходят далеко за рамки нашей темы, нас сейчас интересует один аспект: Мах и Авенариус поставили под сомнение само объективное существование предметов и явлений. Ведь человеку доступен только чувственный опыт: изображение яблока на сетчатке глаза, тактильные ощущения от взятого в руку яблока, его запах и вкус – но не само яблоко непосредственно. А раз так, то и научному изучению подлежат результаты опыта и только опыта. Все, что не вытекает непосредственно из опыта, не может считаться научным – это умозрительные построения, ничем не отличающиеся от отброшенных наукой натурфилософских «сущностей» и «первопричин».
Чтобы представить, насколько радикальной была предложенная эмпириокритиками ревизия научных понятий, достаточно сказать, что Мах, в частности, на полном серьезе предлагал отказаться от представления об атоме. Его постоянный оппонент, создатель молекулярно-статистической физики Людвиг Больцман вспоминал, что, когда на семинаре кто-нибудь в присутствии Маха упоминал атомы, Мах обычно спрашивал: «А вы видели хоть один атом?»
Однако, несмотря на огромный (и вполне заслуженный) личный авторитет Эрнста Маха в физике и широкую популярность эмпириокритицизма среди ученых, перестроить физику в соответствии с новым пониманием науки не удалось. Физика была к тому времени уже слишком зрелой наукой, а ее понятийно-теоретический аппарат – слишком развитым, изощренным и внутренне связным, чтобы жертвовать им даже ради самых модных идей. К тому же в 1904–1905 годах ученик Больцмана Мариан Смолуховский и никому еще не известный Альберт Эйнштейн нашли-таки способы увидеть если не сами атомы, то непосредственные проявления их существования. Позитивистская революция в физике не удалась – эта наука стояла на пороге совсем других революций. Зато как раз в годы наивысшей популярности «второго позитивизма» делала свои первые шаги совсем молодая дисциплина, сам предмет и метод которой выглядели прямым вызовом позитивистской модели науки.
О том, как устроена и работает человеческая психика, люди задумывались с незапамятных времен. Вряд ли найдется хотя бы один крупный философ, который ничего не сказал бы об этом. Но самостоятельная наука о душевных явлениях – психология – оформилась, как мы уже знаем, только в конце XIX века. И своим рождением она в значительной степени обязана уже знакомому нам профессору Вильгельму Вундту.
Вундт пришел в психологию из медицины и физиологии, он широко применял приборные измерения и экспериментальные методы и мечтал построить психологию как «настоящую» точную науку, по образцу физики. Не был он и противником новой философии науки – вместе с одним из ее основателей, Рихардом Авенариусом, он выпускал в Лейпциге «Трехмесячник научной философии». Однако интересовали его все-таки именно психические явления. Их не может зарегистрировать никакой прибор – наблюдать их можно только в самом себе. Независимо от планов и намерений Вундта в работе его школы все большую роль играл сформулированный еще Декартом метод интроспекции – наблюдения собственных психических явлений и попыток зафиксировать эти наблюдения посредством словесных отчетов. Любые объективные показатели, будь то физиологические параметры, результаты тестов, время реакции и т. д., обретали в психологии смысл и ценность только в том случае, если их удавалось связать с данными самонаблюдения. К самонаблюдению же в конечном счете восходили и всевозможные исследования психических ассоциаций, столь популярные у психологов того времени.
Но это прямо противоречило логике позитивизма: получалось, что предметом новой науки служат явления принципиально субъективные, невоспроизводимые и непроверяемые! То, что одна и та же тестовая картинка вызывала у разных людей разные ассоциации, было еще полбеды. Настоящая беда была в том, что об этих ассоциациях исследователь мог знать только со слов испытуемого – никакого способа объективной проверки данных не было и не предвиделось. «Ненаблюдаемые» и «непроверяемые» феномены не просто играли в психологии значительную роль, как злополучные атомы в физике, – они составляли самую ее суть. Это грозило разрушить всю позитивистскую концепцию науки или, по крайней мере, поставить крест на ее притязаниях на универсальность.
Вундт, мечтавший превратить когда-нибудь психологию в строгую естественнонаучную дисциплину, старался не акцентировать на этом внимания. Мол, мы только начинаем познавать психические явления, со временем все как-нибудь утрясется. Но сама логика развития психологических исследований уводила основанную им науку все дальше и дальше от позитивистского идеала. К тому же далеко не все последователи Вундта были одновременно последователями Авенариуса и Маха – и наоборот. Так, например, русский пропагандист эмпириокритицизма Владимир Лесевич, излагая основные идеи этой философии, отвел специальный раздел критике Вундта. С другой стороны, признанный глава русских психологов и основатель первого в мире психологического института Георгий Челпанов отстаивал несводимость психических явлений к чувственному опыту и довольно резко критиковал позитивизм, видя в нем разновидность ненавистного ему материализма[31]. Выходило, что психология не просто не соответствовала стандартам «научной философии», но и устами Челпанова утверждала свое право не соответствовать им.
Проблема психики животных стала дополнительной трудностью для обеих сторон этого конфликта. Время становления и наибольшей популярности «второго позитивизма» почти точно совпало с временем кризиса наивного антропоморфизма в зоопсихологии. К претензиям, которые у позитивистски настроенных ученых вызывал психологический метод сам по себе, добавлялась его очевидная непригодность для исследования животных. Нельзя же, в самом деле, попросить подопытную собаку заняться самонаблюдением и представить затем словесный отчет! Строить же две отдельных психологии – для людей и для животных, каждая с собственными методами, понятиями и теориями – в глазах ученых того времени означало отказаться от сравнительного и эволюционного подхода к психике человека, признать уникальность человеческой природы и в конечном счете отказаться от естественнонаучного взгляда на человеческую психику и ее происхождение. Правда, идейные лидеры «второго позитивизма» (в отличие от лидеров первого – Огюста Конта и Герберта Спенсера) с большим подозрением относились к эволюционным исследованиям и особенно к попыткам реконструировать происхождение чего бы то ни было. Их смущало, что такие исследования по определению подразумевают изучение чего-то, что не дано исследователю в непосредственных ощущениях (поскольку уже не существует), а значит, их «научность» весьма сомнительна. Но альтернативой было только признание абсолютной уникальности человека и непознаваемости происхождения духовной стороны его жизни, а на это теоретики эмпириокритицизма пойти не могли.
Напряжение – как между философией и психологией, так и внутри самой психологии – копилось десятилетиями… и разрядилось выступлением Уотсона. По сути дела, своим манифестом он предложил снести подчистую едва начавшее строиться здание психологии и на освободившемся месте построить другую психологию – точную, объективную, изначально свободную от родимых пятен метафизики образцовую естественную науку. Такую, какой надлежит быть всякой науке согласно «единственно научной точке зрения» (как аттестовал эмпириокритицизм Владимир Лесевич).
Таким образом, бихевиоризм можно рассматривать как опыт практического применения позитивистской модели науки – построения «с нуля» идеальной научной дисциплины. Что вышло из этого проекта, мы увидим из дальнейшего повествования. Пока же, завершая рассмотрение философского контекста бихевиоризма, отметим занятный парадокс: борьба за независимость науки от философии увенчалась попыткой построения новой науки в соответствии с требованиями новой философии. Круг замкнулся.
Лекция Уотсона имела немалый успех. Редактор влиятельного журнала Psychological Rview Говард Уоррен предложил автору опубликовать ее текст в виде статьи, что вскоре и было сделано (спустя 30 лет эту статью признают самой важной публикацией журнала за все время его существования). В том же году Уотсон прочел в Колумбийском университете еще несколько лекций (также вскоре опубликованных), в которых он продолжал развивать свою программу. Однако, несмотря на радикализм тезисов Уотсона, подчеркнутый резкостью тона и выражений, его манифест и последующие публикации не вызвали ни скандала, ни даже особо бурной полемики. Практически никто не оспаривал ни необходимость изучения поведения, ни предлагаемый подход к этому изучению. Вялые возражения сводились в основном к защите метода интроспекции, которому Уотсон полностью отказал и в научности, и в какой-либо ценности. Самые радикальные из оппонентов Уотсона предлагали рассматривать изучение поведения животных как часть биологии, а за психологией сохранить ее традиционную проблематику (исследование сознания) и методы. Или, как предлагал еще один участник дискуссии, выделить такие исследования в отдельную новую науку – «антропономию». Столь сдержанная реакция на столь революционный вызов кажется удивительной, но ее легко понять, если вспомнить сказанное в первой подглавке этой главы: американское психологическое (и особенно зоопсихологическое) сообщество фактически уже перешло на бихевиористские позиции, и Уотсон лишь сказал вслух то, что было у многих на уме и почти у всех – в повседневной лабораторной практике. Он не «изобрел» бихевиоризм – он лишь дал имя и кое-какое теоретическое обоснование уже сложившемуся направлению.
Но если не Уотсон создал бихевиоризм, то бихевиоризм в значительной мере создал Уотсона: известный в кругу коллег, но ничем особо не выделявшийся ученый в одночасье оказался идейным лидером мощного и все больше набирающего популярность научного движения. Уже в 1916 году Уотсон был избран президентом Американской психологической ассоциации (АРА) – что свидетельствовало о его высоком авторитете не только среди последователей нового направления, но и во всем американском психологическом сообществе. Положение обязывало: теперь было мало вновь и вновь провозглашать новый подход – нужно было формулировать какие-то содержательные положения, полученные на его основе, а также переинтерпретировать в последовательно-бихевиористских понятиях те феномены и категории, с которыми привыкли иметь дело психологи. В общем, от отрицания старой теории нужно было переходить к разработке и утверждению новой.
В своей первой лекции Уотсон утверждал невозможность и ненужность изучения психических процессов – не касаясь того, какова их роль в поведении. Но уже вскоре он счел это недопустимым компромиссом, уступкой ненавистному «ментализму» (как бихевиористы называли теперь традиционную психологию). По мнению Уотсона, психические процессы – будь то мышление, воображение, эмоции или что-то еще – вообще не играют никакой роли в поведении и не могут считаться его причиной. Причины любого поведения коренятся во внешних стимулах, а психика лишь пассивно отражает преобразование входящих нервных сигналов (от органов чувств) в исходящие (к мышцам и другим исполнительным структурам), никак не влияя на их содержание. Более того, сам процесс мышления (при всей его избыточности и неспособности влиять на поведение) никогда не остается чисто психическим и даже чисто нервным процессом: он всегда имеет выражение в какой-то мышечной деятельности – даже если движения мышц столь слабы, что их невозможно заметить. «Везде, где есть процессы мышления, имеются слабые сокращения мускулатуры, участвующей в открытом воспроизведении привычного действия, и особенно – еще более тонкой мускулатуры, участвующей в речи…» – писал Уотсон[32].
Ход мысли Уотсона можно представить, скажем, на таком примере. Когда человек учится читать, он сначала читает вслух, то есть чтение выражается в некоторой мышечной активности. Потом он перестает произносить читаемые слова, но интенсивно шевелит губами, беззвучно «проговаривая» каждое слово. Постепенно эти движения слабеют, превращаются в едва заметные подрагивания и, наконец, исчезают совсем, но приборы показывают, что во время чтения усиливается поток нервных импульсов к мышцам губ. Почему бы не предположить, что и любое мысленное действие – это такое же свернутое, редуцированное до полной незаметности движение мышц? И если движения губ при чтении не формируются мозгом по своему произволу, а задаются читаемыми словами (то есть внешними стимулами), то, может быть, внешние стимулы формируют вообще любые действия, любые проявления поведения? А всякие там «мысли», «идеи», «решения» и прочая психологическая дребедень – всего лишь пассивное отражение этого процесса.
Эта модель получила краткое выражение в виде формулы «стимул – реакция» или, в символической записи, SR. Она исключала из рассмотрения не только разум и сознание, но и всю внутреннюю жизнь субъекта поведения (человека или животного), а роль самого субъекта сводила к передаточному звену между стимулом и реакцией – «стрелочке». Эта лапидарная формула почти на полвека стала универсальной объяснительной схемой, которую нужно было видеть в любых актах поведения любых живых существ.
Впрочем, Уотсон отрицал какую-либо роль в поведении не только психики – он считал, что и мозг (в том числе кора) представляет собой не более чем телефонную станцию, передающую сигналы от органов чувств мышцам. (Кажется, если бы была хоть малейшая возможность сомневаться в самом существовании мозга, он пошел бы и на это.) Не раз в разных текстах и выступлениях он повторял, что «центрально инициированных» (то есть порожденных самим мозгом, а не продиктованных внешними стимулами) процессов не существует. Тот, кто утверждал обратное, по мнению Уотсона, не просто заблуждался, но пытался протащить в науку старый религиозный вздор: «Тот, кто верит в существование центрально инициированных процессов… на самом деле верит в существование души». Для человека, занимающегося позитивной наукой, вера в существование души – страшный грех, такая степень интеллектуального падения, которая уже не требует комментариев.
Нотабене: это писалось не в Советском Союзе 1920-х годов, а в Соединенных Штатах – самой религиозной из развитых стран, там, где вскоре общественность будет всерьез обсуждать, можно ли преподавать в муниципальных школах научные теории, противоречащие Писанию. Можно себе представить, какова была степень отчуждения от религии и враждебности к ней в американской академической среде. Впрочем, в конце этой главы мы увидим, как воинствующий материализм и атеизм бихевиористов оказались естественной платформой для неформального соглашения с церковью и богословием.
Но если поведение человека или животного полностью определяется внешними стимулами, значит, манипулируя ими, мы можем добиться любого желательного нам поведения? Уотсон не просто признавал это – уже в своей лекции-манифесте он заявил, что теоретической целью психологии «являются предсказание поведения и управление им». А когда эта цель будет достигнута, общественные лидеры, по мнению Уотсона, «смогут использовать наши данные на практике» – то есть манипулировать поведением людей. Разумеется, в интересах общества и для достижения разумных, научно обоснованных целей. Для нашего уха звучит страшновато – но ни Уотсон, ни его слушатели еще не были знакомы с опытом тоталитарных режимов и утопических социальных проектов XX века. Идея переустройства общества и даже самой человеческой природы на разумных, научных началах привлекала если не всех, то многих – и прежде всего людей с прогрессивными взглядами. И программа Уотсона прямо апеллировала к этим ожиданиям: «Дайте мне дюжину здоровых, нормально развитых младенцев и мой собственный особый мир, в котором я буду их растить, и я гарантирую, что, выбрав наугад ребенка, смогу сделать его по собственному усмотрению специалистом любого профиля – врачом, адвокатом, торговцем и даже попрошайкой или вором – вне зависимости от его талантов, нклонностей, профессиональных способностей и расовой принадлежности его предков».
В главе 6 мы вспомним об этом амбициозном заявлении и поговорим о том, чем на самом деле мог бы закончиться подобный эксперимент. Но пока что технология выращивания людей на заказ оставалась лишь мечтой. Чтобы хотя бы подступиться к ее разработке, нужно было сначала доказать фундаментальные утверждения бихевиоризма, в частности – что внешние стимулы определяют не только непосредственные реакции, но и долговременные устойчивые особенности психики и поведения. Например, некоторые вполне нейтральные, не полезные и не вредные предметы и явления вызывают у людей ничем не мотивированную симпатию, другие – столь же беспричинную неприязнь. Такое отношение может быть массовым (например, подавляющему большинству людей в самых разных культурах нравятся цветы – хотя никакого практического применения они обычно не имеют), но бывает и сугубо индивидуальным. Среди людей, выросших в одной и той же культуре, одни любят кошек, другие терпеть их не могут, третьи более или менее равнодушны к ним. Откуда берутся эти симпатии и антипатии? Каким образом внешние воздействия могут их определять?
Уотсон придумал эксперимент, который должен был ответить на этот вопрос, и в конце 1919 года вместе со своей аспиранткой Розали Райнер приступил к его проведению. Подопытным стал 11-месячный мальчик, сын молодой нянечки из детского отделения клиники университета Джонса Хопкинса (в котором работали Уотсон и Райнер), обозначенный в написанной по итогам эксперимента статье как Альберт Б. (Много лет спустя, когда давний эксперимент снова стал предметом обсуждения специалистов, за его объектом закрепилось прозвище Маленький Альберт.) Эксперимент начался с того, что ребенку предъявляли разные объекты: живую белую крысу, несколько масок, хлопковую пряжу и т. д. Мальчик живо интересовался всеми этими штуками, тянулся потрогать их и, во всяком случае, не проявлял никакого страха – в чем и хотели убедиться исследователи.
Затем Уотсон и Райнер приступили к собственно «воспитанию чувств». Ребенку опять приносили белую крысу, и в тот момент, когда он тянулся к ней, один из экспериментаторов за ширмой ударял молотком в стальную полосу (ранее было выяснено, что Альберт пугается этого звука). Малыш испуганно отдергивал руку, потом успокаивался, снова тянулся к зверьку – и страшный гром гремел снова. Вскоре ребенок перестал пытаться прикоснуться к крысе, а когда она сама приближалась к нему, начинал плакать. В последующие дни он плакал, как только крыса появлялась в лаборатории.
Добившись этого, исследователи сделали перерыв на пять дней, а затем снова принесли Альберта в лабораторию и принялись показывать ему разные «стимулы». Ребенок охотно хватал обычные игрушки, но появление белой крысы встречал испуганным плачем. Почти так же сильно его пугал белый кролик, несколько слабее – собака. Некоторую боязнь вызывали даже меховое пальто, хлопковая пряжа и маска белого кролика. Далее Уотсон и Райнер собирались по той же технологии избавить малыша от привитого ему страха (связав появление крысы с положительным подкреплением – конфетой), но тут ребенка неожиданно забрали. Дальнейшая его судьба (в том числе и отдаленные последствия эксперимента) осталась неизвестной[33].
Впрочем, Уотсона это не очень огорчало. Эксперимент выполнил главную задачу: доказал возможность сформировать стойкую и сильную эмоциональную реакцию, манипулируя внешними стимулами. Но гром импровизированного гонга за ширмой в экспериментальной комнате неожиданно оказался погребальным звоном по научной карьере основателя бихевиоризма. В ходе совместной работы с Розали Райнер – молодой привлекательной женщиной – Уотсон не на шутку влюбился в нее и вскоре оставил семью, чтобы жениться на Розали. В глазах тогдашней американской университетской среды такое поведение выглядело вопиюще аморальным и абсолютно неприемлемым. Знаменитый ученый, глава самого популярного направления в американской психологии и недавний президент АРА превратился в изгоя: из университета Джонса Хопкинса ему пришлось уйти, никакой другой университет или исследовательский центр не хотел брать его на работу. Уотсон ушел в рекламный бизнес – как оказалось, навсегда. Позднее он время от времени читал лекции в разных учебных заведениях (особенно после Второй мировой войны, когда нравы смягчились, старый скандал позабылся, а сам Уотсон был уже классиком и живой легендой), писал статьи в популярных журналах, разъясняя идеи бихевиоризма для широкой публики, в 1924 году в вашингтонском Психологическом клубе отстаивал бихевиористский подход в публичном диспуте с одним из самых радикальных и авторитетных его критиков Уильямом Мак-Дугаллом[34]. Но фундаментальными исследованиями не занимался больше никогда.
Вряд ли эти подробности биографии Джона Уотсона заслуживали бы упоминания, если бы в них не просматривалась злая ирония судьбы. Человек, отрицавший какое-либо значение психической жизни для поведения и даже само ее существование, повел себя так, как ему диктовало чувство, наплевав на все «внешние стимулы». Человек, провозгласивший возможность и желательность рационального управления поведением людей, оказался неспособен управлять самим собой.
Впрочем, на взгляды самого Уотсона вся эта история нисколько не повлияла. Даже в письме к мисс Райнер в самый разгар их романа он называет ее неотразимым стимулом, который заставляет реагировать весь его организм.
«Отряд не заметил потери бойца». Неожиданный и скандальный уход со сцены основателя бихевиоризма не сказался сколько-нибудь заметно ни на развитии теоретических представлений этой школы, ни на росте ее влияния в психологической науке. Вскоре после ухода Уотсона – к середине 1920-х годов – бихевиоризм окончательно занял доминирующее положение в американской экспериментальной психологии и начал приобретать известность в Европе. Сторонников у него там в этот период нашлось немного, но он стал одним из тех идейных течений, знакомство с которыми для профессионалов было обязательным. Можно было не разделять воззрений бихевиористов, можно было даже считать их полной ерундой, но не знать их хотя бы в общих чертах для европейского психолога или зоопсихолога становилось уже неприличным.
Опустевшее с уходом Уотсона место главного теоретика нового направления могли бы без особого труда занять Торндайк или Йеркс, которых в это время коллеги уже воспринимали как своего рода предтеч бихевиоризма. Но, как ни странно (или наоборот – вполне закономерно), оба отказались видеть в новом модном направлении развитие своих идей и взглядов. Торндайк до конца жизни не признавал себя бихевиористом и (что гораздо важнее) упрямо продолжал употреблять для описания поведения животного термины «удовлетворенность», «дискомфорт» и прочие запрещенные «менталистские» понятия, писал о важности учета внутреннего состояния животного, о целостности и активном характере любого поведения. Йеркс защищал традиционную психологию и ее методы, а после полной победы бихевиоризма резко изменил направление своих исследований, занявшись изучением психических способностей обезьян. В 1924 году он создал в Йельском университете (где специально для него была учреждена должность профессора психобиологии) лабораторию биологии приматов, а в 1929-м – обезьяний питомник и экспериментальную станцию в Ориндж-Парке (Флорида). Уже после его смерти лаборатория переехала в университет Эмори в Атланте (Джорджия). Ныне это Йерксовский национальный приматологический центр – крупнейший и авторитетнейший в мире центр лабораторного изучения поведения обезьян. Одного из направлений его работы мы немного коснемся в главе 8.
Но, как известно, свято место пусто не бывает, и к концу 1920-х годов в бихевиористском сообществе обозначились новые ведущие теоретики – Эдвард Чейс Толмен и Кларк Леонард Халл. Именно их идеи и модели, введенные ими понятия определяли лицо бихевиоризма в годы его расцвета и триумфа – с конца 1920-х до середины 1950-х. Научная деятельность этих двух ученых была почти синхронной, но нам нужно с кого-то начать, и по некоторым композиционным соображениям мы начнем с Халла.
Еще в начале своей научной карьеры, пришедшемся как раз на первые годы существования бихевиоризма, Кларк пришел к убеждению, что мышление (под которым он понимал любые внутренние процессы, формирующие то или иное поведение) есть некий физический, даже механический процесс, где «выход» однозначно определяется «входом» – нечто вроде того, что свершается в недрах торгового автомата между бросанием в щель монетки и выпадением товара. Отсюда вытекали две основных задачи, которые видел перед собой Халл: во-первых, сформулировать строгие количественные законы, описывающие все наблюдаемое поведение – подобно тому, как законы Ньютона (который был кумиром Халла) описывают все движения всех тел Солнечной системы, исходя из очень ограниченного набора параметров. И во-вторых, воспроизвести феномен поведения в механических моделях – создать «психические машины», которые были бы способны обучаться и в конце концов делать все то, что умеет делать человек. Последнее, помимо всего прочего, сулило вполне практическую пользу: такие машины могли бы заменить рабочих на производстве (в 1920-е годы США переживали экономический бум, и рабочих рук постоянно не хватало).
В конце 1920-х Халл говорил о «психических машинах» не как о предмете мысленного эксперимента или какой-то отдаленной цели, а как о вполне реальных аппаратах, которые могут быть созданы «во плоти» в самые ближайшие годы. Он даже собрал некие самообучающиеся устройства и показывал их на своих лекциях, неизменно вызывая живой интерес аудитории. Однако одно дело – сконструировать продвинутую механическую игрушку, способную как-то модифицировать довольно скромный репертуар своих действий, и совсем другое – создать машину, которая хотя бы грубо, «в первом приближении» имитировала бы поведение живого существа. Похоже, Халл только в процессе работы оценил сложность задачи, за которую взялся. С середины 1930-х он говорит о «психических машинах» все реже и туманнее, к концу десятилетия они исчезают из его работ совсем.
Работая в другом направлении, Халл попытался формализовать бихевиористскую теорию – представить ее в виде набора строгих определений и постулатов, из которых можно было бы вывести формулы, описывающие и предсказывающие поведение. Работа была в основном теоретической (Халл не любил запаха вивария и потому не злоупотреблял экспериментами) и продвигалась вполне успешно – вводимые Халлом переменные послушно выстраивались в уравнения. Правда, сразу выяснилось, что для такого описания поведения недостаточно параметров стимула: на один и тот же стимул одно и то же животное (а тем более – разные особи) могло реагировать совершенно по-разному. Пришлось вводить «скрытые переменные», отражавшие внутреннее состояние животного: «потребность», «потенциал реакции», «силу навыка» и т. д. По сути дела, это было необъявленным отказом от последовательно-бихевиористского подхода – «скрытые переменные» Халла, несомненно, относились к тем самым ненаблюдаемым понятиям, изгнания которых из психологии требовал Уотсон. При этом их невозможно было измерить в сколько-нибудь объективных величинах – ну хотя бы так, как мерили уровень мотивации Йеркс и Додсон. Значения им приходилось приписывать – а это делало модели Халла объясняющими все что угодно (путем подбора параметров), но не предсказывающими ничего. Понимая это, Халл постоянно дорабатывал и переделывал свои модели. Работа над ними продолжалась до самой смерти ученого в 1952 году.
Несмотря на вынужденную уступку «ненаблюдаемым» феноменам, Халл оставался приверженцем бихевиористского подхода – объяснения поведения «от стимула». Трудно сказать, насколько он сам понимал, что введение «скрытых переменных» – это несомненный отказ от схемы SR, обрекающий бихевиоризм на внутренние противоречия. Но психологическое сообщество (как бихевиористское большинство, так и немногочисленные оппоненты) этого не заметило: в его глазах Халл остался наиболее каноническим носителем и интерпретатором бихевиоризма в 1930–1940-е годы.
Но не заметить отхода от бихевиористского канона другого главного авторитета того периода – Эдварда Толмена – было невозможно. Толмен, чья научная молодость тоже пришлась на годы становления бихевиоризма, воспринял его как освобождение от субъективности и методологической шаткости тогдашней психологии. Однако очень быстро он пришел к выводу, что организм невозможно представить как автомат, выдающий определенный товар (реакцию) в ответ на определенную монетку (стимул), или как телефонную станцию, просто соединяющую «вход» с «выходом». Автор «Истории современной психологии» Томас Лихи пишет о Толмене, что в 1920-е годы ему недоставало компьютера как наглядной модели поведения организма. Я думаю, однако, что и компьютер бы его не вполне устроил в этом качестве. То, что ответы организма на внешние стимулы зависят не только от них, но и от внутреннего состояния организма, как мы видели, признавал и Халл. Но Толмен пошел дальше: по его мнению, поведение организма вообще не является «ответом на стимулы» – оно по природе своей целенаправленно, то есть запускается и определяется не внешними воздействиями, а внутренней целью.
Еще одна идея Толмена была совсем уж крамольной: он считал, что реальное поведение животного (даже в жестких условиях лабораторного эксперимента) невозможно описать как метод «проб и ошибок» – случайных действий и запоминания тех из них, что увенчались подкреплением. Он проделал следующий эксперимент: крысу помещали в лабиринт, состоящий из стартовой камеры, камеры-цели и трех путей от первой ко второй – самого короткого (1), подлиннее (2) и самого длинного (3). На предварительном этапе крысам давали возможность обследовать весь лабиринт – без подкрепления. Затем их учили прибегать в камеру-цель, где они получали награду. Крысы бегали по самому короткому пути. Убедившись, что навык сформирован и выполняется безошибочно, Толмен перекрывал путь 1 задвижкой. Согласно теории «проб и ошибок» крыса, столкнувшись с неожиданным препятствием, должна была начать обучение заново – тыкаясь во все стороны и лишь постепенно находя другой путь к цели. Но грызун ничего подобного не делал – убедившись, что препятствие непреодолимо, он уверенно возвращался в точку разветвления путей и бежал к заветной камере по пути 2 (знакомство с которым не было у него до этого момента связано ни с каким подкреплением). А если блокирован был и этот путь, крыса опять возвращалась к развилке и выбирала путь 3. Это могло означать только одно: еще во время «бескорыстных» прогулок по лабиринту у крысы в мозгу сложился план всей «дорожной сети», которым она и воспользовалась, когда самый удобный путь оказался непроходим. Крыса запоминает не последовательность стимулов и подкреплений – она формирует представление о топографии той среды, в которой оказалась. Толмен назвал такие представления «когнитивными картами» и предположил, что они формируются при любом обучении активному навыку.
Толмен пытался сохранить от бихевиоризма хотя бы то, что еще можно было сохранить, не отрицая фактов. Он доказывал, что «память, как и цель, можно понимать… как чисто эмпирический аспект поведения», что они доступны наблюдению в эксперименте (по крайней мере, в том же смысле, в каком можно наблюдать магнитное поле или радиацию). Он по-прежнему отрицал «сознание» или, во всяком случае, возможность его научного изучения. Но фактически его понимание поведения подразумевало уже не «уступки» и «лазейки», а полный разрыв с основными положениями бихевиоризма.
Однако, несмотря на столь очевидные экспериментальные свидетельства правоты Толмена, бихевиоризм не только не рухнул, но продолжал привлекать новых сторонников и усиливать свое влияние на американскую, а затем и мировую психологию. И в среде профессионалов популярность Толмена намного уступала популярности Халла до самой смерти обоих ученых и даже позже – уже в годы «когнитивной революции» (см. главу 6), во многом созвучной с идеями Толмна. Такова сила гипноза блестящей идеи, одним махом разрешающей главные теоретические проблемы своей области и сулящей невиданные практические возможности в самом ближайшем будущем.
В межвоенный период бихевиоризм оставался в основном американским явлением. Разумеется, о нем знали и по эту сторону Атлантики, и он находил здесь некоторое число сторонников. Однако Европе в ту пору хватало собственных теорий и теоретиков: именно 20–30-е годы XX века в истории европейской психологии отмечены невиданным расцветом и разнообразием школ и направлений. (Что касается европейских исследований поведения животных, то о них мы подробно поговорим в следующей главе. Здесь же напомним лишь, что в Европе его изучали в основном не психологи, а зоологи, воспринимавшие свой предмет в контексте прежде всего биологии.)
После Второй мировой войны ситуация изменилась. Одни европейские психологические школы разметало военным вихрем, уцелевшие представители других перебрались за океан, где их ждали второстепенные, а то и вовсе маргинальные роли (что-то вроде живых наглядных пособий по истории европейской гуманитарной мысли). С другой стороны, война совершенно изменила образ Америки в европейской научной среде: если до нее США все еще по инерции воспринимались как некая периферия научного мира, то теперь американская наука стала не просто равноправной частью науки мировой, но явной ее метрополией. В науке, как и в других областях, американцы стали безусловными законодателями мод, и все, что шло из Америки, воспринималось как передовое, современное и перспективное. В таком сияющем ореоле и явился в послевоенную Европу бихевиоризм, безраздельно господствовавший в это время в американской академической психологии. Теперь недостатка в сторонниках у него не было: молодые европейские исследователи – в основном психологи и социологи – с энтузиазмом осваивали модную заокеанскую новинку[35].
Косвенным и, возможно, самым парадоксальным свидетельством торжества бихевиоризма в науке и его влияния на «дух времени» в целом стала знаменитая энциклика Humani Generis («В роде человеческом»), выпущенная в 1950 году папой Пием XII. Обычно ее вспоминают как первый документ, в котором Ватикан официально признал теорию эволюции не противоречащей католическому вероучению[36]. Но, как легко догадаться, римские папы выпускают энциклики не для того, чтобы с почти столетним опозданием дать оценку конкретной (пусть даже и очень важной) научной теории. Энциклика Пия XII посвящена в основном чисто богословским вопросам – это попытка как-то сдержать распространившиеся в то время в католическом богословии вольные толкования не только учения церкви и роли ее самой, но и собственно Священного Писания. Отношению к теории эволюции посвящен единственный – 36-й – из 44 абзацев энциклики[37], причем фактическое признание этой теории обставлено словами о «величайшей умеренности и величайшей осторожности в этом вопросе», о том, что существование эволюции «не было полностью доказано даже и в сфере естественных наук» и т. п. О бихевиоризме и вообще о поведении животных там не говорится ни слова, так что, казалось бы, этот документ не имеет отношения к теме нашей книги.
И тем не менее энциклика Пия XII стала своеобразным предложением мирного договора между наукой и верой. Понтифик при всех оговорках недвусмысленно уступал светскому знанию право судить о происхождении человеческого тела. Все, на что претендовала церковь, – это вопросы, относящиеся к человеческой душе.
По сути дела, науку ловили на слове. Разве не сама она – устами самого популярного на тот момент и «единственно научного» направления психологии (то есть бихевиоризма) – многократно заявляла, что душа и все, что с ней связано, не может быть изучаемо объективными методами и, следовательно, не является предметом научного интереса? А коль скоро наука сама отказывается от прав на эту область – какие могут быть возражения против притязаний на нее церкви? Давайте, мол, так и договоримся: вы берете все, что хотите, а мы – то, что вы не пожелали взять. И больше не будем затевать этих глупых споров, вредящих и нам, и вам.
Вот так парадоксальным образом антирелигиозный пафос бихевиоризма[38] оказался прекрасной основой для неформального мирного соглашения с церковью. Неформального – потому что на предложение Пия XII никто, конечно, прямо не ответил (да и кто бы мог на него ответить от имени науки в целом?). Но предложенная им «линия прекращения огня», разграничивающая области ведения науки и религии, почти не нарушалась со стороны науки до самого конца XX века.
В 1948 году Кеннет Спенс – ближайший ученик Халла, самый цитируемый автор в бихевиористской литературе тех лет, живое воплощение бихевиористского мейнстрима – с удовлетворением писал: «Сегодня практически все психологи готовы назвать себя бихевиористами». Несколько следующих лет только усилили эту тенденцию: первая половина 1950-х стала временем наивысшей популярности бихевиоризма во всем мире. Бихевиористские идеи, подходы, методы вышли не только за пределы американского континента – они вышли за пределы академической среды и начали внедряться в практической психологии, педагогике, медицине, рекламном деле.
Однако именно эти годы Томас Лихи отмечает как «время начала заката» бихевиоризма. И в качестве одной из примет близящегося кризиса приводит слова одного из видных психологов того времени о «десятилетней стагнации теории научения». Если учесть, что бихевиористская теория была сосредоточена на феномене научения «чуть более чем полностью» (и любое поведение любого животного, включая человека, рассматривала либо как процесс научения, либо как его результат), то речь идет фактически о застое всей бихевиористской теоретической мысли. Теория, еще недавно обещавшая описать всю сложность и многообразие человеческого поведения небольшим числом математически строгих законов и даже «системой обычных уравнений», словно уперлась в невидимую стену. Но это было не внешнее препятствие. Двигаться дальше бихевиористской парадигме не давали ее собственные основания.
Но здесь мы прерываем рассказ о бихевиоризме и возвращаемся в Европу и в начало XX века, чтобы посмотреть, как же развивалась другая традиция изучения поведения животных.
Глава 4
Образ действия
На первый взгляд кажется странным, что практически сразу после того, как изучение поведения животных оформилось в самостоятельную научную область, пути американских и европейских ученых, занявшихся этим предметом, стали быстро расходиться. Те и другие исходили из эволюционной теории, предполагавшей естественное происхождение человека и его тесное родство с животными. Те и другие сознательно или «по умолчанию» принимали позитивистское представление о науке и научных методах. Те и другие опирались на опыт зоопсихологии XIX века и с уважением и надеждой смотрели в сторону бурно развивавшейся тогда физиологии нервной системы. И даже в самых истоках обоих сообществ мы видим одних и тех же людей: Чарльза Уитмена и Конви Ллойда Моргана[39]. Да и в дальнейшем два берега Атлантики активно обменивались как идеями, так и людьми.
Пожалуй, единственное заметное отличие состояло в том, что, как уже говорилось, в Америке изучением поведения животных занялись в основном психологи, а в Европе – зоологи. Разумеется, это различие тоже не было абсолютным: среди первых американских исследователей поведения зоологи тоже не были редкостью – начиная с самого Уитмена. Европейские психологи проявили меньше интереса к новой области (у них были приманки поярче – в это время в Европе уже был широко известен психоанализ и зарождалась гештальтпсихология), но все же совсем в стороне от нее не остались: например, немалую роль в становлении науки о поведении сыграл выдающийся британский (впрочем, перебравшийся в 1920 году в США) психолог Уильям Мак-Дугалл – тот самый, что позже дискутировал с Уотсоном. И все же среди исследователей поведения в Европе зоологи составляли подавляющее большинство, а в Америке – явное меньшинство.
Это предопределило одно важное, но никем тогда (да и позже – вплоть до самого недавнего времени) не осознанное обстоятельство. Дело в том, что к началу XX века зоология была уже почтенной «старой» наукой со сложившейся традицией подготовки новых поколений зоологов. И едва ли не самыми главными предметами в этой системе подготовки, стержнем профессионального зоологического образования были сравнительная анатомия и морфология. Начинающий зоолог (не только студент, но и любитель-самоучка – многие серьезные ученые того времени начинали именно так) прежде всего учится сравнивать строение различных существ и узнавать в непохожих на первый взгляд структурах вариации на одну тему, различные модификации одной и той же базовой схемы. Помните картинку из школьного учебника биологии, показывающую, что крыло летучей мыши, нога лошади, лопатообразная лапа крота, плавник кита и рука обезьяны представляют собой видоизменения одного и того же набора элементов? Эти элементы могут разрастаться, съеживаться, искривляться, расщепляться, сливаться друг с другом – но никогда не меняют взаимного расположения. Даже когда некоторые из них исчезают вовсе, их зачатки почти всегда можно найти на той или иной стадии эмбрионального развития. Такой же универсальный набор изменчивых элементов образует, например, ротовые аппараты насекомых: мощные жвалы пчелы-плотника, изящный хоботок бабочки, смертельные капканы жужелицы и стрекозы, шприц комара и «механическую швабру» комнатной мухи. И даже в «подошве» садовой улитки, щупальцах осьминога и крыльях морского ангела взгляд зоолога различит модификации одного и того же исходного образования.






