Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать Жуков Борис
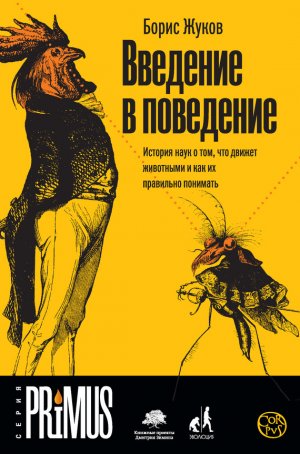
Казалось бы, какое отношение имеет это знание, выработанное в кабинетах и у препараторских столов путем разъятия неподвижных мертвых тел и скелетов, к поведению – текучему, динамичному, плохо фиксируемому, присущему только живому животному и неотделимому от него?
Нет, европейские зоологи-зоопсихологи не обратились к идее Декарта о том, что поведение животного однозначно определяется его анатомией и при достаточно полном знании таковой может быть из нее выведено. Речь о другом: наши занятия налагают отпечаток на наше восприятие, определяют те «элементы» и «единицы», на которые мы мысленно раскладываем то, что видим. «Автомобиль», «ехать», «каюта», «колесо», «дерево» – какое слово лишнее? Человек, которому регулярно приходится пользоваться разными видами транспорта, вероятно, назовет «дерево» – все остальные слова имеют отношение к езде. Филолог выделит «ехать» как единственный глагол среди существительных. А сценарист, скорее всего, исключит «каюту», потому что без нее остальные слова сами собой складываются в маленькую историю.
Следствием особой роли сравнительной анатомии в зоологическом образовании является то, что, рассматривая разных животных, профессиональный зоолог почти автоматически, и часто даже не осознавая этого, выделяет сходные (хотя и сильно видоизмененные и, возможно, связанные с разными функциями) формы. Неудивительно, что и обратившись к новому предмету – поведению, – зоологи увидели в нем прежде всего ряд характерных форм: последовательностей движений и/или поз, раз за разом повторяющихся в поведении не только индивидуального животного, но и больших групп особей (например, всех взрослых самцов данного вида) и зачастую сходных у родственных видов. Конечно, эти формы (паттерны поведения) были динамическими, их нельзя было отпрепарировать и зафиксировать, как скелет конечности или кровеносную систему, но они были вполне различимы и узнаваемы, а опытным наблюдателям казалось, что они просто бросаются в глаза. Иными словами, буквально с первых же лет изучения поведения животных как самостоятельного предмета среди европейских исследователей естественным образом утвердился морфологический подход к нему.
Совершенно по-иному видели тот же предмет психологи. Напомним, что в первое десятилетие XX века психология была еще очень молода. Основную часть психологического сообщества составляли «психологи первого призыва», пришедшие в новорожденную дисциплину кто из физиологии и медицины, кто из философии, кто еще откуда. Система психологических институций (в том числе профессионального образования) едва-едва зарождалась. Впрочем, даже если бы она уже была сформированной и развитой, вряд ли сравнительная анатомия и морфология заняли бы в ней столь почетное место, как в зоологии. Не будучи отягощены никакими априорными методологическими привычками, психологи обычно членили поведение животных функционально – по тому результату, на который оно было направлено. Форма конкретных движений при этом не имела значения: чем бы ни нажала крыса на заветный рычаг – лапой, носом или даже хвостом, – аппетитный шарик все равно выкатится, ток отключится, дверца откроется. И исследователь в протоколе эксперимента зафиксирует успешное решение задачи. И наоборот: точно такое же движение, выполненное не в том месте, не вовремя или не по тому сигналу, не произведет нужного действия и будет занесено в статистику ошибок[40].
(Нотабене: позднее, с победой бихевиоризма, функциональный подход, казалось бы, должен был стать одним из источников внутренних противоречий: получается, что мы выделяем те или иные феномены поведения по результату, на достижение которого они направлены, но при этом не имеем права предполагать, что у животного есть какое-то представление об этом результате, а объяснять выделенные таким образом феномены должны только предшествующими воздействиями! Однако к тому времени функциональное членение поведения стало уже чем-то само собой разумеющимся, необсуждаемым и во многом неосознаваемым, так что столь очевидное противоречие десятилетиями оставалось незамеченным.)
Разумеется, все сказанное не означает, что европейских зоопсихологов не интересовал функциональный смысл того или иного поведенческого акта. Но для них это был лишь один из аспектов поведения. К тому же в этом вопросе к их услугам опять-таки была родная зоология: проблема соотношения формы (структуры) и функции в ней разрабатывалась к тому времени уже добрых лет сто, и зоопсихологи-«формалисты» могли применить к поведению понятийный аппарат, давно наработанный в сравнительной и эволюционной морфологии. (Что, как мы увидим чуть ниже, они и делали – и не без успеха.) Представители же психологической традиции не могли даже поставить вопрос о функциональном назначении того или иного поведения (и, соответственно, о его эволюции, возможной смене или совмещении функций и т. д.), поскольку их способ выделения «единиц поведения» не позволял даже мысленно отделить сам поведенческий акт от его функции. В самом деле, исследователь, всерьез задавшийся вопросом «зачем крыса выключает ток, который бьет ее по лапам?», выглядел бы довольно странно.
Как уже было сказано, ни тогда, в первые годы XX века, ни позже, когда идейный конфликт между двумя подходами к поведению был осознан и открыто провозглашен обеими сторонами, этого различия в исходных установках никто не заметил. Как европейские, так и американские[41] исследователи поведения действовали так, словно их подход был не просто естественным, но единственно возможным. Куда привел американцев их подход, мы уже видели в предыдущей главе. Посмотрим теперь, какими путями шли и к чему пришли европейцы.
То, что на рубеже XIX–XX веков поведение животных стало рассматриваться как самостоятельный предмет исследований, вовсе не означало, что занявшиеся им ученые полностью посвятили себя ему, оставив свои прежние интересы. Такие сосредоточенные именно на поведении исследователи, как Фабр, представляли собой скорее исключение. Для большинства же интересующихся поведением зоологов эта область поначалу была лишь еще одним аспектом изучения той или иной интересующей их группы животных – наряду с анатомией, географическим распространением, связью с определенными ландшафтами, спектром питания и т. п. Знания об этом новом аспекте должны были помочь решению традиционных зоологических задач – в первую очередь установлению эволюционного родства разных групп животных и их места в зоологической систематике. Такая постановка задачи не только делала естественным именно морфологический подход, но и заставляла исследователей обратить внимание прежде всего на устойчивые, стереотипные, характерные для всего вида (или даже более крупных систематических групп) формы поведения. «Наша отрасль науки возникла как вспомогательная дисциплина общего исследования эволюции, доставлявшая ценные данные для применения в таксономии», – писал шестью десятилетиями позже Конрад Лоренц (о роли которого в науках о поведении нам еще предстоит рассказать).
Классическим и, вероятно, самым успешным образцом такого типа исследований служит знаменитая работа Чарльза Уитмена по голубям. В конце XIX века систематика этой группы выглядела запутанной и неясной. Ряд видов некоторые авторы включали в голубеобразных, другие ученые считали их родственниками этой группы, третьи полагали, что никакого особого родства между ними нет. Непонятны были и эволюционные отношения голубей с другими крупными группами птиц, и их систематический ранг. Взявшись разобраться в этом вопросе, Уитмен наряду с традиционными данными по анатомии, эмбриологии и палеонтологии включил в рассмотрение и собственные наблюдения за поведением голубей и их предполагаемых родственников. Коль скоро, согласно Дарвину, инстинкты возникают и изменяются в ходе эволюции так же, как и телесные структуры (эту мысль Дарвина Уитмен неоднократно цитировал в своих работах), логично и рассматривать типичные для того или иного таксона формы поведения как еще одну группу признаков, сходство или несходство которых должно быть также учтено при реконструкции родственных связей.
Применив этот подход на практике, Уитмен обратил внимание на одну форму поведения – не бог весть какую важную, но очень характерную для голубей. Наверное, все знают, что птицы пьют весьма неудобным (с человеческой точки зрения) способом: захватывают воду клювом, а затем запрокидывают голову, чтобы вода стекла в глотку. Так пьют все птицы – кроме голубей: те просто погружают в воду кончик клюва и сосут, не отрываясь, пока не напьются. Уитмен разделил все сомнительные группы на способных и неспособных к сосанию – и прочие данные, выглядевшие запутанными и противоречивыми, вдруг выстроились в четкую систему, как свойства элементов в таблице Менделеева. Способностью к сосанию обладают все без исключения виды голубеобразных – и никто из сходных с ними внешне, но неродственных им групп. (Такие признаки, присущие всем представителям некоего таксона и только им, называются в систематике синапоморфиями; найти их – хрустальная мечта любого биолога-систематика вне зависимости от того, какие методы он использует.) Этот признак, в частности, резко отделил голубей от ржанковых (группы, объединяющей куликов и чаек), которых до того многие орнитологи считали одной группой.
Очевидный успех Уитмена способствовал внедрению исследований поведения в практику зоологов (особенно орнитологов и энтомологов), тем более что среди них и так уже понемногу утверждалось представление, что зоологии пора переходить от изучения скелетов и чучел к изучению живых животных в их естественной среде обитания. Но как для самого Уитмена, так и для большинства прочих зоологов-поведенщиков эти исследования так и остались «вспомогательной дисциплиной», помогающей решать традиционные зоологические проблемы, но не нуждающейся в какой-то собственной общей теории[42]. Не ставил целью создать общую теорию поведения или основать новую фундаментальную науку и Оскар Хайнрот – крупный немецкий орнитолог, основатель и бессменный куратор знаменитого Аквариума в Берлинском зоопарке. (Такая должность может показаться странной для орнитолога – но к Аквариуму относились не только рыбы, а все животные, тесно связанные с водой, в частности водоплавающие птицы, которыми в основном и занимался Хайнрот.) Как мы уже знаем по Фредерику Кювье, куратор обширной коллекции живых «экспонатов» волей-неволей начинает изучать их поведение. Если же у него есть собственный интерес к этому предмету и талант наблюдателя (а у Хайнрота того и другого было в избытке), результаты могут оказаться куда богаче решения тех практических задач, с которых все начиналось.
Вслед за Уитменом Хайнрот взялся изучать поведение различных видов уток, чтобы лучше разобраться в систематике этой группы. Конечно же, предметом его интереса стали в первую очередь те действия, которые все представители того или иного вида выполняли почти одинаково. Довольно быстро Хайнрот выделил среди таких актов те, которые не требуют никакого предварительного обучения (многие его питомцы появлялись на свет в инкубаторе и могли не видеть взрослых сородичей столько времени, сколько было нужно ученому), и в дальнейшем изучал в основном именно врожденные формы поведения. Особое внимание он уделял демонстрациям – тем последовательностям движений, поз и характерных криков, которые адресованы сородичам и призваны как-то повлиять на их поведение (склонить самку к спариванию, принудить соперника умерить притязания и т. д.). Изучение их действительно помогло Хайнроту разобраться в родстве представленных в коллекции видов: сходства и различия между характерными паттернами поведения разных видов говорили об их эволюционной истории яснее, чем традиционные морфологические признаки. Но эта работа изменила сам взгляд Хайнрота на феномен поведения. То, что он видел в своих вольерах, мало походило на действие рычажной системы или даже автоматической телефонной станции, равнодушно преобразующей входной сигнал в ответное действие. Каждый элемент утиных демонстраций представлял собой комплекс точно и тонко скоординированных движений и положений разных частей тела, закономерно сменяющих друг друга. Вся эта балетная партия словно сама рвалась наружу, сдерживаемая до поры до времени неким тормозом. Роль стимула (в данном случае – встречного сигнала-действия со стороны партнера по коммуникации) сводилась к тому, что он снимал этот тормоз и выпускал наружу готовый комплекс поз и движений.
В своих статьях 1910–1911 гг. Хайнрот назвал эту активность arteigene Triebhandlung, буквально – «видоспецифичное поведение под действием внутреннего порыва». Ко времени публикации этих статей поведение для него уже не было приложением к анатомии: то, что он увидел в нем, было настолько богато, неожиданно и интересно, что заслуживало создания отдельной области науки. Хайнрот предложил назвать эту науку этологией, то есть наукой о характерных особенностях поведения, «привычках и манерах», – и даже вынес это слово в заголовок своей обобщающей статьи. Вообще говоря, слово «этология» употреблялось натуралистами по крайней мере уже полвека – с 1859 года, когда Исидор Жоффруа Сент-Илер (сын уже знакомого нам Этьена Сент-Илера) назвал так науку (в ту пору еще только проектируемую), которую мы сегодня называем экологией. С тех пор термин время от времени появлялся в работах европейских биологов – чуть ли не каждый раз с новым смыслом. В статье Хайнрота он впервые означает примерно то, что мы называем словом «этология» сегодня, – науку о естественном поведении животных.
Впрочем, Хайнрот считал предметом этологии не все поведение, а лишь врожденное. И прежде всего – изучение «языка и ритуалов» животных, их «коммуникативных систем». По его мнению, этой группы явлений и одной хватило бы для самостоятельной научной дисциплины.
Между тем другое важнейшее открытие Хайнрота не вполне вписывалось в понятие «врожденное поведение», хотя и было явно очень близким к таковому. Как уже было сказано выше, многие подопечные Хайнрота вылуплялись на свет не в гнездах, а в инкубаторе, вдали от своих родителей. Хайнрот заметил, что, если в первые часы после вылупления на глаза новорожденному утенку или гусенку попадется движущийся человек (а такое в инкубаторе зоопарка происходило, разумеется, нередко), птенцы начинают следовать за ним и вообще вести себя по отношению к нему так, как нормальный утенок ведет себя по отношению к матери-утке. При попытке поместить такого птенца в приемную семью он пугается взрослых птиц (хотя они, как правило, не проявляют никакой агрессии и готовы принять его в свой выводок), убегает от них и упрямо следует за людьми. Хуже того, даже выросши и став взрослой, такая птица часто продолжает рассматривать людей как своих соплеменников – вплоть до попыток образовать с кем-нибудь из них семейную пару.
Хайнрот описал этот удивительный феномен под названием «запечатление» (Prgung), не зная, что еще в 1872–1875 гг. его открыл талантливый, но рано умерший английский натуралист-самоучка Дуглас Сполдинг (работы которого в ту пору остались практически незамеченными, хотя были опубликованы в солидных изданиях, в том числе в Nature). Сегодня это явление обычно называют термином «импринтинг», означающим, собственно, то же самое, но по-английски. Для самого Хайнрота феномен запечатления имел двоякое значение. С одной стороны, это была чисто практическая проблема: выводок пуховичков, неотступно следующих за служителем, изрядно мешал тому выполнять свои обязанности, а позже такое запечатление осложняло размножение выращенных птиц. (С этим Хайнрот справился, максимально сократив время, в течение которого птенцы видели человека: сразу по вылуплении их сажали в плотный мешок и в нем относили к предполагаемым приемным родителям.) С другой – это явление наглядно демонстрировало, что определенные формы поведения не формируются стимулами, а существуют до и помимо них: ведь в данном случае само поведение птенца задано до рождения, а вот стимул, который будет его запускать, еще только предстоит определить.
Но заниматься более углубленным исследованием запечатления Хайнрот не стал – его больше интересовали коммуникативные системы и сравнение их у разных видов. Как обычно и бывает в науке, новое знание ставило новые вопросы. Вот, допустим, у некоего вида есть набор ритуалов – характерных последовательностей движений и поз, смысл которых понятен без обучения любому представителю данного вида. А откуда он, собственно, взялся? Из случайных движений? Но случайное движение, никак не связанное с тем, что особь пытается им выразить, не будет понято партнером. Как, например, самка-чайка когда-то поняла, что самец, раз за разом вздергивающий перед ней голову, тем самым предлагает ей брачный союз? (Как пелось когда-то в советской лирической песне об аналогичной ситуации у людей: «…и кто его знает, чего он моргает?») И как догадался первый павлин, что пава, рассеянно поклевывающая соринки на земле, словно бы даже не глядя на его прекрасный хвост, так выражает жгучий интерес к его ухаживаниям?
Хайнрот нашел ответ на эти вопросы – или, точнее, ту область, где эти ответы можно искать. Но так получилось, что этот ответ сообщество исследователей поведения услышало от другого ученого, пришедшего к нему независимо от Хайнрота, – английского зоолога Джулиана Хаксли.
Об этом человеке и его роли в биологии XX века можно и нужно было бы написать отдельную книгу. Внук знаменитого Томаса Хаксли[43], прозванного «бульдогом Дарвина» за постоянную готовность защищать эволюционную теорию, Джулиан пошел по стопам деда – и оказался его достойным потомком. Джулиан Хаксли был одним из лидеров того международного «невидимого колледжа», трудами которого создавалась современная версия дарвинизма – так называемая синтетическая теория эволюции. (Кстати, и самим этим именем она косвенно обязана ему: оно происходит от программного сборника 1942 года «Эволюция: современный синтез», редактором-составителем которого был Джулиан Хаксли.) Он ввел в биологию (причем в разные ее области) ряд фундаментальных понятий, ставших фактически основами целых направлений исследования. Кроме того, он писал популярные книги по биологии, создавал музеи и африканские заповедники, был наставником ряда блестящих ученых, в том числе будущих лауреатов Нобелевской премии, и занимал различные административные и общественные должности.
Но нас сейчас интересует только одна из многочисленных областей его интересов. Помимо эволюции, морфологии, систематики, генетики, эмбриологии, географической изменчивости (а вернее – в сочетании с ними) Хаксли весьма интересовало поведение животных. В 1914 году он опубликовал обширную (более 70 страниц) статью о «повадках ухаживания» у чомги (большой поганки) – крупной, нарядно окрашенной водоплавающей птицы. Автор не только точно и подробно описал все выразительные па брачных танцев и церемоний (а они у чомги сложные и долгие), но и постарался проанализировать их смысл. В частности, он обратил внимание на то, что на одной из ранних стадий ухаживания самец достает из-под воды фрагменты растений и, держа их в клюве, совершает движения, очень похожие на те, которыми потом, после успешного завершения ухаживания, будет вместе с самкой строить гнездо. Иными словами, паттерн поведения, имеющий в одной ситуации конкретный функциональный смысл, в другой используется как сигнал, как знак будущего (предлагаемого) совместного поведения – что-то вроде «а давай строить гнездо».
А не этим ли самым путем возникают элементы коммуникативного поведения – если не все, то по крайней мере многие? Начальные действия какого-то инстинктивного поведения хорошо известны обоим партнерам, и когда один из них их совершает (особенно в обстановке, когда они заведомо не могут быть доведены до конца), другой без труда интерпретирует их как проявление намерений. Это означает, что действие помимо своей основной функции приобретает еще и сигнальную. В этом качестве оно может начать жить самостоятельной жизнью: эволюционировать в сторону большей четкости, выразительности и узнаваемости и «обрастать» помогающими делу морфологическими структурами (для начала – окраской, которая будет подчеркивать сигнальные движения). Возможно, в конце концов действие даже «оторвется» от породившей его формы поведения, и получатся два разных паттерна – не только по назначению, но и по «рисунку», по той самой форме, которую зоологи-зоопсихологи ставили во главу угла в своем анализе поведения. Скажем, в сигнальном (чаще всего опять-таки в брачном) поведении многих птиц часто можно видеть характерные «приседания». Даже взгляд опытного исследователя вряд ли различил бы в них движение, предваряющее взлет, кабы не наличие своего рода поведенческих реликтов – видов, у которых одно и то же движение служит и «принятием низкого старта», и элементом ухаживания.
Это явление Хаксли назвал ритуализацией (и точно так же, только по-немецки, назвал его Хайнрот, тоже обнаруживший его). С точки зрения теории эволюции в нем не было ничего особенного. Еще в 1875 году немецкий зоолог Антон Дорн сформулировал «принцип смены функций» для телесных органов и структур, которые, совершенствуясь в выполнении одной функции, оказываются способны взять на себя другую. Скажем, в эволюции некого древнего хордового возникла необходимость усилить ток воды через жаберные щели, чтобы интенсифицировать газообмен. В процессе этой модификации передняя жаберная дуга получила способность складываться-раскладываться и мощные мышцы, которые это делали. И тут оказалось, что такой жаберной дугой можно захватывать и удерживать кое-что повкуснее мелких органических частиц. Так наши далекие предки обзавелись челюстями – со всеми их привычными для нас функциями. (Позднее некоторые элементы подвески челюстей, оказавшись ненужными в своем основном качестве, точно так же сменили функции: перекочевали в состав среднего уха и работают теперь слуховыми косточками.) Предки «электрических» рыб повышали мощность своего электролокатора, чтобы увеличить его разрешающую способность, – пока он не превратился из органа чувств в оружие. Исследования последних десятилетий показали, что для «рабочих» молекул (ферментов, белков-рецепторов и т. д.) смеа функций – явление еще более обычное, чем для органов и скелетных элементов. Так почему же еще одна разновидность изделий естественного отбора – паттерны поведения – не может возникать тем же путем?
Но это если смотреть в широком эволюционном контексте. А в контексте собственно зоопсихологии такой путь формирования коммуникативных сигналов означал, что у животных есть намерения и что без учета этих намерений понять их поведение невозможно. Ни половому партнеру, ни передовому исследователю.
Статья Хаксли вышла через год после того, как на другом берегу океана Уотсон объявил рассмотрение такого рода вопросов ненаучным и ненужным. Впрочем, как мы помним, в Европе идея отказа от «приписывания» животным психических функций обсуждалась задолго до манифеста Уотсона – еще со времен знаменитой статьи Бете, Беера и фон Юкскюля. В противостоянии этой тенденции зоологи-поведенщики могли бы опереться на неожиданную поддержку со стороны… Якоба фон Юкскюля.
Ученый должен сохранять верность истине и не цепляться за свои прежние взгляды, если результаты его исследований противоречат им. Так говорит научная этика. В реальной науке так бывает, увы, далеко не всегда – но все же бывает. И один из самых ярких примеров – идейная эволюция Якоба фон Юкскюля между 1899 и 1908 годом.
Обычно к отказу от взгляда на животных как на «рефлекторные машины» ученых приводит изучение животных высокоразвитых, обладающих большими интеллектуальными возможностями и богатым эмоциональным миром и способных выражать свои чувства и намерения в понятной для нас форме: обезьян, собак, дельфинов, врановых, крупных попугаев и т. д. Фон Юкскюля к такой перемене воззрений привело животное с относительно простым поведением, лишенное заметных для человека признаков интеллекта или эмоций, эволюционно далекое от нас и вдобавок довольно неприятное: иксодовый клещ. Самый обычный клещ, которого многие из нас с омерзением стряхивали со своей одежды или кожи во время лесных прогулок.
Логика выбора объекта была понятной. Занимаясь сравнительной физиологией беспозвоночных (работой нервной системы и органов чувств, физиологией мышечного сокращения и т. п. вопросами) и разделяя, как мы знаем, идею свести поведение к физиологии, фон Юкскюль решил не ограничиваться декларациями, а предпринять реальные шаги в этом направлении. Конечно, для этого нужен был объект с достаточно простым поведением. А что может быть проще поведения клеща? Пройдя последнюю линьку и став взрослым, клещ забирается на кончик травинки или ветки невысокого кустарника над звериной тропой и замирает, растопырив две передние пары лап. В этой позе он может пребывать много дней, сохраняя полную неподвижность. Когда мимо пройдет какое-нибудь животное, клещ цепляется за его шерсть. Потом он еще некоторое время путешествует по шкуре своего хозяина в поисках подходящего места и, выбрав, погружает в кожу свой хоботок и принимается сосать кровь.
Кажется, что такое поведение идеально подходит для описания его как цепочки рефлексов и тропизмов: сначала клещ руководствуется отрицательным геотропизмом (лезет вверх по травинке, пока та не кончится), затем вообще надолго замирает в ожидании нужного стимула – запаха жертвы. Есть стимул – включается следующая реакция, нет – он так месяц просидеть может, не проявляя никаких признаков нетерпения. Чем не автомат?
Но тщательное изучение этого существа привело фон Юкскюля к выводу, что стимулы и рефлексы – это не более чем детали, кирпичики, из которых складывается поведение, даже такое простое, как у клеща. Животное не просто реагирует на те или иные стимулы – переходя к очередному этапу поведения, оно фактически само создает тот мир, в котором ему предстоит действовать. Фон Юкскюль назвал этот мир Umwelt – буквально «мир вокруг», то есть внешний мир, поэтому некоторые невнимательные читатели (особенно составители всевозможных дайджестов и кратких справок) часто путают это понятие с понятием «окружающей среды». Но Umwelt фон Юкскюля – это не внешний мир. Это тот образ внешнего мира, который существует у животного; то, как оно этот внешний мир воспринимает и представляет.
Но разве органы чувств не дают каждому живому существу объективную картину мира? Разве летучая мышь, ощупывая кромешную тьму пещеры своим ультразвуковым локатором, «видит» не те же стены и своды, выступы и ниши, что видим мы, направив на них свет фонаря? Разве мы не воспринимаем формы, краски и ароматы цветов – сигналы, предназначенные вовсе не нам, а насекомым-опылителям? Разве самка бабочки, выбирая место для откладки яиц, не различает даже близкие виды растений с уверенностью профессионального ботаника?
Ну, во-первых, разные существа обладают разными наборами органов чувств, да и возможности сходных органов чувств у них неодинаковы. Мы чуем запахи, но по сравнению с собакой мы практически лишены обоняния: ведь для нас даже свежий след зверя ничем не пахнет, и даже учуяв кошачий запах, мы не можем сказать, какой именно из живущих во дворе котов оставил здесь метку. Для кошки видимый мир выглядит гораздо менее многоцветным, чем для нас, – зато она прекрасно видит при такой освещенности, которая нам представляется кромешной тьмой. Цветовое зрение насекомых «сдвинуто» по сравнению с нашим в коротковолновую сторону – чисто красные цветы для них неотличимы от черных[44], зато на многих цветах, которые кажутся нам одноцветными, они видят яркий и контрастный ультрафиолетовый рисунок. Тем более нам трудно вообразить, каким предстает мир рыбке мормирусу, ощущающей искажения электрического поля, или гремучей змее, улавливающей инфракрасное излучение всего, что хоть чуть теплее окружающего воздуха. Так что одно и то же окружение отображается в субъективном мире разных животных действительно разным образом – и без учета этой разницы понять поведение животных совершенно невозможно. Достаточно вспомнить хотя бы, что зоологи и физиологи более века не могли понять, как летучие мыши ориентируются в темноте, – и поняли это лишь после того, как инженеры изобрели эхолокатор.
Но основное в мысли фон Юкскюля даже не это. Есть такой полуанекдот-полупритча о человеке, который спрашивал прохожих на улице, как пройти, допустим, к ближайшему почтовому отделению. «Пройдете мимо киношки, перейдете на ту сторону, там будет наша школа, а за ней сразу почта», – ответил школьник. «Идите вот так, там будет продовольственный, потом хозяйственный, потом сберкасса и в том же здании с другой стороны – почта», – посоветовала женщина с большой сумкой. «Напротив собеса, не доходя поликлиники», – пояснил пенсионер.
Мы улыбаемся, потому что понимаем: каждый из персонажей этого сюжета упомянул то, что играет заметную роль в его жизни. Хотя его глаза вполне исправно отображали на сетчатку и далее в мозг все те здания и вывески, о которых говорили другие, в его умвельте они не присутствовали (или, по крайней мере, воспринимались как незначительные и потому «малозаметные», непригодные в качестве ориентиров). Местность в его восприятии состоит из значимых объектов-ориентиров и малоструктурированного «фона» – причем разделение на «объекты» и «фон» у каждого свое. Этот образ местности, созданный мозгом, порой заставляет человека видеть то, чего на самом деле просто нет. Одной моей коллеге довольно известный в своей области ученый, с которым она договорилась об интервью, объяснял, как пройти в здание, где он работал: «Выходите из автобуса, идете перпендикулярно улице, обходите пятиэтажку… гм-м… бывшую пятиэтажку…» На месте пятиэтажки, о которой он говорил, к тому времени уже года два высился новый многоэтажный дом-башня – но для него там так и осталась пятиэтажка.
И, даже уже осознав свою ошибку, он не мог вспомнить, что же там теперь стоит, потому что пятиэтажка в его умвельте была значимым ориентиром (еще с тех пор, как он сам осваивал этот маршрут), а башня – лишь частью фона.
Понятно, что в одном и том же месте и в одно и то же время существа разных видов создадут себе разный умвельт. Разным он будет и для особей одного вида, но разного возраста, пола, физиологического состояния и т. д. Но и умвельт одной и той же особи неодинаков, не равен самому себе. Для клеща, выдвинувшегося на исходную позицию для атаки, весь умвельт сводится к единственному значимому сигналу – запаху бутирата (масляной кислоты), означающему приближение добычи. Пока клещ не почуял его, весь окружающий мир – лишь бессмысленный и нечленимый фон. Ни красок, ни линий, ни звуков для него не существовало и раньше: клещи рода Ixodes (как и многие другие) не имеют органов зрения и слуха. Но теперь для него пропали и запахи, приведшие его к этой тропе, и направление силы тяжести, против которого он лез на травинку, и колебания самой травинки под ним, и ветерок, и дождь, и нагревающие его панцирь солнечные лучи, и колебания температуры воздуха – хотя физически все это продолжает действовать на его рецепторы. Он ждет заветного сигнала – запаха бутирата. Когда этот запах появится, оживут и другие чувства клеща: осязание, которое поможет ему ухватиться за шерсть и потом пробираться между шерстинками; чувство силы тяжести, которое вновь погонит его вверх – к шее или к ушам, куда не достанут зубы четвероногого хозяина, – и т. д. Такое чередование ощущений и действий (ощущения запускают определенные действия, а те открывают доступ в умвельт новым ощущениям) фон Юкскюль назвал «функциональным циклом». Спустя несколько десятилетий кибернетики увидят в юкскюлевском функциональном цикле одно из первых описаний механизма обратной связи.
Заметим при этом, что фон Юкскюль, будучи классическим физиологом, вовсе не отрицал, что в основе всех наблюдаемых им действий клеща лежат рефлексы. Но он считал, что вывести из них поведение организма – даже такое простое, как у клеща – так же невозможно, как вывести из свойств кирпича архитектуру здания (хотя оно несомненно состоит из кирпичей) или из отдельных букв – смысл фразы. Главное в поведении – не рефлекторные механизмы (хотя их, конечно же, надо изучать), а план, конструкция, замысел (Planmssigkeit в терминологии Юкскюля) – каковой, по его мнению, и является главной проблемой не только науки о поведении, но и всей биологии.
Но откуда может взяться в организме эта конструкция, эта сложная и стройная архитектура элементарных перцептивно-двигательных актов? Попытки ответить на этот вопрос привели фон Юкскюля к витализму – представлению о том, что в живых организмах помимо обычных физических сил и тел (молекул, атомов) действует также специфическое нематериальное начало, управляющее всеми жизненными процессами. Довольно популярный в XVII – начале XIX века, витализм потерпел сокрушительное поражение в середине века в связи с успехами эволюционной теории, физиологии и особенно химии, научившейся синтезировать органические вещества из неорганических («старые» виталисты считали это невозможным, полагая, что для синтеза органических веществ необходимо участие «жизненной силы» и ее носителей – живых организмов; отсюда и происходят названия «органическая химия» и «органические вещества»). Однако на рубеже веков и в первые годы XX века витализм вновь стал набирать популярность, обретя много известных сторонников, среди которых наиболее заметны были философ Анри Бергсон и выдающийся эмбриолог Ханс Дриш. Под эти-то знамена и встал фон Юкскюль, разработав собственную версию почтенной старой идеи.
В нашу задачу не входит ни подробный разбор этой версии, ни анализ витализма в целом и той роли, которую он играл в биологии начала XX века. Для нашей темы важно, что начиная с 1920-х годов витализм вновь стал быстро терять популярность в естественных науках, утягивая за собой из круга модных идей и конкретные теории ученых-виталистов. Хотя фон Юкскюлю удалось собрать вокруг себя некоторое число последователей и даже создать при Гамбургском университете, профессором которого он был, небольшой Институт исследования умвельта, его влияние на современную ему физиологию и зоопсихологию оказалось весьма ограниченным. Даже сегодня имя Якоба фон Юкскюля куда более известно в семиотике (он считается то ли предтечей, то ли одним из основателей этой науки), чем в физиологии и науках о поведении. Никак не откликнулись на его идеи и «протоэтологи» – Уитмен (умерший вскоре после обнародования фон Юкскюлем своих новых взглядов на поведение животных – в 1910 году), Хайнрот и Хаксли. Оценить истинное значение его концепции предстояло ученому следующего поколения, одному из главных героев этой главы и всей книги.
Но прежде чем мы перейдем к нему и его времени, нужно хотя бы вкратце сказать о еще одной фигуре начала века – авторе первой целостной теории инстинктивного поведения.
В 1918 году в одном из бюллетеней Морской биологической лаборатории в Вудс-Холе (той самой, где двадцатью годами ранее Чарльз Уитмен читал свою программную лекцию-манифест) вышла статья Уоллеса Крейга «Влечения и избегания как составляющие инстинкта». Автор статьи в это время занимал должность профессора философии в Университете штата Мэн в Ороно, но истинной областью его научных интересов была орнитология, а наставником и научным руководителем – сам Уитмен. Выход его статьи именно в издании Вудс-хольской лаборатории выглядел символично: в ней Крейг попытался выполнить ту программу, которую Уитмен фактически предложил в своей лекции, но которой сам так и не занялся.
В своей статье Крейг рассмотрел структуру инстинктивного поведения как такового – безотносительно и к физиологическим механизмам этого поведения, и к психическим переживаниям его субъекта. По Крейгу, основные составляющие этой структуры сходны для самых разных инстинктов – пищевого, полового, гнездостроительного и т. д. Поведение запускается вовсе не стимулом, как стало модно думать после лекции Уотсона, – оно начинается с нарастания внутренней потребности, которую животное ощущает как влечение (appetite). Это влечение заставляет его активно и целенаправленно искать те стимулы, которые могли бы удовлетворить потребность, – пищу, партнера и т. д. Такие поиски (Крейг назвал их аппетентным поведением) продолжаются до тех пор, пока нужный стимул не будет найден. Как только он воспринят, аппетентное поведение сменяется консумматорным актом – выполнением собственно инстинктивного действия. В результате консумматорного акта потребность удовлетворяется, влечение спадает до нуля или даже сменяется отталкиванием, животное перестает реагировать на еще недавно вожделенные стимулы или вообще уходит от их воздействия. Через некоторое время потребность снова начинает возрастать, и цикл повторяется заново.
Аппетентное поведение и консумматорный акт представляют собой две фазы одного и того же «эпизода поведения», но по своим характеристикам заметно отличаются друг от друга. Аппетентное поведение куда более разнообразно, гибко, пластично, в него могут органично вплетаться проявления индивидуального опыта (а мы можем добавить – и сообразительности, то есть интеллекта). Консумматорный акт более стандартен, стереотипен, имеет определенную и узнаваемую форму. Вспомним Фабра и его любимых ос-охотниц: помпил может долго перебегать от одной щелки в земле или камнях к другой в поисках подходящего паука, выписывая самые замысловатые траектории, время от времени замирая на месте или поднимаясь в воздух, сообразуясь с информацией, поступающей от органов чувств. Но в решающий момент последовательность его движений всегда одинакова. Запечатывание ячейки с отложенным яичком и запасом еды для личинки – тоже консумматорный акт (и составляющую его последовательность действий, как показали многочисленные опыты Фабра, практически невозможно изменить), а вот действия осы, ищущей уже построенную ею норку, чтобы добавить в нее очередную добычу, – это аппетентное поведение.
Сходно строится поведение и более близких к нам животных. Кошка в поисках добычи проявляет немалую изобретательность, охотно обследует вновь открывшиеся угодья (выкошенную лужайку или незапертый погреб), особое внимание уделяет местам прежних удачных охот. Решающее же движение куда более стандартно: в зависимости от типа добыи зверек обычно применяет один из трех основных приемов – «кошка ловит мышь» (бросок вперед с вытянутыми параллельно друг другу передними лапами), «кошка ловит птицу» (быстрое вытягивание или прыжок вверх; передние лапы широко разведены в стороны и движутся навстречу друг другу) или «кошка ловит рыбу» (выпад вперед одной лапой с последующим броском добычи назад через противоположное плечо). И всеми этими сложно скоординированными приемами любая кошка владеет от рождения.
Разумеется, двухчастная модель Крейга описывала только простейший случай, базовую схему, на которую могут накладываться различные видоизменения и усложнения (как механика Ньютона описывала простейшие ситуации движения, а модель Менделя – простейшие случаи наследования). Многие характерные паттерны врожденного поведения не так-то просто разделить на аппетентную и консумматорную части. (Взять хотя бы птичье пение, то есть сложные звуковые сигналы самцов певчих птиц – что здесь аппетентное поведение, а что консумматорное?) Как мы увидим в дальнейшем, некоторой идеализацией оказалось и представление о неизменности консумматорного акта и его невосприимчивости к индивидуальному опыту. Тем не менее схема Крейга стала важнейшим теоретическим достижением, а лежащие в ее основе принципы – морфологический подход к поведению, представление о его активной природе и внутренней обусловленности и собственно стремление интерпретировать поведение, исходя из него самого, – оказались в дальнейшем весьма плодотворными.
Правда, это «в дальнейшем» наступило нескоро. Ни сразу после публикации, ни в последующие годы работа Крейга не вызвала сколько-нибудь заметного интереса и оставалась малоизвестной. На родине автора триумфально восходил бихевиоризм, а «протоэтология», не успевшая сформировать и противопоставить ему внятную теоретическую альтернативу, все более маргинализировалась. Немецкоязычный научный мир был отделен не только языковым барьером, но и окопами и проволочными заграждениями еще не законченной Первой мировой. Даже в Англии на американскую науку все еще по привычке смотрели как на провинциальную. Конечно, ведущие американские журналы там читали – но бюллетень лаборатории в Вудс-Холе к ним не относился. Не способствовали популярности взглядов Крейга и обстоятельства его научной карьеры: в 1922 году он по личным причинам сложил с себя обязанности профессора и до конца жизни перебивался на временных должностях в различных университетах.
К началу 1920-х годов то направление в зоопсихологии, которое мы условно назвали «протоэтологией», напоминало рассыпанный пазл. Задним числом в работах его представителей (а также некоторых их современников, принадлежавших к другим исследовательским традициям, – как, например, фон Юкскюль) можно найти почти все те идеи, которым вскоре предстояло сложиться в стройную и глубокую теорию. Но они существовали по отдельности, не образуя контекста друг для друга, не будучи оценены по достоинству научным сообществом, а зачастую и самими авторами. Для прорыва не хватало людей, которые увидели бы в бессвязном нагромождении линий и пятен единую картину.
И такие люди в конце концов нашлись.
Имена Конрада Лоренца и Николааса (Нико) Тинбергена сегодня широко известны во всем цивилизованном мире, в том числе и в нашей стране. Все знают, что они занимались изучением поведения животных, многие – что они получили за это Нобелевскую премию. Но за пределами круга людей, так или иначе профессионально связанных с науками о поведении, до обидного мало известно, что же конкретно сделали эти ученые.
Даже в англоязычной Википедии написано: «…наиболее значительный вклад Лоренца в этологию – идея, что паттерны поведения можно изучать как анатомические органы» (как мы видели, эту идею задолго до Лоренца успешно применяли в конкретных исследованиях Уитмен и Хайнрот). В русскоязычных источниках, в том числе и весьма авторитетных, можно найти утверждения, что Лоренц-де «открыл явление импринтинга», существование внутривидовой агрессии или даже установил, «что животные передают друг другу приобретенные знания путем обучения». О научных заслугах Тинбергена чаще всего не говорится вообще ничего определенного.
Боюсь, все изложенное выше не проясняет их роли – скорее уж наоборот. Ведь если собрать воедино все идеи и открытия предшественников этологии, может показаться, что к моменту прихода в науку Лоренца и Тинбергена все основные положения классической этологии уже были сформулированы и высказаны.
И тем не менее в своей автобиографии Лоренц пишет о разочаровании, которое он испытал в юности, читая тогдашнюю литературу о поведении: «Никто из этих людей не понимал животных, никто не был настоящим знатоком». Именно тогда Лоренц, по его словам, ощутил «собственную ответственность» за создание целостного представления о поведении животных, поняв, что от ведущих теоретиков ничего внятного ждать не приходится.
Как же соотнести одно с другим? Вспомним, что работы Уитмена, Хайнрота, Хаксли не претендовали на построение какой-либо общей теории поведения (хотя бы даже только врожденного и видоспецифического). Но это не означает, что в зоопсихологии времен юности Лоренца (то есть примерно первой половины 1920-х годов) теорий не было вовсе. Как мы уже говорили в главе 2, там все еще кипели споры о том, возможно ли научное изучение психики животных, предполагавшие неизбежный (как казалось) выбор между механицизмом и антропоморфизмом. К описываемому времени каждая из этих альтернатив уже была продумана и артикулирована в виде некоторого круга представлений и понятий, более-менее общих для целой группы направлений и школ. Направление, отрицавшее существование у животных психики или, по крайней мере, возможность и надобность ее изучения, выступало под знаменем объективизма. К описываемому времени центральное положение в этом лагере уже прочно занял бихевиоризм (и Лоренц в своей автобиографии именует «бихевиористами» всех тогдашних приверженцев объективистского подхода), но к нему же примыкали и зоопсихологи физиологической традиции (такие, как Бете или Павлов[45]) и некоторые другие школы и направления.
Объективистский подход год от года набирал популярность, несмотря даже на переход в противоположный лагерь одного из самых авторитетных объективистов – фон Юкскюля. В США он (в форме бихевиоризма) уже явно доминировал, но в европейской зоопсихологии все еще преобладали сторонники изучения психики животных. Отказавшись от прямолинейно-антропоморфистского истолкования поведения, они искали иные способы судить по нему о внутреннем мире животных. Эти поиски были по-своему плодотворны (как мы видели на примере развития концепции фон Юкскюля), но сама логика противостояния идее «рефлекторных автоматов» чем дальше, тем настойчивее подталкивала их к виталистическим взглядам, тем более что именно в 1900–1920-е годы возродившийся из пепла витализм находился на пике своей популярности в биологии в целом. Однако обращение к витализму было чревато методологическим параличом: у естествознания того времени не было никаких средств и методов для работы с нематериальными факторами. Отказываясь признавать поведение суммой рефлексов, оппоненты объективизма не могли предложить ничего взамен. Им оставалось только строить умозрительные теории и модели, проверка которых не выглядела возможной даже в будущем, да критиковать работы своих противников, сообщавшие о все новых успехах. Это и предопределило неуклонное падение популярности субъективистского подхода на протяжении всей первой трети XX века.
В 1920-е годы основные теоретические усилия сторонников этого подхода были так или иначе сосредоточены вокруг проблемы инстинкта, поэтому все направление получило собирательное название инстинктивизма. Ведущим теоретиком инстинктивизма стал уже неоднократно упоминавшийся на страницах этой книги британо-американский психолог Уильям Мак-Дугалл, предложивший собственную концепцию инстинкта. По Мак-Дугаллу, инстинкт – это прежде всего психическое явление, некое подсознательное влечение или стремление, побуждающее человека или животное к действиям, направленным на достижение определенного результата[46].
Возможно, на последних трех абзацах у читателя уже зарябило в глазах от всех этих многочисленных «измов». Если так, самое время взглянуть на их противостояние глазами молодого Лоренца. Юный Конрад с самого раннего возраста отличался, по его собственному выражению, «чрезмерной любовью к животным». Многие мальчишки тащат в дом разную живность, но не у многих хватит терпения, например, растить 44 головастика пятнистой саламандры, чтобы посмотреть, как они превращаются во взрослых амфибий. Маленького исследователя интересовали все животные и все стороны их жизни, но особенно их поведение. Кстати, еще в детстве, когда ему подарили только что вылупившегося утенка, он действительно столкнулся с феноменом импринтинга – ничего, естественно, не зная о работах Хайнрота и тем более Сполдинга (так что источники, приписывающие ему это открытие, в известном смысле не лгут). Позже, по окончании гимназии, он по настоянию отца – знаменитого ортопеда Адольфа Лоренца – поступил на медицинский факультет Венского университета. Там он особенно увлекался сравнительной анатомией, еще до окончания университета стал лаборантом у преподававшего ее профессора Хохштеттера[47], а после получения диплома занял должность ассистента в университетском Анатомическом институте. Но «возни со зверюшками» не бросил, при каждой возможности продолжал наблюдения. И, едва завершив медицинское образование, приступил к систематическому изучению зоологии и одновременно начал посещать психологический семинар профессора Бюлера.
К этому времени начинающий зоопсихолог уже накопил немалый объем собственных наблюдений за животными и жадно искал теоретического объяснения тому, что видел, – или хотя бы указания, каким бы могло быть это объяснение, какие понятия и категории оно должно включать. Естественно, в первую очередь он проштудировал работы идейных лидеров двух противостоящих друг другу направлений – Уотсона и Мак-Дугалла. И пришел к процитированному выше неутешительному выводу. Построения инстинктивистов, по сути дела, сводились к утверждению, что животное ведет себя так, а не иначе, потому что его к этому побуждает инстинкт. Но что он такое, этот инстинкт, каковы его свойства, как можно его исследовать или использовать в исследованиях? Как он сам определяет, когда и к чему побуждать животное? Ответов на эти вопросы не было, а то немногое, что говорилось об инстинкте, наводило на подозрения, что это просто псевдоним души. Альтернативой был бихевиоризм, утверждавший, что никакой психической жизни у животных нет вовсе, а все их поведение – лишь цепочка рефлексов, вызываемых внешними стимулами.
Ни одна из этих систем взглядов категорически не устраивала Лоренца – прежде всего потому, что ничего не объясняла в его собственных наблюдениях. Но явный витализм в концепциях инстинктивистов был еще и мировоззренчески неприемлем для него, к тому времени уже убежденного материалиста и атеиста. За неимением лучшего он принял идею цепочки рефлексов в качестве некого «общетеоретического» объяснения, но продолжал поиски чего-то более конкретного и применимого в работе, постепенно свыкаясь с мыслью, что настоящую теорию поведения придется создавать самому.
Впрочем, некий просвет в теоретических потемках все же наметился, когда приятель Лоренца Бернхард Хелльманн (тоже весьма интересовавшийся поведением животных) дал ему книгу Оскара Хайнрота «Птицы Средней Европы». Эта капитальная сводка, выдержанная в духе классической зоологии, описывала поведение птиц как лишь одну из сторон их биологии и почти не обсуждала общетеоретических проблем поведения. Но Лоренц сразу почувствовал у автора книги совсем иной уровень понимания предмета: «Я решил, что этот человек знает все о поведении животных». Вскоре Хайнрот стал непосредственным наставником Лоренца – сначала заочным, по переписке, а затем и очным. Помимо всего прочего Хайнрот, а затем американская орнитологиня Маргарет Найс (выступавшая в те годы своеобразным посредником между американскими и немецкими орнитологами) навели Лоренца на работы Уитмена и Крейга, чьи имена тогда нечасто упоминались в обзорах и ссылках. С Крейгом у Лоренца тоже завязалась оживленная переписка. Еще через некоторое время Лоренц на конгрессе в Кембридже познакомился с Джулианом Хаксли (а через него – с работами британских зоологов-поведенщиков) и сам нашел статьи Якоба фон Юкскюля, после чего начал переписку и с ним. Застарелый витализм почтенного физиолога теперь уже не смущал молодого материалиста: эти двое так понравились друг другу, что в 1937 году фон Юкскюль предложил Лоренцу стать его преемником в созданном им Институте исследований умвельта – и тот принял предложение, хотя назначение в итоге не состоялось по не зависевшим от обоих причинам. Так или иначе, радикальный материалист и атеист Лоренц нашел у виталиста Юкскюля куда больше интересного и ценного, чем у столь же ярых материалистов Уотсона и Скиннера[48].
У каждого из этих ученых Лоренц почерпнул немало идей и понятий – и каждому потом воздал с лихвой в дни своей славы. И тем не менее знакомство с их работами только укрепляло в нем уверенность в необходимости создания общей теории поведения. Так в волшебной сказке меч-кладенец, шапка-невидимка и прочие дары разнообразных чудесных помощников не совершают за героя подвиг, но дают ему возможность его совершить.
Здесь, видимо, следует сделать небольшое отступление, чтобы пояснить, почему даже после работ всех перечисленных исследователей задача создания общей теории поведения выглядела совершенно невыполнимой.
Для начала зададимся вопросом, который на первый взгляд не имеет никакого отношения ни к становлению классической этологии, ни вообще к теме этой книги: чем, собственно, отличаются гуманитарные науки от естественных?
Вокруг этого вопроса сломано множество копий и высказано множество мнений – начиная от классического определения немецкого философа и историка культуры Вильгельма Дильтея (предложившего различать «науки о природе» – естественные и «науки о духе» – гуманитарные) и до высокомерных дразнилок: мол, гуманитарные науки – это те, которыми может успешно заниматься человек, неспособный одолеть школьный курс математики. Отдельным предметом споров служит отнесение тех или иных конкретных дисциплин к естественным или гуманитарным. Некоторые страстно доказывают, что современная психология – давно уже естественная наука, так как вся основана на эксперименте и применяет такие сложные приборы, как магнитно-резонансный томограф. Другие категорически отказываются признавать, что лингвистика – гуманитарная наука и раздел филологии: как же так, мол, в ней же столько математики! Конечно, подобные высказывания отражают лишь распространенные стереотипы (порожденные не только слабым знакомством с предметом, но еще и подспудной тягой к самоутверждению). Однако и более корректные и компетентные суждения часто не могут прояснить ситуацию. Вот, скажем, написано в Википедии, что «гуманитарные науки – дисциплины, изучающие человека в сфере его духовной, умственной, нравственной, культурной и общественной деятельности». Вроде ясно, но представим себе, например, группу медиков и фармацевтов, изучающих реабилитацию людей, перенесших инсульт. Они просят своих пациентов прочитать написанный текст, выполнить арифметические действия, назвать имена близких… Это, несомненно, прямо относится к духовной и умственной сферам – но достаточно ли этого, чтобы признать такое исследование гуманитарным?
Разделение по применяемым методам тоже не добавляет ясности. Например, методы, с помощью которых молодая наука биоинформатика устанавливает родственные связи видов медведей или штаммов вируса (кто от кого произошел и в какой последовательности), по сути ничем не отличаются от методов, которыми текстологи-медиевисты устанавливают генетические связи между разными списками одного и того же памятника. В том, что биоинформатика (в том числе и молекулярная филогенетика) – наука естественная, вроде бы никто не сомневается, в гуманитарной природе текстологии – тем более.
Не претендуя на исчерпывающее решение этого старого и изрядно запутанного вопроса, попробуем указать на одно различие, которое нередко упоминается, но обычно вскользь, вторым планом, как дополнительное. Так, в той же статье в Википедии, в частности, говорится: «В отличие от естественных наук, где преобладают субъект-объектные отношения, в гуманитарных науках речь идет об отношениях субъект-субъектных». Не слишком внимательный читатель скользнет по этой строчке взглядом и тут же ее забудет. И зря. Она-то и указывает на самую суть.
Дело в том, что в гуманитарных науках в отношениях между субъектом исследования и его объектом всегда присутствует некая «двуслойность» – чего в науках естественных не бывает никогда. Сколь бы сложной и многозвенной ни была та цепочка взаимодействий, по которой ученый-естественник судит о своем объекте, в ней нет субъекта. Единственный субъект естественнонаучного исследования – сам исследователь. А в исследовании, скажем, историческом этих субъектов как минимум двое: современный историк и автор исследуемого источника. Последний является субъектом описания исторической реальности и одновременно объектом современного исследования: ведь даже если о нем ничего не известно, современный ученый волей-неволей видит интересующие его события, процессы и людей только через посредство древнего летописца. И как бы критически он к нему ни относился, как бы ни проверял все, что только можно, независимыми методами (по сообщениям других источников, по данным археологии и т. д.), такой взгляд радикально отличается от «неопосредованного» взгляда естествоиспытателя.
Из этого следует, в частности, что то, что мы называем «историческим фактом», не является фактом в том смысле, в котором это слово употребляется в естествознании. Вот, допустим, в какой-нибудь Тьмутараканской летописи написано, что в таком-то году князь Всепослав сделал то-то и то-то – например, совершил поход на соседа или крестился. События такого рода обычно и называют «историческим фактом». Но действительно ли это факт? Нет. Фактом тут является только то, что есть такое летописное сообщение. Каждый может при некотором старании увидеть оригинальный документ, а если скептик обладает достаточной квалификацией – то и провести соответствующие анализы (пергамента, чернил, написания букв, особенностей словоупотребления и т. д.) и убедиться, что этот фрагмент написан тогда же, когда и весь остальной текст, а язык документа соответствует эпохе княжения Всепослава. Но действительно ли князь совершил свой поход? Если да, то было ли это именно в том году, а не в другом? Был ли этот поход столь победоносным, как о том повествует летопись? Априорно считать фактами все, что говорит летопись, нельзя – там же может быть написано, к примеру, что во время этого похода князь по ночам оборачивался серым волком. Значит, надо соотносить это со всеми доступными другими данными, с законами природы и здравым смыслом. Так обращаются не с фактами, а с теориями, гипотезами, реконструкциями[49].
Если кто-то полагает, что это преувеличение или попытка дискредитировать достоверность исторического знания, – пусть посмотрит хотя бы на споры современных историков о том, что в летописном рассказе о крещении князя Владимира в Корсуни можно считать изложением реальных событий, а что – литературно-назидательными добавлениями. Или обратится к обстоятельствам гибели царевича Димитрия: имея два богато документированных изложения событий мая 1591 года в Угличе, историки до сих пор не могут сказать ничего определенного о том, как погиб царевич, поскольку обе версии («годуновская» и «антигодуновская») абсолютно неправдоподобны даже на самый доброжелательный взгляд.
Не следует думать, впрочем, что этот эффект присущ только исторической науке. Конечно, в разных науках его величина и формы могут быть очень разными. В лингвистике, например, он почти незаметен (что и вызывает у многих настойчивое желание исключить ее из числа гуманитарных наук): индивидуальный носитель языка почти ничего не может сделать с ним сознательным усилием. Некоторым людям удавалось ввести в язык новое, ранее не существовавшее слово, но никто еще не сумел по своему произволу наделить язык новым падежом или новой предложной конструкцией. Поэтому лингвистика может обращаться с языком «через голову» второго субъекта, почти как с объектом естествознания (хотя если знать, что искать, то влияние «второго субъекта» можно различить и там). А вот психология обречена оставаться наукой гуманитарной, несмотря ни на мощный арсенал естественнонаучных методов и приборов, ни на устремления выдающихся психологов и целых научных школ. Ей никуда не уйти от второго субъекта, потому что он-то и есть, собственно, предмет ее изучения.
Заметим, что присутствие второго субъекта позволяет гуманитарным наукам изучать объекты, которых… просто нет. То есть не существует объективно – но они существуют в представлениях людей и в этом качестве вполне могут стать объектом изучения. Одна из областей фольклористики, например, посвящена изучению представлений о разного рода сверхъестественных существах – леших, домовых, водяных, кикиморах и т. п. Специалисты в этой области картируют зону распространения, скажем, уроса (вы слыхали о такой разновидности нечистой силы?) так же определенно, как зоологи – ареал снежного барса или индийского носорога. А литературоведы могут и вовсе изучать заведомый вымысел, о фиктивной природе которого знают не только они, но и сам «второй субъект» – автор изучаемого произведения. И от этого литературоведение не перестает быть настоящей, полноценной наукой.
Несколько лет назад в Британии разразился скандал – стало известно, что в некоторых провинциальных университетах преподается гомеопатия. После резкого протеста научных и медицинских организаций часть этих заведений отказалась от одиозного предмета. А другие… просто перенесли его из естественного цикла (где этот курс читался вместе с медицинскими дисциплинами) в гуманитарный. В самом деле, существуют гомеопатические эффекты или нет, сама эта специфическая область человеческой деятельности – со своей традицией, историей, правилами, теориями, институтами и т. д. – безусловно существует, а значит, ее можно изучать. Гуманитарными методами.
Какое отношение имеет все это к поведению животных?
Самое прямое. Как уже говорилось во вступительной главе, та или иная последовательность действий животного только тогда может быть названа «поведением», когда она несет в себе некоторый смысл – причем именно для самого животного, то есть субъективный. Иными словами, в науке о поведении, точно так же, как и в гуманитарных науках, всегда присутствует второй субъект – животное, поведение которого мы хотим изучить. Но при этом исследователь поведения животных лишен возможности применить к своему объекту методы гуманитарных наук. Дело в том, что все эти методы так или иначе связаны с изучением знаков, посредством которых «второй субъект» делает свой внутренний мир хотя бы отчасти доступным для внешнего наблюдателя. И бесспорно главным типом таких знаков, без которого не могут существовать почти все остальные, является слово, членораздельная речь – звучащая или зафиксированная той или иной системой письменности. Именно в слове выражены и исторический документ, и народная сказка, и классическая поэма, и переживания испытуемого в психологическом опыте. Как мы уже упоминали мельком, говоря о становлении научной психологии, все хитроумные приборы и методы оказываются информативными только тогда, когда их удается соотнести с субъективным миром – а доступ к нему возможен только через слово. И даже рождение психоанализа, открывшего, что во внутреннем мире человека есть немало такого, о чем он сам и не ведает, в этом отношении ничего не изменило: оговорки, свободные ассоциации, изложение сновидений, рассказ под гипнозом – весь тот материал, который позволяет психоаналитику заглянуть в область неосознаваемого, воплощен опять-таки в слове.
Но у исследователя поведения животных таких возможностей нет. Его «второй субъект» принципиально нем и бессловесен[50]. И если те или иные его действия что-то означают (а без этого их нельзя считать поведением) – как узнать, что именно, не имея возможности прибегнуть к посредничеству слова?
Следуя за зоопсихологией конца XIX – первой четверти XX века, мы уже не раз подходили к этой проблеме. Вместе с Роменсом мы пытались судить о внутреннем мире животных по аналогии с тем, что стоит за сходным поведением человека, – и убедились, что так ничего не получится. Вместе с Уотсоном мы решились игнорировать этот внутренний мир, изучать закономерности поведения безотносительно к нему – и вынуждены были признать устами Толмена, что это тоже невозможно. Дилемма казалась принципиально неразрешимой, как апория Зенона о брадобрее или получение алкагеста – жидкости, растворяющей абсолютно все вещества.
Впрочем, вряд ли начинающий зоолог Конрад Лоренц думал обо всем этом. Он просто был страстно увлечен наблюдением поведения животных, искал ему теоретическое объяснение и, не находя, утверждался в мысли, что это объяснение придется создать ему самому. Выбор между объективизмом и субъективизмом был для него поначалу прост: ни на миг не допуская мысли, что у животных может не быть психической жизни, он, однако, считал ее недоступной для научного изучения. Поэтому он принял как общее, «рамочное» объяснение идею «цепочки рефлексов», но при этом с самого начала искал смысл того, что видел, на совсем других путях.
Начиная с 1927 года Лоренц публикует работы о поведении птиц (в основном галок), в которых уже пытается трактовать его на основе морфологического подхода. Параллельно он знакомится с Хайнротом, Крейгом, Хаксли, фон Юкскюлем и постепенно включает то, что находит у них, в свои построения – так, что задним числом кажется, будто эти идеи и открытия с самого начала возникли как части его концепции.
К 1935 году у Лоренца уже сложилось некоторое цельное представление о том, как устроено поведение. Оно было изложено в огромной (около 200 страниц – фактически небольшая монография) статье «Партнер в умвельте птиц». (Вынос в название слова «умвельт» не случаен – статья была своеобразным подарком фон Юкскюлю на 70-летие.) Согласно Лоренцу, основой поведения, его элементарной единицей является «инстинктивное действие», оно же «наследственная координация» – характерная последовательность движений, форма которой стандартна и, видимо, задана генетически. (Позднее Тинберген, излагая их с Лоренцем концепцию для англоязычного мира, перевел «наследственную координацию» как fixed action pattern – «фиксированный образ действия»[51].) Мы уже говорили выше об основных охотничьих приемах кошки – это типичные «наследственные координации», известные всем кошкам от рождения и очень сходные не только у всех домашних кошек, но и почти у всех представителей семейства кошачьих. Мало того, они могут сохраняться даже после того, как практическая надобность в этом приеме отпала. В игровых схватках котята (а иногда и взрослые кошки) порой применяют характерный прием: они нападают на «противника» спереди, охватывая его голову и плечо широко разведенными передними лапами, а зубами вцепляясь снизу и немного сбоку в шею. Точно таким движением дальние родичи кошек – львы – убивают наиболее крупную добычу: буйволов, гну, зебр. У домашних кошек его можно увидеть только в игре: ни сами они, ни их ближайшие дикие родичи никогда не охотятся на животных крупнее себя. Но их мозг, их гены продолжают хранить комплекс движений, сформированный для такой охоты.
Можно вспомнить и работы Фабра: поражающие своей изощренностью и безошибочностью действия ос-парализаторов – это тоже «наследственные координации». Как и действия жука-навозника, лепящего и катящего свой шар, пчелы-каменщицы, строящей свою ячейку, или самки жука-листоверта, разрезающей лист дерева точно по эволюте Гюйгенса – сложной кривой, о которой человечество узнало только в XVII веке.
Вопрос о том, откуда берутся и как формируются такие паттерны поведения, для эволюциониста Лоренца был ясен: конечно же, они создаются естественным отбором мелких случайных наследственных изменений – точно так же, как морфологические структуры организма, тоже поражающие нас своей сложностью и приспособленностью к выполнению определенной функции. И точно так же, как, сопоставляя гомологичные (то есть имеющие общее происхождение) органы и структуры тела разных животных, можно судить об их родственных связях, это можно делать и по гомологичным паттернам врожденного поведения – что с успехом делали в свое время Уитмен и Хайнрот, а впоследствии и сам Лоренц. Гораздо труднее выглядел другой вопрос: как организовано такое поведение? Что «включает» и «выключает» эти паттерны, каким образом происходит выбор между ними?
Лоренц пытался ответить на этот вопрос на основе идеи «цепочки рефлексов», которой он в это время все еще придерживался: завершение предыдущего движения служит стимулом, запускающим следующее. Однако чем больше он наблюдал реальное поведение животных, тем больше накапливалось случаев, когда такое объяснение выглядит притянутым за уши или просто невозможным.
Вот в весеннем лесу поет зяблик. Функция его песни ясна – привлечь самку и сообщить другим самцам, что участок занят. Но что служит стимулом, побуждающим его к пению, когда ни других самцов, ни самок вокруг нет? Почему он не прекращает петь, даже браконьерствуя на чужом участке, где ему лучше бы помолчать, чтобы не привлекать внимания хозяина?
Уже знакомый нам школьный товарищ Лоренца Бернхард Хелльманн держал в аквариумах рыбок цихлид. Эти рыбки территориальны: самцы охраняют свои участки, яростно накидываясь на других самцов и настырно ухаживая за заплывающими на участок самками. Лоренц обнаружил, что, если некоторое время выдержать самца в одиночестве, не давая ему возможности даже увидеть свое отражение в стекле, в дальнейшем он некоторое время будет нападать на всех визитеров независимо от их пола. Как это объяснить, если считать причиной поведения стимулы внешней среды?
Эти и другие подобные примеры привели Лоренца к довольно сложной гипотетической схеме, которая гораздо лучше объясняла наблюдаемую картину. Он предположил, что каждой «наследственной координации» соответствует некий нервный центр (не обязательно как-то морфологически обособленный – это может быть просто совокупность нервных клеток, рассеянных среди других нейронов и внешне ничем от них не отличающихся, но связанных между собой теснее, чем с другими клетками). Этот нервный центр готов в любой момент выдать ту последовательность импульсов, которая, достигнув мышц и других исполнительных структур, реализует данный паттерн поведения. Однако в норме активность центра блокируется неким запирающим механизмом (разумеется, тоже нервным). Этот блок может быть снят третьим «устройством» – сенсорным нервным центром, способным сопоставлять поступающую от органов чувств информацию со своего рода эталоном – образом того объекта, на который должен быть направлен инстинктивный акт. Эталон включает в себя лишь немногие характерные признаки объекта, а то и всего один (например, запах хищника для жертвы или запах полового феромона самки для самца). Такие признаки Лоренц назвал «ключевыми стимулами», а гипотетический механизм, который их опознает и в случае обнаружения снимает блокировку с «наследственной координации», – врожденной разрешающей схемой. Позднее, при переводе основных этологических понятий с немецкого на английский за этим элементом модели Лоренца закрепилось название врожденный разрешающий механизм (innate releasing mechanism)[52]. Производным от него стало понятие релизера – сигнального элемента внутривидовой коммуникации, призванного разблокировать у партнера определенный паттерн поведения. Это может быть специальная морфологическая структура, или действие, или сочетание того и другого (например, распущенный хвост павлина – релизер, высвобождающий определенную фазу брачного поведения павы; танец пчелы-разведчицы на сотах – релизер, мобилизующий сборщиц, и т. д.). По сути дела, релизер – безусловный знак, значение которого понятно каждому представителю данного вида без предварительного обучения.
Впрочем, говоря о том, что инстинктивные действия – основа поведения, Лоренц, разумеется, не утверждал, что вообще все поведение животных инстинктивно. Он полагал, что инстинктивные паттерны образуют своего рода каркас поведения, в который могут тем или иным образом встраиваться действия индивидуальные, пластичные, сформированные личным опытом. Причем такое соединение происходит не только на уровне всего поведения в целом – врожденные и индивидуальные составляющие можно различить даже внутри одного конкретного поведенческого акта. Моделью того, как это может происходить, стал феномен импринтинга, чрезвычайно интересовавший Лоренца всю жизнь. Ведь, по сути дела, вся его «моторная» часть, все поведение «зачарованных» гусят или утят – типичный фиксированный паттерн поведения, «инстинктивное действие». Единственное его отличие от «настоящего» инстинкта состоит в том, что на момент рождения мозг птенца еще не содержит эталона того ключевого стимула, который в дальнейшем будет высвобождать это поведение. Есть только некие рамочные ограничения: это должен быть достаточно крупный[53] предмет, движущийся не слишком быстро и не слишком медленно и первым оказавшийся в поле зрения птенца. Но после того как встреча с таким объектом произошла, его индивидуальные признаки становятся ключевыми стимулами, и в дальнейшем вызывать у птенца поведение следования будут уже только они – как если бы они были врожденными. То есть в общей программе врожденного поведения и его регуляторов оставлен маленький пробел, заполняемый «от руки» индивидуальным опытом. Примерно так же, по Лоренцу, соотносится врожденное и приобретенное и в других формах поведения: конкретное соотношение этих компонент может быть самым разным, но всякое обучение строится не на пустом месте, а на основе того или иного врожденного поведения.
Чем более изощренной становилась эта схема, тем сильнее выпирал из нее «чужеродный элемент» – базовое предположение, что в основе всех этих сложных взаимодействий лежит физиологический механизм рефлекса. Лоренц ощущал это напряжение, но не решался отказаться от концепции рефлекса, не видя ему альтернативы в пределах научных представлений. Если вся эта сложная конструкция работает не по механизму рефлекса, то что же приводит ее в действие? Не жизненная же сила, в самом деле…
Уже ранние статьи Лоренца привлекли к нему внимание зоологов-поведенщиков, а «Партнер в умвельте птиц» обеспечил ему репутацию одного из ведущих европейских специалистов по поведению[54]. Молодого зоолога, не имеющего никакой официальной исследовательской базы и занимающего шаткую должность приват-доцента Зоологического института в Вене, стали приглашать прочесть лекции по этой тематике. Одну из таких лекций он читал в феврале 1936 года в берлинском Харнак-хаусе – штаб-квартире Общества кайзера Вильгельма (германской организации, объединяющей фундаментальные научные учреждения; ныне Общество Макса Планка). Среди слушателей был некий молодой человек. Пока лектор рассказывал о самопроизвольности поведения, о врожденном знании и врожденных сложных действиях, слушатель одобрительно бормотал: «Все так, все сходится…» Когда же в конце лекции Лоренц сказал, что эти сложные акты представляют собой цепочку рефлексов, молодой человек закрыл лицо руками и простонал: «Идиот, идиот!» – не подозревая, что прямо за ним сидит жена Лоренца Маргарет…
После лекции эмоциональный слушатель все-таки подошел к докладчику. Это был Эрих фон Хольст – молодой, но уже довольно известный физиолог, которого их общий друг орнитолог Густав Крамер, организовавший лекцию, специально пригласил на нее в надежде на дискуссию между ним и Лоренцем. Дело в том, что фон Хольст, исследуя нервную регуляцию двигательной активности у рыб, обнаружил некоторые явления, наведшие его на крамольную мысль: нервная ткань (или, по крайней мере, некоторые ее образования) способна генерировать возбуждение не только в ответ на внешние стимулы, но и спонтанно, то есть самопроизвольно, безо всяких внешних воздействий.
Дискуссии, на которую рассчитывал Крамер, не получилось: фон Хольсту хватило нескольких минут, чтобы убедить практически не сопротивлявшегося Лоренца в том, что его модель не нуждается в идее рефлекса. Собственно, гипотеза фон Хольста была как раз тем, в чем так остро нуждался его собеседник: материальным, физиологически обоснованным фундаментом спонтанной природы поведения. Так новая теория получила физиологическую основу, а ее автор – верного друга на многие годы.
А осенью того же года произошла еще одна важнейшая встреча. Голландский профессор Корнелис ван дер Клаау организовал у себя в Лейденском университете небольшой симпозиум по проблеме инстинкта и пригласил туда восходящую звезду европейской зоопсихологии – Лоренца. Там именитый гость разговорился с одним из хозяев, молодым ассистентом Лейденского университета Николаасом Тинбергеном. В ходе разговора оба обнаружили, что их взгляды совпадают «до неправдоподобной степени». Два маньяка-натуралиста проговорили чуть ли не весь симпозиум, обсуждая понятия и положения рождающейся теории. «Сейчас уже никто из нас не знает, кто что тогда высказал первым», – вспоминал спустя много десятилетий Лоренц. Можно сказать, что именно там и именно тогда родилась классическая этология[55].
У новых друзей в самом деле было много общего. Тинберген, как и Лоренц, с детства интересовался животными – и особенно их поведением. Впоследствии он изучал поведение животных весьма разных систематических групп: его диссертация была посвящена поведению «пчелиного волка» филанта (осы, охотящейся на пчел), а одна из наиболее известных работ – поведению трехиглой колюшки. Но главной его любовью, как и у Лоренца, были птицы[56]. После окончания средней школы он проработал несколько месяцев на знаменитой орнитологической станции Росситен на Куршской косе в Восточной Пруссии[57] – и только после этого поступил в Лейденский университет, в котором по окончании и остался работать. В отличие от Лоренца ему не приходилось ни отвлекаться на получение медицинского образования, ни искать себе наставников по всей Европе: уже ко временам студенчества Тинбергена именно в Лейденском университете и вокруг него сложилась сильная школа зоологов, занимавшихся исследованиями жизни животных в естественных условиях, в том числе и их поведения. В изучении последнего голландские зоологи находились под сильным влиянием работ Хайнрота, а в методическом отношении взяли многое у Фабра. Молодой Тинберген, сполна наделенный даром наблюдателя, быстро стал своим в этой компании и уже через два года после занятия постоянной должности начал читать старшекурсникам-зоологам спецкурс по поведению. Разумеется, он внимательно следил за литературой по своей тематике, читал в числе прочего и статьи Лоренца, а «Партнер в умвельте птиц», по его словам, произвел на него чрезвычайно сильное впечатление (так что обнаруженное Лоренцем спустя год «совпадение взглядов» Тинбергена с его собственными было не столь уж удивительным). Но до личной встречи с Лоренцем он не думал о необходимости создания общей теории поведения – и тем более о том, чтобы самому стать одним из ее создателей. У молодого ученого буквально захватило дух от перспектив, которые открыл перед ним Лоренц, как и от способностей нового знакомого к теоретизированию.
Лоренц тоже пришел в восторг от нового соратника. И было от чего. Дело в том, что в концепции Лоренца (в том виде, какой она имела на момент встречи с Тинбергеном) был один тревожный аспект – незаметный на первый взгляд, но ставящий под сомнение перспективы ее дальнейшего развития. Его можно сформулировать так: «Ну допустим, все, что вы говорите, верно. И что?»
Здесь опять надо сделать некоторое отступление. Как убедительно показал в своих работах один из крупнейших философов науки XX века Имре Лакатош, критически важным атрибутом научной теории является вытекающая из нее исследовательская программа. Самые гениальные идеи так и останутся опередившими свое время, но ни на что не повлиявшими догадками, если ученые не увидят в них предмета для новых исследований, вопросов, которые они могут попытаться решить путем эксперимента (или наблюдения). Ньютонова механика (история создания и утверждения которой послужила Лакатошу основной моделью для его концепции) или теория эволюции так быстро и прочно завоевали ученый мир не только потому, что они объясняли с единых позиций множество фактов, прежде выглядевших разрозненными и бессмысленными, но прежде всего потому, что в них сразу же виделась возможность новых исследований: в одном случае – открытия «на кончике пера» новых небесных тел или расчета времени появления комет, в другом – реконструкции происхождения и родственных связей тех или иных видов живых существ, поиска всякого рода «связующих звеньев» и «переходных форм». (А вот идея естественного отбора в эпоху ее появления таких возможностей не открывала: исследование селективных процессов в природе было науке XIX века не по зубам. Поэтому, несмотря на ее логическую стройность и связь с чрезвычайно популярной идеей эволюции, она встретила в ту пору куда более скептический прием – хотя была не менее глубокой, чем эволюционная идея, и уж точно более оригинальной.) В истории науки известны случаи, когда в споре двух соперничающих теорий побеждала не та, что лучше соответствовала фактам, а та, которая давала ученым больше идей для конкретных исследований – даже если эти исследования раз за разом не подтверждали исходную теорию. Достаточно вспомнить хотя бы драматическую эпопею поисков эффекта «наследования приобретенных признаков» или продолжающиеся до сих пор попытки создать вакцину от СПИДа.
Теория Лоренца не то чтобы не предлагала исследовательской программы (в этом случае коллеги, скорее всего, просто не обратили бы на нее внимания), но перспективы этой программы явно не соответствовали радикализму и сложности самой теории – особенно после решительного разрыва с идеей рефлекса. Лоренц пришел к своим моделям, основываясь почти исключительно на данных наблюдения (хотя и весьма обширных и разнообразных). Но для их проверки и дальнейшей разработки требовалось нечто иное, чем просто наблюдение. По сути дела, Лоренц сумел, исходя из чисто внешних проявлений (поведенческих паттернов), сделать некоторые выводы о том, «что там внутри» у выполняющего их животного. Но даже для того, чтобы убедиться в соответствии этих построений чему-то реальному, исследователю нужны были инструменты для активного вмешательства. И вот тут-то Тинберген оказался незаменим.
Полностью разделяя общеметодологические взгляды Лоренца (они оба, не отрицая полезности экспериментов, отдавали приоритет в исследованиях поведения наблюдению, которое, по их единодушному мнению, должно предшествовать всем экспериментам и всем гипотезам), Тинберген был намного изобретательнее своего старшего единомышленника именно по части придумывания экспериментов. Причем эксперименты Тинбергена были как раз такого сорта, который и был нужен Лоренцу: простыми и красноречивыми, вырастающими из наблюдения как его естественное продолжение. Оборудованием в них служило то, что было под рукой, могло найтись в доме или быть сделано «на коленке». Экспериментаторский талант Тинбергена поднял объяснительные возможности концепции Лоренца на принципиально иной уровень.
Сказанное не надо понимать так, что Лоренц придумал все теории, а Тинберген – все эксперименты по их проверке. Лоренц и сам имел вкус к простому и убедительному полевому эксперименту и придумал их немало. С другой стороны, Тинберген оказался глубоким и проницательным теоретиком. Ему принадлежит немало важнейших положений этологической теории: идея конфликта мотиваций (объяснившая крайне загадочные случаи, когда, например, перед лицом воинственно настроенного соперника птица начинает беззаботно чистить перышки или даже засыпает) и связанные с ней представления о смещенной активности, переадресованных реакциях, мозаичных движениях и прочих формах конфликтного поведения, пролившие новый свет на классическую для этологии проблему происхождения поведенческих ритуалов. Развивая лоренцевскую концепцию «инстинктивного действия», он создал иерархическую модель инстинкта, позволяющую увязать отдельные паттерны в целостное поведение. Но чтобы должным образом рассказать обо всех этих достижениях, нужно писать отдельную книгу, посвященную уже конкретно этологии[58]. Поэтому я позволю себе остановиться подробнее лишь на одной оригинальной идее Тинбергена – во-первых, потому, что в этом случае хорошо видно, как весьма нетривиальная теоретическая мысль «вырастает» из наблюдений и экспериментов, а во-вторых, потому, что значение этой идеи, на мой взгляд, выходит далеко за пределы этологии.
После личного знакомства с Лоренцем и окончательного «обращения» в его теорию Тинберген поставил в центр своих экспериментальных работ выявление и анализ ключевых стимулов. Его интересовало, по каким именно признакам то или иное животное опознает объект своего врожденного поведения и как эти признаки соотносятся между собой. Тинберген и его многочисленные студенты и аспиранты изучали с этой точки зрения самые разные аспекты поведения у весьма разных животных: поведение птенцов и их родителей у дроздов и чаек, ухаживание у бабочек-бархатниц, охрану гнезда и участка у трехиглых колюшек и т. д. Общая схема исследований была предельно проста: научиться делать модели объектов, на которые направлено то или иное поведение, а дальше, меняя по очереди разные параметры этих моделей (размер, форму, раскраску и т. д.), искать такое их сочетание, при котором реакция животного была бы максимально интенсивной. Модели самок бархатниц вырезали из бумаги и подвешивали на тонкой леске к удилищу, чтобы имитировать их «танцующий» полет. Самцам трехиглой колюшки предъявляли раскрашенные плоские блёсны, над дроздятами водили разными фигурами из картона и т. д.
Как и ожидалось, во всех случаях для реакции оказались важны лишь немногие признаки объекта. Самцы бархатниц с вожделением преследовали не только бумажных красоток, но и круги, квадраты, прямоугольники – лишь бы они танцевали в воздухе (впрочем, и прямой, нетанцующий полет бумажных фигурок вызывал некоторую реакцию) и делали это достаточно близко от ухажера. Не имел особого значения даже цвет прелестниц: хотя более темные модели всегда оказывались несколько привлекательнее более светлых, но были ли они при этом красными, зелеными, коричневыми или (как реальные самки бархатниц) серыми, кавалеров не интересовало. Столь же неразборчивыми оказались самцы колюшек: они яростно нападали на любой движущийся объект, нижняя часть которого была окрашена в красный цвет (в брачный период самцы колюшек окрашиваются в яркие цвета – их спинки становятся зеленовато-синими, а брюшки красными, – в то время как самочки остаются серебристо-серыми). Годился и просто красный движущийся объект. «Все наблюдавшиеся мной самцы атаковали даже красные почтовые фургоны, проезжавшие примерно в ста метрах от них, то есть поднимали свои спинные шипы и неудержимо стремились догнать автомобиль, в конечном итоге, естественно, натыкаясь на стеклянную стенку. Когда фургон двигался мимо лаборатории, вдоль огромного окна которой стояли в ряд двадцать аквариумов, все самцы бросались к „оконной“ стороне своего жилища и провожали фургон от одного ее угла до другого», – писал позднее Тинберген. В то же время точные, но не имеющие красных тонов изображения рыбок не вызывали почти никакого интереса.
Выбор опознавательных признаков порой выглядел странно (на человеческий взгляд), но сама по себе подобная организация поведения была вполне ожидаемой: именно это предсказывала теория Лоренца. Непредвиденным оказалось другое. Здравый смысл подсказывал, что чем точнее ключевые признаки модели воспроизводят признаки оригинала, тем сильнее будет ее действие. Однако почти в каждом случае этологи обнаруживали хотя бы один признак, для которого «оптимальное» (с точки зрения изучаемого животного) состояние не совпадало с естественным. Черные бумажные самки бархатниц пользовались у самцов заметно большим успехом, чем модели, окрашенные точь-в-точь как живые бабочки. А грубые модели рыбок, нижняя половина которых была окрашена в ярко-красный колер оттенка «вырви глаз», по интенсивности вызываемой ими ярости превзошли не только точные изображения самца колюшки в брачном наряде, но и… живых самцов-соперников. И серебристые чайки бросали собственную кладку ради безуспешных попыток сесть на искусственное яйцо, очень похожее по раскраске на чаячье, но только размером едва ли не с саму птицу.
Эти «утрированные» черты, производившие на животных более сильное впечатление, чем естественные, Тинберген назвал сверхнормальными или сверхоптимальными стимулами (сейчас их обычно называют просто сверхстимулами – superstimuli). Феномен сверхстимулов оказался очень распространенным в инстинктивном поведении – да, похоже, и не только в нем. В большинстве случаев сверхстимулы отличались от естественных ключевых стимулов большей выраженностью – чаще всего просто большим размером всего объекта или тех его частей, которые имеют сигнальное значение. Именно размер лежал в основе гипнотического действия «супер-яиц», которому оказались подвержены не только чайки, но и кулики и некоторые другие птицы. Порой этот эффект возникал не по воле исследователя, а нечаянно. Так английский ученик Тинбергена Десмонд Моррис несколько позже описываемого времени наблюдал поведение серых рисовок – маленьких птичек из семейства ткачиков. Обычно эти птицы ночуют, садясь в рядок и тесно прижимаясь друг к другу. Но при содержании в одном вольере с голубями рисовки не обращали внимания друг на друга, а жались по ночам к голубям. Дальнейшие наблюдения показали, что в норме рисовка, начавшая устраиваться на ночлег, садится на жердочку и распушает перья, делаясь зрительно больше и круглее. Это действует как призыв «кто хочет спать – присоединяйтесь!». Большие птицы с округлыми формами и окраской, похожей на окраску рисовок, невольно оказались для последних сверхстимулом, с которым не могли соперничать самые привлекательные «соночлежники».
Вы, уважаемые читатели, можете и сами побыть сверхстимулом и наблюдать свое собственное действие в этом качестве. Если вы окажетесь в деревне и станете объектом угроз агрессивно настроенной стаи гусей, сделайте так: повернитесь к ним боком, руку вытяните в их сторону и немного вниз, а кисть руки держите совсем горизонтально. И вы увидите, как птицы с тревожным гоготом торопятся убраться подальше от «разъяренного супергуся», которого вы собой изобразили.
В других случаях сверхстимулы отличаются не размером, а, например, окраской – более яркой (как у колюшек) или более насыщенной (как у бархатниц), чем естественная, то есть тоже представляющей собой как бы «усиленный» вариант естественного признака. Иногда «сверхоптимальным» стимул делало подчеркивание некоторых зрительных элементов, усиление их контрастности. Но изредка исследователи сталкивались со случаями, когда отличия «сверхнормального» стимула от «нормального» не сводились к простому правилу «побольше и погуще». И, пожалуй, самый неожиданный сюрприз им преподнесли птенцы тех же серебристых чаек.
Клюв взрослой чайки – желтого цвета, на нижней половине, ближе к концу есть круглое красное пятно. Когда чайка прилетает к гнезду, птенец клюет пятно – это сигнал для птицы-родителя отрыгнуть принесенную в зобе рыбу. Тинберген и один из его учеников взялись выяснить, какие именно черты взрослой птицы птенцы воспринимают как ключевые. Сконструированный ими в ходе этого исследования оптимальный макет на человеческий взгляд не имел вообще ничего общего с чайкой или даже чаячьим клювом. Это был тонкий красный стержень с тремя белыми пятнами ближе к концу. (При этом все, что находилось за пределами клюва – голова живой чайки, макет головы, рука исследователя или еще что, – птенцу было во всех случаях совершенно безразлично.) Если три пятна вместо одного вполне ложились в логику «чем больше, тем лучше», то замену «красного на желтом» на «белое на красном» подогнать под нее было труднее. Как и то, что тонкий клюв оказался предпочтительнее клюва нормальной толщины. Тем не менее для чаенят именно такие цвета и пропорции воплощали образ идеального родителя.
Нервные механизмы, обеспечивающие такое причудливое восприятие жизненно важных объектов, были неясны (они не вполне ясны и сейчас, хотя некоторые последующие открытия в нейрофизиологии дают представление о том, как это может быть устроено), зато значение открытого эффекта Тинберген понял сразу. Идея сверхстимула делала понятным существование у многих животных гипертрофированных и явно обременительных структур, служащих отличительной особенностью одного из полов (обычно самцов): павлиньих хвостов, оленьих рогов, зуба нарвала и т. д. Любой признак, позволяющий легко отличить самца от самки, имеет шанс стать половым релизером. Тогда те, у кого он выражен сильнее, будут иметь преимущество в размножении, и в ряду поколений признак будет неуклонно смещаться в сторону сверхстимула, становясь гротескно преувеличенным (на человеческий взгляд) и потому неотразимым. То же самое относится к чертам птенцов видов, практикующих гнездовой паразитизм. Люди, незнакомые с этологией, часто удивляются: как могут мелкие птички продолжать кормить кукушонка, даже когда он уже больше их самих. Да потому и кормят, что он больше! Размеры кукушонка и прежде всего его огромный, ярко окрашенный ненасытный рот – неотразимый сверхстимул для родительского поведения птиц. Остальные черты его облика и поведения при этом значения не имеют[59].
Плодотворность идеи сверхстимулов не исчерпывалась только инстинктивным (в смысле Лоренца – имеющим жесткую и стереотипную форму) поведением. Уже Тинберген указывал, что популярность губной помады и подобных ей косметических средств основана на том, что они подчеркивают признаки, играющие (хотя бы только в данной культуре) роль ключевых. Впоследствии эта идея стала довольно популярной в антропологических и культурологических исследованиях: механизм сверхстимулов видели во множестве культурных феноменов, вплоть до неоправданной привлекательности бигмаков и телевизора. Эти утверждения я предпочитаю оставить на совести высказывающих их авторов, но кое-что из таких гипотез представляется вполне правдоподобным. Так, многие авторы (в том числе, например, знаменитый невролог Вилейанур Рамачандран) высказывали предположение, что именно механизмом сверхстимула объясняются некоторые особенности первобытного искусства – в частности, гротескно преувеличенные груди, бедра и ягодицы «палеолитических Венер» (женских статуэток из верхнего палеолита, известных от Пиренеев до Байкала). Косвенно эта мысль подтверждается тем, что звери в той же художественной традиции изображаются вполне пропорционально, а вот люди (особенно женщины) – утрированно: черты звериного тела не являются для человека ключевыми стимулами, и на их основе невозможно сделать сверхстимул.
Но если, как уже было сказано, этот механизм восприятия работает не только в сфере инстинктивного поведения, не им ли объясняется тот довольно странный факт, что порой искаженные, трансформированные изображения предметов и существ мы ощущаем как более «выразительные», чем изображения скрупулезно-точные? Не на механизме ли сверхстимула основано само это свойство искусства – выразительность? А может быть, и вообще все искусство (по крайней мере, изобразительное) есть не что иное, как интуитивный поиск ключевых признаков разных объектов и понятий и создание на их основе своего рода «сверхстимулов»? И может быть даже – страшно сказать! – представление о существовании «идеи вещи», со времен Платона играющее столь важную роль в европейской мысли, тоже в конечном счете восходит к этому феномену?
Но мы слишком далеко ушли от темы нашей книги. Кроме того, прямая и слишком поспешная экстраполяция открытий этологии на социальную и культурную сферу – дело крайне рискованное. Так что оставим это тем, кто владеет методами, позволяющими хоть как-то соотносить подобные спекуляции с реальностью, и вернемся на твердую почву естествознания. А заодно и в 1936 год, в момент рождения новой науки о поведении.
Итак, теоретическая концепция Лоренца (которую теперь следовало бы называть «моделью Лоренца – Тинбергена – фон Хольста») обрела стройность и завершенность. Согласно ей, каждому паттерну врожденного поведения соответствует реализующий его механизм – некий нервный центр. В нем постоянно идет накопление некоторого потенциала, «нервной энергии», ищущей выхода – которым может быть только реализация паттерна. (Физическая природа накапливающегося потенциала неясна, да особо и не важна, но предполагается, что в основе этого процесса лежит фон-хольстова спонтанная активность определенных нейронов, долбящих и долбящих своими импульсами другие нейроны, накапливая в них какие-то химические изменения.) Но этот выход до поры до времени блокирован запирающим устройством. Отпереть его может только «врожденный разрешающий механизм» (IRM), а его привести в действие может только появление «ключевого стимула» – объекта, совокупность признаков которого совпадает с имеющимся в IRM образом. Если это совпадение происходит, IRM отпирает затвор, и накопившаяся в нервном центре «энергия» получает моторный выход, воплощаясь в поведенческий паттерн – последовательность действий (направленных обычно на объект, сыгравший роль «ключевого стимула»). Впрочем, система не ждет появления разрешающего стимула пассивно: нарастающее «давление» в нервном центре побуждает мозг в целом к активному поиску заветного объекта (аппетентному поведению – Лоренц заимствовал это понятие у Крейга, включив его в собственную модель). В частности, оно обостряет чувствительность зрения, слуха, обоняния и других анализаторов (именно поэтому люди, практикующие регулярное голодание, говорят, что в этом состоянии мир выглядит «промытым» – все краски, формы, звуки, запахи ощущаются ярче обычного). Если поиски затягиваются, растущее давление «нервной энергии» начинает снижать требовательность IRM к ключевому стимулу. Теперь стимулом, запускающим паттерн поведения, может стать и не вполне подходящий объект (например, волк, долго не находящий волчицы, обращает свои ухаживания на домашних собак) – «на безрыбье и рак рыба». Ну а если нет и «раков», запредельное давление преодолевает блок, и инстинктивный акт выполняется безо всякого стимула, «в пустоту»[60]. Позже Лоренц в качестве наглядной иллюстрации этой схемы предложил так называемую «психогидравлическую модель» (см. рис. на с. 193).
Конечно, вся эта схема была сугубо «бумажной» (или, выражаясь методологическим языком, эвристической), не привязанной ни к каким конкретным нервным структурам. Но на том этапе это было скорее ее достоинством – ведь она была призвана описать самые разные формы врожденного поведения у самых разных животных. Трудно ожидать, что у собаки, кошки, водяной землеройки-куторы, галки, серого гуся, трехиглой колюшки, осы-аммофилы и бабочки-бархатницы всем этим умозрительным блокам будут соответствовать одни и те же конкретные нервные структуры. Причем независимо от того, о каком поведении идет речь – пищевом, половом, родительском и т. д.
Так или иначе теория требовала практической проверки и была готова к ней. И ее соавторы не замедлили к этой проверке приступить. На следующее лето после лейденской встречи Тинберген приехал к Лоренцу в его родное селение Альтенберг под Веной, и они вместе изучали, как регулируется акт закатывания яйца в гнездо у серых гусей – любимых птиц Лоренца. Результатом работы стала совместная статья – классический образец этологического исследования, анализа конкретной формы поведения у конкретного вида на основании общей теории. Друзья и единомышленники увлеченно обсуждали планы будущих работ, и ни один из них не подозревал, что они работают вместе последний раз в жизни.
12 марта 1938 года Австрийская республика перестала существовать – на ее месте возник Остмарк, новая провинция Третьего рейха. А через три месяца Лоренц подает заявление о приеме в НСДАП. В этом документе он пишет о себе: «Как национально мыслящий немец и естествоиспытатель, я естественным образом всегда был национал-социалистом…» и перечисляет свои заслуги в пропаганде нацизма среди коллег и студентов.
Подробное рассмотрение причин, толкнувших этого человека в объятия нацистов, выходит далеко за пределы этой книги. Насколько можно судить, здесь сыграли свою роль и обычный человеческий конформизм (бескомпромиссный в вопросах науки, в практической жизни Лоренц всегда безропотно принимал существующие правила и вообще старался ни с кем не ссориться), и национально-расовые предрассудки его среды, и ущемленные комплексы представителя последнего поколения уроженцев Австро-Венгрии, подростком пережившего крушение своей империи и превращение ее метрополии в небольшое второстепенное государство, и неудовлетворенные амбиции одного из самых известных ученых своей страны, не имеющего при этом возможности для полноценных самостоятельных исследований. Сыграло свою роль и резко враждебное отношение Лоренца к режиму, установленному в Австрии ее последними канцлерами Энгельбертом Дольфусом и Куртом Шушнигом, – прежде всего к тотальной клерикальной цензуре, затрагивавшей и научные исследования[61]. Наконец, немаловажную роль сыграла мысль, на которую Лоренца натолкнули его собственные исследования: выведя себя из-под действия естественного отбора, «самоодомашнившись», человечество обрекло себя на вырождение. (От предупреждений об этой опасности Лоренц не отказывался до конца жизни.)
Как бы то ни было, поддавшись искушению, Лоренц почти ничего не выиграл. Планы создания в Альтенберге специального института сравнительного изучения поведения, поддержанные было Обществом кайзера Вильгельма, рухнули с началом войны. Стараниями друзей (и прежде всего фон Хольста) Лоренц в августе 1940 года был назначен профессором психологии Кенигсбергского университета, что давало ему достойное социальное и материальное положение, но оставляло еще меньше возможностей для собственных исследований, чем прежняя приват-доцентская жизнь. А в октябре 1941-го новоиспеченный профессор был мобилизован в действующую армию в скромном звании младшего военврача. Полгода Лоренц служил в мутной конторе под названием «отдел военной психологии», затем два года – в неврологическом отделении большого тылового госпиталя в Познани. В апреле 1944 года его перевели в прифронтовой Витебск, где два месяца спустя он попал под сокрушительный удар Красной армии, оказался в окружении и был взят в плен. Три с половиной года он провел в лагерях военнопленных – под Смоленском, в Кировской области, в Армении – и вернулся домой только в феврале 1948-го.
Нельзя сказать, что эти годы были для него совершенно бесплодными: Лоренц обладал удивительной способностью использовать любые обстоятельства для расширения собственных знаний. В Кенигсберге он основательно проштудировал философию Канта (и нашел в ней немало интересного для собственных теоретических исканий), в Познани наблюдал человеческие психопатологии и впервые ознакомился с учением Фрейда[62]. Даже в лагере в Армении он нашел возможности не только вести наблюдения за животными (более того – держать двух ручных птиц), но и написать черновик книги, в которой обстоятельно излагал свои взгляды на поведение и обосновывал их применимость к анализу поведения людей. Тем не менее его влияние на сообщество исследователей поведения в эти годы было близким к нулю, да и само это сообщество было разорвано и разметано войной. А после возвращения в Австрию он оказался у разбитого корыта: без денег, без статуса, без работы, без перспектив (австрийского государства просто не существовало, а предлагать планы фундаментальных исследований оккупационной администрации союзников было, мягко говоря, неуместно) и вдобавок – с клеймом нациста и сторонника аншлюса.
Тинберген, вокруг которого еще до знакомства с Лоренцем сложилась группа студентов и аспирантов, желавших изучать поведение животных, в конце 1930-х продолжал собственные исследования и активную пропаганду их с Лоренцем концепции. Но в 1940 году Голландия была захвачена нацистами, и связь с мировой наукой прервалась. Лейденская группа продолжала работать и в условиях оккупации, публикуясь в основном в немецких журналах. Однако в 1942-м за протест против увольнения из университета сотрудников-евреев Тинберген был арестован и отправлен в лагерь заложников, где и просидел больше двух лет. Режим в лагере был относительно вольный: заключенные могли читать книги, писать, играть в шахматы, устраивать лекции и любительские спектакли… вот только любого из них в любой момент могли расстрелять после какой-нибудь акции голландского Сопротивления (и человек двадцать действительно расстреляли). В сентябре 1944 года Тинбергена выпустили, он вернулся домой, но вскоре всей семье пришлось уехать в деревню: последние месяцы оккупации вошли в историю Нидерландов как «голодная зима». После освобождения страны Тинберген вернулся в родной университет и вскоре стал профессором, но в 1949-м принял приглашение Оксфордского университета и переехал в Англию, где и прожил всю оставшуюся жизнь. Из своего опыта военных лет он вынес глубочайшее отвращение к нацизму – что сказалось и на его личных отношениях с Лоренцем, хотя в публикациях и выступлениях он неизменно отзывался о нем предельно уважительно, называя пропагандируемую им модель «лоренцевской», а себя – «исследователем лоренцевской школы». Впоследствии отношения между двумя классиками этологии наладились, но уже никогда не были такими сердечными, как в 1936–1937 гг.
По разным причинам «вне игры» в это время оказались и другие виднейшие фигуры, стоявшие у истоков этологии. 31 мая 1945 года умер Оскар Хайнрот, умер на руинах дела всей своей жизни – Берлинского зоопарка, практически полностью уничтоженного вместе почти со всеми животными: из 3715 его обитателей штурм города пережил лишь 91. (Как известно, именно в районе зоопарка – Тиргартене – располагались главные государственные учреждения Третьего рейха, и бои в этой части города были особенно упорными и жестокими.) Годом раньше этот мир покинул уже практически отошедший от дел 80-летний Якоб фон Юкскюль. Уоллес Крейг, как уже говорилось, прозябал на временных ставках в разных университетах, мало кому интересный в стране победившего бихевиоризма. Джулиан Хаксли погрузился в общественную работу – создание Организации ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО), первым генеральным директором которой он и стал в 1948 году. Кроме того, к этому времени его основные научные интересы ушли в другие области биологии.
Все эти внешние обстоятельства, а также, как мы помним из предыдущей главы, триумфальный приход в Европу бихевиоризма на несколько лет почти полностью прервали естественное развитие этологии как «вширь» (распространение этологических взглядов среди исследователей поведения), так и «вглубь» (новые конкретные исследования и развитие теории). Но уже на рубеже 1940-х и 1950-х годов положение стало меняться.
Интермедия 2
Генеральное сражение
Еще осенью 1945 года, когда европейская наука пребывала в послевоенном коллапсе, а Лоренц мыкался по вятским лагерям, его довоенный ученик Отто Кёниг вместе с женой самовольно захватил несколько брошенных армейских бараков близ Вены, огородил вокруг них небольшой участок земли и назвал это «биостанцией Вильгельминенберг». Так возник первый в мире специализированный центр этологических исследований – без официального статуса, без финансирования, работающий исключительно на энтузиазме супругов Кёниг и их молодых последователей – в основном студентов-зоологов Венского университета, интересующихся поведением животных. Они попадали на биостанцию через кружок зоопсихологии, учрежденный Кёнигом и бывшей аспиранткой Лоренца Гертрудой Кюнельт при университетском Зоологическом институте. Теоретической основой работ на биостанции были, конечно же, идеи Лоренца, с которыми Кёниг знакомил своих молодых сотрудников (и вообще всех интересующихся) в кружке. Так что когда сам мэтр вернулся на родину, его уже ждала небольшая, но сплоченная группа заочных учеников и потенциальных сотрудников. Разумеется, дом в Альтенберге быстро превратился в филиал (или, скорее, головной офис) Вильгельминенбергской станции, а вместе они составили небольшой, но эффективный исследовательско-учебный институт на общественных началах[63].
В 1949 году, когда Австрия все еще оставалась зоной оккупации, на руинах рейха была провозглашена новая Германия – ФРГ. Одной из задач, которую ставили перед собой ее лидеры, стало возрождение немецкой науки. Неутомимый фон Хольст, только что ставший директором Института морской биологии в Вильгельмсхафене, добился создания «под Лоренца» научной станции в вестфальском замке Бульдерн, и осенью 1950 года Лоренц с семьей и некоторыми ближайшими сотрудниками переехал туда. Четырьмя годами позже институт фон Хольста и лаборатория Лоренца в его составе были реорганизованы в Институт физиологии поведения, еще через четыре года новый институт въехал в специально построенное большое здание близ Штарнберга (это место получило название Зеевизен, то есть «приозерные луга»). Лоренц был заведующим отделом и заместителем директора, а после внезапной смерти фон Хольста в 1962 году стал директором института и оставался им до конца 1973 года. Впрочем, нас интересуют не подробности его административной карьеры, а то, что Бульдерн, а затем Зеевизен стали центрами распространения этологических идей и методов и подготовки нового поколения этологов.
Другим крупным очагом этологии стала Голландия – не только Лейденский университет, куда вернулся освобожденный Тинберген, но и Гронингенский, где в 1946 году кафедру зоологии получил один из первых (еще «долоренцевских» времен) его учеников Герард Берендс. Он создал там сильную этологическую исследовательскую группу и начал читать курс поведения животных.
Но, пожалуй, самую важную роль в послевоенном распространении этологии сыграли старейшие английские университеты: Кембридж, где на зоологическом факультете профессорствовал Уильям Торп, еще в начале 1940-х «заразившийся» теорией Лоренца[64], и особенно Оксфорд, куда в 1949-м переехал Тинберген. Созданная им там «группа по изучению поведения животных» была поначалу немногочисленной и располагала весьма скромными финансовыми и техническими возможностями (впрочем, в послевоенной Европе в стесненных обстоятельствах пребывала практически вся фундаментальная наука, кроме разве что ядерной физики). Но лекции Тинбергена оказались весьма популярны у студентов (в основном, конечно, зоологов), и у него всегда было много аспирантов. За десятилетия работы в Оксфорде Тинберген подготовил и выпустил множество учеников, среди которых были такие известные впоследствии люди, как Ричард Докинз и Десмонд Моррис (автор скандально знаменитой книги «Голая обезьяна» – одной из первых попыток взглянуть на человека с точки зрения этологии). О еще одной оксфордской аспирантке Тинбергена – Беатрис Гарднер (имя которой, к сожалению, известно куда меньше, чем оно заслуживает) – мы будем подробнее говорить в главе 8. Но сейчас нам опять-таки важны не знаменитые ученики Тинбергена и даже не то, что в эти годы Тинберген выполнил ряд работ, ставших классическими, и разработал свою знаменитую иерархическую модель инстинкта. Для нашего сюжета важнее, что деятельность Тинбергена в Оксфорде, возможно, успешнее, чем чьи-либо еще усилия, способствовала широкому распространению идей этологии в научном сообществе, причем в первую очередь – в англоязычном. И разворачивалась она в то самое время, когда это самое научное сообщество переходило от последнего пика увлечения бихевиоризмом к нарастающей неудовлетворенности им и поискам альтернативных подходов.
Так или иначе, если к моменту возвращения Лоренца из плена присутствие этологии в научном мире было едва заметно, то уже лет через пять она представляла собой мощное и широко известное научное направление. Ряды ее последователей постоянно росли, причем не только за счет тех, кто прошел «посвящение» в Бульдерне, Гронингене или Оксфорде, – этологией интересовалось все больше исследователей, лично не связанных с ее основателями и их учениками. Ближе к середине 1950-х в очагах этологии (особенно, конечно, в Оксфорде и Кембридже) стали все чаще появляться американские аспиранты и стажеры. Вне зависимости от чьих бы то ни было амбиций (или отсутствия таковых) этология все отчетливее превращалась в вызов бихевиоризму и идейно-теоретическую альтернативу ему.
Знакомясь с историей исследования поведения в XX веке, нельзя не удивиться тому, что оба направления, существуя параллельно с середины – второй половины 1930-х и претендуя на статус общей теории поведения, практически не вступали в полемику друг с другом и вообще никак не взаимодействовали. Разумеется, основатели этологии не могли вовсе игнорировать существование бихевиоризма, но их высказывания на эту тему были крайне немногочисленны, резки и сводились в основном к тому, что все построения бихевиористов – лишь свидетельство их абсолютного, девственного невежества относительно естественного поведения животных. Лидеры же бихевиоризма не удостаивали этологию и этологов даже и таких оценок. Вероятно, в их глазах этология выглядела каким-то странным рецидивом донаучного подхода к проблеме поведения, чем-то вроде попытки возродить алхимию или астрологию – разумеется, не заслуживающей серьезного обсуждения. Вызванный войной разрыв научных связей и вынужденная пауза в научной активности основателей этологии позволили американским теоретикам и вовсе забыть о ее существовании. Но даже когда она в начале 1950-х вновь заявила о себе, никакой реакции с их стороны не последовало.
Такое взаимное игнорирование оказалось возможным еще и потому, что у этологов и бихевиористов практически не было конкретных поводов для полемики – фактов, на интерпретацию которых претендовали бы оба направления. Бихевиористы в своих исследованиях занимались практически исключительно процессом научения. Врожденным поведением они не интересовались, считая, что такового либо не существует вовсе, либо это крайне ограниченный набор простейших рефлексов, полностью определяемых анатомией организма – по ведомству которой они, по мнению бихевиористских теоретиков, и должны проходить. Соответственно, те феномены, на которых в основном и сосредоточили свое внимание этологи, бихевиористы просто не рассматривали. Этологи, в отличие от них, никогда не становились на позицию «если мы не можем изучать это нашими методами – значит, это не существует вовсе или не имеет значения». Они безусловно признавали важность индивидуально-пластичного поведения и необходимость его изучения; методология этологического исследования в числе прочего требовала обязательного разграничения в поведении врожденных и приобретенных компонентов. Но по причинам, о которых речь пойдет несколько ниже, этологи почти не занимались реальным изучением процессов научения (за исключением импринтинга и некоторых других особых форм обучения), а те немногие исследования в этой области, которые они все же проводили, слишком сильно отличались методически от работ бихевиористов, чтобы их результаты можно было сравнивать. Трактовать же со своей точки зрения результаты, получаемые бихевиористами, этологи тоже не брались: для них это были, по сути дела, заведомые артефакты[65], полученные, по словам Тинбергена, на «очень немногих видах одомашненных животных в крайне искусственных условиях лаборатории». Интерпретировать их для этолога было то же самое, что для сравнительного анатома – обсуждать форму куска мяса, произвольно выкроенного мясником из коровьей туши.
Словом, несмотря на усиливающееся напряжение между бихевиоризмом и этологией, до прямой схватки между ними дело не доходило (забегая вперед, скажем: и не дошло – если иметь в виду содержательную полемику в научной прессе и на конференциях). Однако решительное выяснение отношений между «европейской» и «американской» науками о поведении все же состоялось. Вызов этологии бросили не правоверные бихевиористы, а еретики – представители сравнительно немногочисленного неортодоксального течения в американской сравнительной психологии, не разделявшего и прямо критиковавшего многие установки бихевиоризма.
Когда Кеннет Спенс писал, что «сегодня практически все психологи готовы назвать себя бихевиористами», он был недалек от истины, но все же не вполне точен. Несмотря на абсолютное господство бихевиоризма, в американской психологии и зоопсихологии даже в начале 1950-х годов присутствовали отдельные исследователи и даже целые небольшие школы, дистанцировавшиеся от модного направления. Некоторых из них – Торндайка, Йеркса, Крейга – мы уже называли. Среди них был и герпетолог[66] Глэдвин Кингсли Нобл, организатор отдела изучения поведения животных Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Он с тревогой наблюдал нарастающее сосредоточение американской зоопсихологии на лабораторном исследовании научения и изо всех сил старался расширить тематику исследований, а также сохранить взаимопонимание между американской сравнительной психологией и другими направлениями в науках о поведении. Сразу после выхода основополагающей статьи Лоренца «Партнер в умвельте птиц» Нобл вместе с Маргарет Найс организовал ее перевод на английский и, не удовлетворившись публикацией сокращенной версии, разослал ряду коллег полный перевод статьи. При этом, однако, его отношение к Лоренцу и его идеям было двойственным: он горячо одобрял ориентацию этологов на изучение широкого круга животных в естественных или близких к естественным условиях, на сравнительное исследование поведения и другие характерные черты этологического подхода (видя в этом хороший пример для американской зоопсихологии), но в то же время категорически не принимал лоренцевы «умозрительные» схемы. В конце 1930-х между ним и Лоренцем завязалась переписка-дискуссия, оборванная смертью Нобла в 1940 году.
Школа Нобла – его ближайший сотрудник и преемник в роли главы отдела Фрэнк Бич, сменивший его на этом посту Теодор Шнейрла и ученик последнего Дэниел Лерман – разделяла взгляды своего основателя. Они так же жестко критиковали бихевиористский мейнстрим за зацикленность на ограниченной проблематике и предельно узком круге видов-объектов, за игнорирование видоспецифичного поведения и видовых особенностей. В 1950 году, в момент высочайшей популярности бихевиоризма Бич издевательски спрашивал: интересует ли психологов вообще поведение как таковое или же единственный феномен – научение – у единственного вида – серой крысы? В поисках альтернатив узколобому подходу бихевиоризма нобловцы обратились ко вновь появившимся в научной прессе работам этологов. Но то, что они там увидели, им совсем не понравилось – настолько, что они сочли необходимым решительно возразить. Причем хотя концепции этологов в англоязычном мире были представлены в основном в публикациях Тинбергена, Торпа и их сотрудников, основной мишенью критики со стороны нобловцев стал Лоренц.
В 1953 году в журнале Quarterly Review of Biology появилась статья Дэниела Лермана (в ту пору даже не имевшего ученой степени) «Критика теории инстинктивного поведения Конрада Лоренца», написанная в довольно резком и непримиримом тоне. Она стала началом долгой и бурной полемики, длившейся около десятилетия. В основном полемика шла на страницах журналов, но время от времени выливалась и в очные дискуссии – на международных симпозиумах и конференциях. В одном только 1954 году состоялись четыре таких форума с участием ведущих представителей обеих сторон.
Основные возражения американцев вызывали два аспекта этологической теории. Во-первых, они считали искусственным и некорректным выделение в поведении врожденных и приобретенных составляющих и даже само противопоставление этих категорий применительно к поведению. По их мнению, наследуются только гены, любой же фенотипический признак представляет собой результат взаимодействия генов и факторов окружающей среды. Тем более это справедливо для таких признаков, как паттерны поведения: между ними и влияющими на них генами – множество промежуточных звеньев и взаимодействий, на каждое из которых могут влиять внешние факторы, причем не только текущие, но и имевшие место на предыдущих этапах жизни особи. В качестве аргументов Лерман и его коллеги приводили с одной стороны столь любимый этологами феномен импринтинга, а с другой – указывали на многочисленные примеры модификации тех форм поведения, которые принято считать инстинктивными (родительского, гнездостроительного и т. д.), на основе индивидуального опыта. Из этого, по их мнению, неизбежно следовало, что разделение поведения на «врожденное» и «приобретенное» не имеет никакого смысла.
Другим объектом критики нобловцев стали постулированные этологами внутренние механизмы поведения – прежде всего сам характер этих эвристических схем, не привязанных ни к каким конкретным нервным структурам. Мало того, что представление о центрах, реализующих инстинктивные акты, врожденных разрешающих механизмах и тому подобных гипотетических структурах неизбежно предполагало существование врожденных паттернов поведения (которые, как мы уже знаем, Лерман и компания считали фикцией, искусственно придуманной категорией), так нобловцев раздражал еще и сам подобный способ теоретизирования. Они настойчиво укоряли этологов в том, что те применяют одни и те же гипотетические абстрактные понятия для объяснения самого разного поведения, в основе которого могут лежать разные процессы и механизмы. Мысль о том, что поведение, скажем, пчелы, собирающей нектар на цветах, и птицы, вьющей гнездо, может управляться сходными по своим свойствам функциональными нервными блоками, казалась им абсурдной: как это может быть, если мозг пчелы и мозг птицы устроены совершенно по-разному?! В них нет вообще никаких структурных элементов, которые можно было бы поставить в соответствие друг другу!
Подходу этологов школа Нобла противопоставляла свой – анализ всех разнородных факторов, влияющих на формирование каждого конкретного вида поведения, «на базе общепринятых физиологических представлений» (читай: старой доброй рефлекторной теории). Звучит чрезвычайно привлекательно – в самом деле, модель, учитывающая все факторы, влияющие на интересующий нас феномен, всегда будет надежнее и вернее любой модели, основанной на упрощениях, идеализациях и пренебрежении второстепенными факторами. Тем не менее в самых разных дисциплинах ученые создавали и создают упрощенные модели изучаемых явлений. Не от лени или небрежности, а потому, что реально учесть все факторы, воздействующие даже на относительно простую систему, невозможно – такой учет был бы под силу разве что демону Лапласа[67]. Тем более это невозможно в ситуации, когда факторы, влияющие на интересующее нас явление, неизвестны нам заранее и нам еще предстоит выяснить, какие факторы существенны, а какие – нет (и как существенные факторы взаимодействуют между собой). Поэтому практически любая научная теория – это всегда некоторое упрощение и идеализация реальной картины. Тела в опытах Галилея не падали с одинаковым ускорением, и не все элементы в таблице Менделеева стоят в порядке возрастания атомных весов. Упрощенная теория позволяет выявить суть, основу явления, а затем, опираясь на нее, понять причины исключений и отклонений. И к этологической теории это относится в полной мере. В то время как ее оппоненты из школы Нобла так и не смогли предложить внятной и цельной концепции поведения животных, способной конкурировать с концепцией этологов.
Примерно то же самое можно сказать и об их позиции по вопросу противопоставления «врожденное – приобретенное». Формально они были совершенно правы: акт поведения связан с геном длинной цепочкой промежуточных взаимодействий, практически на каждое звено которой влияют или могут повлиять внешние факторы (и в главе 7 мы увидим, к чему приводит пренебрежение эффектами, возникающими в этой цепочке). Но ведь то же самое можно сказать и о морфологических признаках, особенно таких сложных, как, например, форма цветка или раковины моллюска. И однако генетики (а до них – морфологи и анатомы) прекрасно знают, что некоторые признаки очень жестко определяются генетически (причем одни из них – видовые, более-менее одинаковые у всех или почти всех особей данного вида, а другие могут быть представлены разными вариантами, но при этом однозначно задаются генотипом особи) и практически не зависят от внешних условий. Разумеется, многие другие признаки сложным образом зависят от взаимодействия наследственности и среды – но анализ и даже само обнаружение таких случаев возможны только потому, что в свое время «врожденное» было четко противопоставлено «приобретенному»[68]. Как бы потом ни менялось содержание этих понятий.
О втором пункте критических атак сравнительных психологов можно сказать, что, вообще говоря, создание функционально сходных структур на совершенно разной материальной основе – обычное дело в эволюции. Глаз головоногих моллюсков устроен принципиально так же, как и глаз позвоночных, хотя возник совершенно независимо от него. И даже в глазах насекомых, устроенных совсем по-другому, можно найти те же функциональные элементы (фокусирующая линза, светоотражающие стенки и т. д.), что и в наших глазах. Система антител у миног создана на основе совсем других белков, нежели у нас, но сам конструктивный принцип, обеспечивающий существование миллионов типов антител на основе относительно небольшого количества кодирующих их генов, удивительно сходен в обоих случаях. У любых достаточно крупных и активных животных неизбежно возникают кровеносная система, пищеварительный тракт, органы выделения, мозг и т. д., формируемые из самых разных тканей и частей тела. Почему же поведение не может строиться по тому же принципу?
Ход дискуссии в значительной мере осложнялся тем, что оппоненты просто не понимали друг друга. В начале главы 4 мы говорили о том, что само членение поведения у «протоэтологов» и «протобихевиористов» было разным: первые видели в нем прежде всего характерную динамическую форму, вторые – результат (достигнутый или предполагаемый). Казалось бы, именно исследователи школы Нобла, принадлежащие к зоологической традиции и критически настроенные по отношению к бихевиористским схемам, должны были если не встать на точку зрения этологов, то по крайней мере заметить эту разницу в видении. Но этого не произошло: к 1950-м годам бихевиористский подход слишком глубоко и прочно укоренился в американской науке о поведении, новые поколения исследователей впитывали его со студенческой (если не школьной) скамьи. И даже если впоследствии те или иные ученые отказывались от бихевиористских теорий, пересмотреть ту систему понятий, которыми эти теории оперировали, было гораздо труднее: эти понятия казались естественными и единственно возможными. В результате даже такие «нетипичные», неортодоксально мыслящие американские сравнительные психологи, как Бич, Шнейрла и Лерман, с энтузиазмом ломились в открытую дверь, доказывая, что коль скоро в материнском или гнездостроительном поведении можно обнаружить действия, приобретенные или измененные под влиянием индивидуального опыта, значит, эти виды поведения нельзя относить к «врожденным». А на предложение Лоренца перейти от столь обширных и расплывчатых категорий к предметному анализу хотя бы одного конкретного «инстинктивного движения» (то есть действия, имеющего определенную форму) Шнейрла ответил, что не относит к категории «инстинктивных движений» ничего, поскольку не может заставить себя принять это понятие.
При взгляде на эту дискуссию из сегодняшнего дня можно заметить и другие проявления неспособности нобловцев – при всей их неортодоксальности – выйти из круга понятий, сложившихся если не в самом бихевиоризме, то в его «силовом поле». Например, Лерман нередко использует слово «структурный» в значении «врожденный» – как противоположность «приобретенному» или «выученному». Такое словоупотребление кажется странным, пока не вспомнишь об убежденности «протобихевиористов» и ранних бихевиористов в том, что врожденным в поведении животного является только то, что определяется его анатомией (то есть «структурой»). То, что сорок лет спустя ученый совсем другого поколения использовал это слово в таком значении, ничего не поясняя (и, видимо, не отдавая себе отчета в этом смысловом сдвиге), показывает, насколько глубоко въелись подобные установки в его картину мира.
По большому счету никто, конечно, никого ни в чем не убедил – как это обычно и бывает в научных дискуссиях. Но полемика все же не прошла совершенно бесследно: этологи стали аккуратнее использовать терминологию (особенно связанную с понятиями «врожденное» и «наследственное»), их представления о соединении врожденных и приобретенных компонентов в целостном поведенческом акте стали точнее и изощреннее. В значительной степени под влиянием этой дискуссии Лоренц и некоторые другие ведущие этологи (в частности, Торп) задумались о применимости этологического подхода к феномену научения (о плодах, которые это принесло, и о трудностях, с которыми они столкнулись, мы поговорим несколько позже). Правда, историки науки указывают, что куда большую роль в этих изменениях сыграли дискуссии и критические выступления внутри самого этологического сообщества, а также критика со стороны дружественных специалистов из других областей биологии (прежде всего генетиков). Тем не менее в таких результатах дискуссии можно видеть некую парадоксальную иронию. Направление, ставящее во главу угла врожденное и неподверженное изменениям поведение, существенно изменилось под влиянием вновь приобретенного знания. Направление, утверждающее изменяемость любого поведения, осталось практически неизменным.
Впрочем, уже вскоре после начала дискуссии тон выступлений с обеих сторон, поначалу резкий и непримиримый, стал смягчаться, выпады против оппонентов перемежались признанием их заслуг и достоинств их подхода, а затем наступил черед пожеланий «объединить усилия», взять все лучшее от обоих подходов и в конечном счете осуществить некий синтез достижений этологии и сравнительной психологии (подобный синтезу генетики с классическим эволюционизмом, детище которого – синтетическая теория эволюции – именно в эти годы достигло пика своих успехов и популярности). В 1966 году английский этолог Роберт Хайнд даже попытался выполнить эти пожелания на практике, выпустив объемистый том «Поведение животных: Синтез этологии и сравнительной психологии»[69].
Однако синтеза не получилось. Заглянув в ту же книгу Хайнда, мы увидим в ней просто механическое соединение двух совершенно разнородных систем представлений, каждая из которых имеет свою тематику (почти не перекрывающуюся с тематикой другой), собственный язык, собственный набор понятий и категорий. И автор не делает даже попытки перевести понятия одной системы на язык другой или истолковать факты, полученные в одной «епархии», при помощи теоретических моделей, взятых из другой. От книги остается впечатление, что кто-то взял два учебника или капитальные сводки по двум разным предметам, разрезал на главы, перетасовал и издал под одной обложкой.
И это не личная неудача Хайнда. По мнению Елены Гороховской, история взаимоотношений этологов и школы Нобла прекрасно иллюстрирует мысль крупнейшего философа науки XX века Томаса Куна о «несоизмеримости парадигм», относящихся к одной области знания. Парадигма в понимании Куна – это нечто большее, чем ведущая теория или даже совокупность основных теорий. Это – вся система представлений, включающая сам способ видения предмета, выделения в нем объектов и категорий, приемлемые (признаваемые «научными») методы работы с ним, критерии истинности или ложности утверждений и т. д. К середине XX века «психологическая» и «зоологическая» традиции в исследовании поведения, развиваясь изолированно, сложились в две самостоятельные парадигмы – бихевиористскую и этологическую. И содержательный диалог между ними оказался невозможен – как скрещивание между видами, что когда-то были едва различающимися разновидностями одного вида, но долго эволюционировали порознь.
Оставим на этом философию и вернемся к истории наук о поведении. Так уж вышло, что дискуссия между этологами и школой Нобла пришлась на годы, когда по обе стороны Атлантики происходили бурные события. Этология, модернизируя и уточняя (в какой-то мере и под влиянием критики американцев) классическую теорию Лоренца – Тинбергена, одновременно переживала подъем популярности – к началу 1960-х она превратилась в солидную фундаментальную дисциплину, основы которой уже должны были входить в багаж представлений биолога любой специальности. Что же до бихевиоризма, то ему было уже не только не до этологии, но и не до школы Нобла: с середины 50-х годов для него началась полоса внутренних потрясений.
Но прежде чем рассказывать о них, нам нужно обратиться к еще одной – совершенно особой – школе исследований поведения животных, развивавшейся (не совсем по своей воле) почти независимо от двух главных направлений в этой области.
Глава 5
За железным занавесом
По традиции в нашей стране рассказ об истории любой науки не обходится без раздела об отечественных ученых и их вкладе в данную область знания. Честно говоря, я считал и считаю это ритуальное упражнение то ли рудиментом печально памятной «борьбы с космополитизмом», то ли проявлением комплекса национальной научной неполноценности, попыткой доказать, что «и мы тоже не хуже». Дело даже не в том, что значение работ российских ученых при таком изложении почти неизбежно преувеличивается, а в том, что такое выделение ученых по признаку подданства само по себе нарушает логику изложения. Контекст для работ того или иного ученого – не государство, в котором он родился или работал, а то направление, к которому он принадлежал, тот круг идей и понятий, который влиял на его работы и на который влияли они.
И тем не менее мне придется посвятить отдельную главу рассказу о российских и советских ученых, занимавшихся изучением поведения животных. В силу исторических обстоятельств такие исследования в СССР оказались в значительной (а временами – почти абсолютной) изоляции от мировой науки о поведении. Это предопределило их собственную эволюцию, почти не испытывавшую влияния общемировых тенденций, что не только позволяет рассматривать их отдельно от крупнейших направлений в мировой науке, но и придает такому рассмотрению дополнительный смысл: сравнение происходившего по ту и эту сторону искусственно возведенных барьеров позволяет увидеть интересные параллели.
Впрочем, до поры до времени (не только до пресловутого 1917 года, но и некоторое время после него) исследования поведения животных в России шли во вполне общеевропейском русле, и русские ученые, занимавшиеся этим предметом, входили в европейское сообщество поведенщиков. Задним числом можно, пожалуй, усмотреть два отличия. Во-первых, если в Европе в конце XIX – начале XX века эпоха ученых-любителей явно заканчивалась, то в России она и не начиналась. Фигуры вроде Дарвина или Фабра – частные лица, не состоящие в штате никакого университета или института, ведущие свои исследования на собственные средства, но при этом признанные и уважаемые сообществом профессионалов – в России просто отсутствовали. Почему это было так, можо только предполагать (и правдоподобных предположений можно выдвинуть немало), но это было так. Даже в советское время, казалось бы, крайне неблагоприятное для неофициальной деятельности частных лиц, существовали уникальные ученые, фактически занимавшие эту «экологическую нишу» (хотя все они, конечно, где-то числились на работе). В досоветской России таких людей не было совсем. Между тем именно исследования поведения (по крайней мере, их «зоологическая» ветвь) в это время все еще в значительной мере оставались поприщем любителей, а профессиональные зоологи если и занимались поведением, то лишь как одной из характеристик своих объектов. Отсутствие в России традиции высококвалифицированного научного любительства предопределяло немногочисленность русских ученых, занимавшихся преимущественно поведением.
Вторая особенность была скорее крайним выражением общеевропейской тенденции. Мы уже неоднократно упоминали, что в Европе начала XX века (в отличие от Америки) доля психологов в сообществе исследователей поведения была очень невелика. В России это отчуждение было доведено до абсолютного: поведением животных занимались зоологи, физиологи, но не психологи (тем более что в России того времени профессиональных психологов было крайне мало). Русские психологи, рекрутировавшиеся в основном из философии, не интересовались поведением животных даже как контекстом для собственных исследований. Непроницаемость барьера между физиологическим и психологическим сообществами в России хорошо иллюстрирует такой исторический эпизод.
1909 год, Женева, VI международный психологический конгресс. На трибуне уже знакомый нам Роберт Йеркс с энтузиазмом рассказывает о замечательных опытах некоего профессора Ивана Павлова из России и о том, какие блестящие перспективы для экспериментального исследования поведения они открывают. Взоры всего зала, естественно, обращаются в сторону немногочисленной русской делегации – будущего основателя Психологического института при Московском университете профессора Георгия Челпанова и группы его сотрудников. А сами русские психологи недоуменно переглядываются: оно, конечно, очень лестно, что в столь авторитетном собрании с таким пиететом говорят о работах русского ученого… да только кто он такой, этот Павлов, почему никто о нем ничего не слыхал? Полно, нет ли тут какого-то недоразумения или, хуже того, мистификации?
Чтобы в полной мере оценить гротескность ситуации, нужно учесть, что Иван Петрович к этому времени был не только штатским генералом и действительным членом Императорской академии наук, но и единственным на тот момент в России лауреатом Нобелевской премии. (Правда, сама эта премия была еще не так раскручена, как сейчас.) Но для психологов челпановской школы физиология находилась на другой планете – чуждой и враждебной планете Естествознания, где вечно царит губительный материализм и дуют ледяные ветры позитивизма[70]. Впрочем, физиологи платили им той же монетой, публично гордясь незнакомством с психологической литературой.
О Павлове и его школе мы еще будем говорить на протяжении большей части этой главы, а пока вернемся к тому, что происходило в русской зоопсихологии в 1900–1920-е годы до и помимо этой школы. Как уже говорилось, для большинства зоологов поведение было лишь одной из характерных черт изучаемых животных. Поэтому не удивительно, что они (как, впрочем, и их зарубежные коллеги в то время) не стремились к созданию теоретических моделей и тем более – общей теории поведения. Хотя сегодняшний читатель может обнаружить в их трудах наблюдения и обобщения, вплотную подводящие к тем или иным теоретическим концепциям будущей этологии. Например, у Петра Мантейфеля (легендарного «дяди Пети», учителя нескольких поколений советских зоологов) мы читаем: «Однажды в одном из поселков Самаркандской области мы обнаружили гнездо сизоворонки с птенцами, помещающееся прямо на плоской крыше чайханы. А надо сказать, что эта красивая зелено-голубая птица – типичный дуплогнездник. Как же она гнездится под открытым небом? Наблюдения показали, что роль дупла как внешнего раздражителя для сизоворонок играла дыра, оставленная для стока воды между кирпичами, установленными по краю крыши. Птицы ни разу не летали кормить своих птенцов прямо на крышу, хотя хорошо видели их с соседних деревьев; они подлетали к карнизу, пролезали через эту сточную дыру и оказывались на крыше. Так „формально“ они оставались дуплогнездниками. Настоящих дупел поблизости не было. Очевидно, водосточная дыра и оказалась для них, в этих условиях, раздражителем, необходимым для размножения».
Пожалуй, трудно найти более яркую иллюстрацию понятия ключевых стимулов и их роли в поведении животных. И Петр Александрович приводит это наблюдение не просто как любопытный казус, а именно как характерный пример логики инстинкта. Но для него это не элемент общей теории поведения, а скорее чисто практический момент: дескать, желая разводить тех или иных животных в неволе, нужно учитывать не только особенности их питания, температурный режим и т. п., но и вот такие нематериальные факторы.
На фоне такого отношения к вопросам поведения резко выделяется фигура Владимира Вагнера – профессора Петербургского (затем Ленинградского) университета, едва ли не единственного русского зоолога, для которого поведение животных было главным предметом интереса[71]. Его основным методом было наблюдение, а спектр объектов исследования не ограничивался какой-либо конкретной группой животных – Вагнер с одинаковым интересом наблюдал пауков и ласточек. Своей сосредоточенностью на поведении Вагнер отчасти напоминал Фабра, но в отличие от него был далеко не безразличен к общим вопросам. Впрочем, обобщение своих исследований он представил не в виде теории или модели поведения, а скорее в виде изложения определенного методологического подхода, который он сам определил как «объективный биологический метод». Читая его работы сегодня, в них можно увидеть многие черты будущей этологии: упор на длительное и скрупулезное наблюдение естественного поведения, последовательно-эволюционный подход, сравнительное исследование сходных форм поведения у родственных видов (возможности которого Вагнер продемонстрировал, сопоставив плетение паутины у десятков видов пауков), четкое разграничение врожденных и индивидуально-приобретенных компонентов поведения. Особенно надо выделить представление Вагнера о «типе» или «шаблоне» инстинкта – некой базовой схеме, характерной для всего вида и наследуемой генетически, но допускающей в некоторых пределах индивидуальные вариации и возможность изменения на основании приобретаемого опыта (столь изощренные представления о соединении врожденных и приобретенных компонентов появились в этологии только во второй половине 1950-х годов, после дискуссии со школой Нобла – см. интермедию 2). «Программа Вагнера» во многом предвосхищает даже знаменитые «четыре вопроса этологического исследования», сформулированные Тинбергеном в 1963 году[72].
Современники, однако, увидели в построениях Вагнера другое. Основные обобщающие работы Вагнера были опубликованы в самое, пожалуй, неподходящее для его взглядов время – в 1902 и 1914 годах. Как раз к этому времени общее разочарование биологов в эволюционном подходе вылилось в острый кризис эволюционизма, охвативший едва ли не все области биологии. «Закончилась эпоха парусных кораблей и теории Дарвина!» – задорно провозглашала новорожденная генетика устами одного из своих пионеров Уильяма Бэтсона. Бунт против «устарелого» эволюционизма смыкался с широким распространением в биологии экспериментальных методов, которое воспринималось многими как разрыв со всей натуралистической традицией биологии XIX века.
На этом фоне уже одной только апологии «чистого», невмешивающегося наблюдения было бы достаточно, чтобы «программа Вагнера» выглядела в глазах коллег (и прежде всего – молодых) непоправимо архаичной. Но для такого восприятия были и куда более серьезные основания. Резко отвергая антропоморфистский подход в духе Роменса, Вагнер, однако, остался верен тому, что его породило: прямолинейно-прогрессистскому эволюционизму XIX века. Эта уже крайне немодная в то время идеология не только пронизывала его работы, но и прямо провозглашалась в них в качестве общетеоретической основы. Но что еще хуже, она толкала Вагнера на утверждения, неуместные для квалифицированного зоопсихолога и вообще зоолога, – их ошибочность была очевидной уже тогда. Так, он априори полагал, что развитие инстинктов в онтогенезе должно подчиняться «биогенетическому закону» Геккеля – Мюллера, то есть на ранних стадиях жизни животное должно демонстрировать в своем поведении какие-то черты инстинктов своих далеких предков. Очевидная несостоятельность этого предположения[73] совершенно затмила для современников саму проблему онтогенеза врожденного поведения, поставленную Вагнером едва ли не впервые в зоопсихологии. Другим примером явно «идеологической» ошибки можно считать утверждение Вагнера о том, что способность к обучению (которую Вагнер по старинке отождествлял с «разумом») присуща только животным с развитой корой головного мозга, то есть млекопитающим. Такой взгляд противоречил целому ряду хорошо известных уже в то время фактов – зато соответствовал представлению об эволюции как о восхождении от низшего к высшему (мерилом которого выступала, конечно же, степень эволюционного родства с человеком). Словом, «программа Вагнера» не только явно опиралась на вышедшие из моды взгляды, но и наглядно показывала, к каким грубым и нелепым ошибкам они ведут. Не удивительно, что она привлекла гораздо меньше внимания коллег, чем объективно заслуживала. Позднее некоторые исследователи использовали отдельные элементы подхода Вагнера, но он так и не стал основой для формирования «школы Вагнера». За пределами же России работы Вагнера остались практически неизвестными.
Еще одной оригинальной фигурой русской зоопсихологии (и тоже исключением из общего отношения к поведению как «одной из характеристик» животного) стала Надежда Ладыгина-Котс. Она тоже принадлежала к зоологической традиции, хотя зоологом в полном смысле слова никогда не была. Юная Наденька Ладыгина была студенткой московских Высших женских курсов, слушала лекции молодого красавца-профессора Александра Котса о теории Дарвина и по уши влюбилась – и в теорию, и в самого профессора, и в его идею создать зоомузей нового типа, музей эволюционной теории. Вместе с Котсом (за которого она вскоре вышла замуж), таксидермистом Филиппом Федуловым и художником-анималистом Василием Ватагиным она создавала открывшийся в 1907 году Дарвиновский музей[74]. Но, принимая самое деятельное участие в проекте мужа, она одновременно вела собственные исследования, связанные с работой Котса только общей эволюционной идеологией. Уже в 1910 году она начала свой самый знаменитый эксперимент, взяв на воспитание полуторагодовалого шимпанзе Иони и начав регулярные наблюдения за развитием и становлением его психических функций. Позднее таких экспериментов было проведено немало (о том, во что они в конце концов вылились, мы еще поговорим в главе 8), но работа Ладыгиной-Котс была едва ли не первой в мире. Имея возможность наблюдать за детенышем постоянно, исследовательница подробно описала его спонтанное поведение и в то же время детально исследовала его когнитивные возможности и их развитие. Естественно, центральное место в этой работе занимал вопрос о мышлении обезьян, его формах и возможностях. Надо сказать, Надежда Николаевна в своих выводах счастливо избежала обоих обычных для этой проблематики соблазнов – как представления о «непроходимой пропасти» между психикой человека и обезьяны, так и взгляда на антропоидов как на «почти людей»[75] и оценки их психики исключительно по критерию сходства с человеческой. Эволюционный подход в понимании Ладыгиной-Котс заключался не в выстраивании изучаемых существ на одномерной шкале «прогрессивности», а в непредвзятой оценке как сходств, так и различий в поведении человека и обезьяны, и в частности – в фиксации тех «развилок», узловых точек, от которых развитие психики детеныша шимпанзе и человеческого ребенка[76] идет разными путями. Такой подход сделал работу Ладыгиной-Котс чрезвычайно ценной и вызвал большой интерес к ней у психологов и зоопсихологов разных стран, хотя некоторые ее частные выводы (сделанные все-таки на очень ограниченном материале) позднее были пересмотрены.
Проблеме психических возможностей антропоидов Надежда Николаевна оставалась верна до конца жизни. Одновременно с Вольфгангом Кёлером (о котором мы чуть подробнее скажем в главе 8), но совсем другими методами она обосновывала наличие у обезьян элементарного мышления и его несводимость к обучению методом проб и ошибок. Со временем вокруг нее сложилась небольшая оригинальная школа советских зоопсихологов-приматологов. К сожалению, нарастающая самоизоляция советской науки и одновременная маргинализация проблемы интеллекта животных в мировой зоопсихологии привели к тому, что Надежда Ладыгина-Котс так и осталась известна в мире в основном своими ранними работами. Она умерла в 1963 году – как мы увидим, буквально на пороге нового подъема интереса мировой науки к теме, которой она занималась всю жизнь.
Но как бы ни были оригинальны и интересны исследования Вагнера или Ладыгиной-Котс, наблюдения и обобщения русских зоологов[77], уже начиная с конца 1900-х годов для всех исследователей поведения в мире Россия все больше ассоциировалась с единственным именем – Ивана Павлова.
Об Иване Петровиче Павлове и о том, как он открыл условные рефлексы, написано очень много. Правда, практически вся повествующая об этом литература написана в советское время, когда учение Павлова о высшей нервной деятельности было включено в официальный идеологический канон (в роли этакого «вице-марксизма по вопросам физиологии») и признано единственно научным. В силу этого в повествованиях о работах Павлова отсутствует не только сколько-нибудь критический взгляд на них, но даже попытки рассмотреть их в контексте всей науки о поведении в целом, их связи и взаимоотношения с другими концепциями и направлениями (особенно современными им и более поздними). Основной упор делается на последовательно-материалистический характер павловских теорий и их противостояние религиозным и «реакционно-идеалистическим» представлениям о душе. Эта литература создает впечатление, что в пределах научного подхода у павловской теории нет и не может быть ни оппонентов, ни альтернатив.
Я не претендую на то, чтобы исправить сей досадный перекос – полноценная и объективная история павловской школы, ее теоретических представлений и экспериментальных результатов и ее места в мировой науке потребовала бы отдельной книги. Я лишь поясняю, почему позволю себе в этой главе сосредоточиться в основном на том, что осталось за рамками хрестоматийных текстов.
Итак, на рубеже XIX–XX веков Иван Павлов – состоявшийся ученый, профессор Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге и глава отдела физиологии в Институте экспериментальной медицины, один из самых известных европейских физиологов, не интересующийся (по крайней мере, в профессиональном плане) ни психологией, ни зоопсихологией. Его научное кредо – нервизм. Слово это ввел в оборот сам Павлов, обозначив им направление, берущее начало еще в работах знаменитого Клода Бернара, но особенно пышно расцветшее в русской физиологии, в трудах учителей и сверстников Павлова (и, конечно же, его самого). Суть нервизма состоит в представлении, что нервная система регулирует все жизненные процессы в организме и управляет ими и что именно ее деятельность объединяет все клетки, ткани и органы в единое целое. Основным механизмом такого управления «по умолчанию» мыслился, конечно же, рефлекс – тем более что именно в это время быстро развивается изучение конкретных рефлексов, их нервного субстрата (то есть реализующих их нейронных цепочек) и закономерностей их функционирования. Приверженность нервизму и стремление сделать его основой всей физиологии диктовали научные задачи. Ну, допустим, с движениями и действиями все ясно – никто не сомневается, что мышцы приводятся в действие именно нервами. А как насчет висцеральных функций – кровообращения, пищеварения, работы почек и т. д.? Они тоже регулируются нервной системой или работают автономно, сами по себе? Здравый смысл и косвенные данные указывали скорее на второе, но окончательно решить этот вопрос мог только прямой эксперимент.
Этот круг вопросов и был поприщем физиолога Ивана Павлова начиная со студенческих времен. Первые его работы были посвящены функциям сердечных нервов, затем он заинтересовался регуляцией пищеварения. Серией блестящих вивисекций (свою научную карьеру Павлов начинал ассистентом виртуоза экспериментальной хирургии Ильи Циона и в значительной мере перенял его великолепную технику) он доказал, что выделение желудочного сока стенками желудка при поступлении в него пищи – не автономная реакция ткани стенок, а рефлекс, опосредованный центральной нервной системой, как это и должно было быть согласно постулатам нервизма. Эти работы настолько впечатлили коллег-физиологов, что в 1904 году Павлову за них была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине.
Но к моменту присуждения награды новоиспеченный лауреат уже больше года занимался совсем другими исследованиями. Во время своих «нобелевских» работ он заметил, что у подопытных собак желудочный сок выделялся не только при попадании в желудок пищи, но и при виде ее и даже при звуках, предвещавших скорое кормление: звоне посуды, звуке шагов служителя и т. д. Любой другой ученый того времени не нашел бы в этом ничего необычного: ну да, собака же знает, что если гремят мисками – значит, сейчас будут кормить… Но Павлов увидел в этом проблему: что значит «собака знает»?! Секреция желудочного сока – это рефлекс, автоматика, срабатывающая независимо от намерений и умозаключений обладателя желудка! Этот рефлекс запускается рецепторами стенок желудка, которые ничего не могут «знать» ни о внешнем виде еды, ни о характерной походке служителя. И если вдруг рефлекс начал срабатывать на эти совершенно посторонние, никак не связанные с его нервным субстратом стимулы – значит, должен существовать какой-то физиологический механизм, способный соединить одно с другим.
Операции, позволявшие регистрировать и измерять секрецию желудочного сока, были довольно сложными даже для Павлова и к тому же весьма травматичными для подопытных животных. Но им быстро нашлась замена: слюнная железа была гораздо доступнее желудка, вставленная в нее канюля почти не беспокоила собаку, а реагировать на «нештатные» раздражители этот орган «учится» еще быстрее и надежнее. Практически все основные особенности и закономерности условного рефлекса, как назвал Павлов открытый им эффект, были установлены в первые годы после открытия самого феномена именно путем регистрации выделения слюны и измерения ее количества[78].
Слюнки, впрочем, текли не только у подопытных собак: новый физиологический феномен привел своего первооткрывателя в восторг. «Три черты этого материала (условных рефлексов. – Б. Ж.) поражают собирателя его. Это, во-первых, полная доступность этих явлений точному исследованию, нисколько не уступающая обыкновенным физиологическим явлениям, т. е. их повторяемость и общность при тождественных условиях обстановки и их дальнейшая разлагаемость[79] экспериментальным путем. Этого, казалось, нельзя было ожидать. Второе – применимость к этому материалу исключительно только объективного мышления. Повторяемые нами изредка еще и теперь для сравнения субъективные соображения[80] поистине сделались насилием, можно было бы сказать – обидой серьезного мышления! Третье – это избыток вопросов, чрезвычайная плодотворность мысли, крайне возбуждающая исследователя», – писал Павлов в 1906 году, излагая первые результаты исследования условных рефлексов. Новый феномен оказался столь захватывающим, что последующие тридцать лет жизни – буквально до самых последних дней – Павлов посвятил его изучению, оставив все, чем он занимался прежде и что принесло ему мировую славу.
Восторг ученого нетрудно понять. Открытое им явление было чрезвычайно интересным само по себе и явно играло огромную роль в повседневной жизни животных. (Помимо всего прочего, до сих пор физиологи могли рассматривать рефлексы лишь как данность, нечто готовое и неизменное, а павловские открытия позволяли изучить процесс формирования рефлекса.) Но Павлов сразу же увидел в нем еще и инструмент дальнейших исследований – причем именно в таких областях, перед которыми физиология до сих пор останавливалась. «До сих пор физиология главных внешних воспринимающих поверхностей (глаза, уха и т. д.) почти исключительно состояла из субъективного материала, что вместе с некоторыми выгодами вело, однако, и к естественному ограничению власти эксперимента, – говорил Павлов в том же докладе. – С изучением условных раздражителей на высших животных это ограничение совершенно отпадает и масса важных вопросов этой области может быть сейчас же обработана со всеми теми огромными ресурсами, которые дает в руки физиологу животный эксперимент». В самом деле, если до сих пор физиология органов чувств должна была соотносить объективные измерения с субъективными ощущениями испытуемых, то теперь в этом нет необходимости: если мы хотим узнать, воспринимает ли нервная система то или иное физическое воздействие, достаточно просто взять собаку и выработать у нее условный рефлекс на это воздействие. Если нас интересует способность мозга к различению (например, звуковых тонов, оттенков цвета или геометрических фигур), надо попытаться выработать «дифференцировку»: предъявлять сравниваемые стимулы поочередно и один подкреплять, а другой – нет. И так далее. Причем получаемые таким образом данные будут точны и объективны, как физические измерения.
Но и это еще цветочки по сравнению с другой головокружительной перспективой, открываемой условными рефлексами. «Еще более кровный интерес изучение условных раздражителей представляет для физиологии высших отделов центральной нервной системы, – продолжает Павлов. – До сих пор этот отдел в значительной своей части пользовался чужими понятиями – психологическими понятиями. Теперь получается возможность вполне освободиться от этой крайне вредной зависимости». Иными словами, новый феномен дает возможность исследовать объективными естественнонаучными методами душевную деятельность высших животных (как это сформулировал сам Павлов).
Вот на этом моменте стоит остановиться чуть подробнее. Я думаю, читатель уже заметил глубокое сходство подходов Павлова и бихевиористов. Об этом сходстве говорили многие – и говорили совершенно справедливо. Действительно, «программу Павлова» и «программу Уотсона» роднит и категорическое неприятие субъективности и «ненаучности» современной им психологии (а особенно – ее неприложимости к животным), и понимание поведения исключительно как ответной реакции на внешние воздействия[81], и радикальный, прямолинейный материализм, и позитивистская методология, и уверенность в единой природе поведения человека и животных[82]. О близости взглядов говорит и тот восторг, с которым бихевиористы восприняли работы Павлова, и довольно благожелательное отношение Павлова к бихевиоризму. Но был по крайней мере один очень важный пункт, в котором позиции павловской школы и бихевиористов расходились резко и непримиримо. Для бихевиористов изучение «ответных реакций» животных было альтернативой изучению не только психики, но и функций головного мозга (в котором они видели лишь коммутатор между стимулом и реакцией). Для Павлова же, как мы только что видели, эти реакции, напротив, были способом изучения деятельности мозга, и в этом-то и заключалась их главная ценность. Что же касается собственно психики, то здесь позиция Павлова даже на пике эйфории от возможностей нового метода была сдержанной и взвешенной: вопрос о соответствии физиологических и психических феноменов, безусловно, интересен и важен, однако пока у физиологии нет методов для его решения; когда будут – тогда и поговорим[83]. Ни о каком отрицании реальности психики не было и речи – Павлов утверждал лишь, что высшую нервную деятельность (как он назвал новую область своих интересов – формирование и функционирование условных рефлексов) следует изучать методами физиологическими, а не психологическими. Тем более, мол, что теперь такие методы есть.
Однако, как мы уже отчасти видели в главе 3, работы Павлова были восприняты как самое сильное, неопровержимое подтверждение того, что поведение можно изучать, полностью игнорируя субъективную сторону дела. Тем более что сам Павлов, полемизируя с попытками психологической интерпретации наблюдаемых им явлений, публиковал все новые свидетельства их независимости от субъективных переживаний. Так, в ответ на предположение, что слюноотделение у собаки вызвано приятным предвкушением еды или чувством благодарности к человеку-кормильцу, Павлов приводил парадоксальный опыт своей сотрудницы Марии Ерофеевой: перед кормлением на лапу собаки подавали электрический ток – не слишком сильный, но определенно болезненный. Собака повизгивала от боли, а из канюли между тем исправно капала слюна.
Конечно, слюноотделение вообще довольно автономно от наших чувств и намерений – хотя, пожалуй, из всех желез человеческого тела слюнная наиболее подвержена психическим влияниям, их воздействие все же остается очень ограниченным и косвенным. Если вспомнить об этом, независимость реакции слюнной железы от собачьих эмоций покажется не столь уж удивительной, а сам вопрос, на который отвечал эксперимент, – не относящимся к области поведения. Но этого в ту пору не замечали ни сторонники, ни оппоненты. Хотя все первые годы исследования в лаборатории Павлова шли только на «слюноотделительной» модели, все – и сам первооткрыватель, и его сотрудники, и заинтересованные читатели его публикаций – с самого начала примеряли феномен условного рефлекса к актам поведения.
Вновь позволю себе лирическое отступление – на этот раз совсем маленькое. Я помню, как в студенческие годы при первом знакомстве с физиологией высшей нервной деятельности меня смущала эта легкость перехода от реакции слюнной железы к простейшим, но произвольным действиям. Что-то тут было не так, какая-то подмена понятий. Прошло некоторое время, прежде чем я понял: вся концепция условного рефлекса основана на том, что само действие уже сформировано заранее, и изменение состоит только в том, что теперь оно запускается новым сигналом. Произвольное же действие, даже такое, как нажатие на рычаг, не говоря уж об открывании какого-нибудь запора, – это определенным образом скоординированный двигательный акт, которого до начала эксперимента просто не существовало. Подопытное животное должно было его как-то сформировать – то есть создать в своем мозгу нейронный механизм для его выполнения. Вряд ли кто-то будет спорить, что придумать и собрать «с нуля» даже относительно несложное устройство – это совсем не то, что подключить уже готовое устройство к новому тумблеру.
Однако для Павлова и его все более многочисленных сторонников тут вообще не было никакой трудности. Да, конечно, работа слюнной железы и других подобных органов непроизвольна, а скелетными мышцами мы можем управлять по собственному усмотрению. Ну и что? Разве так называемые произвольные движения не запускаются возбуждением, приходящим по нервам? Разве этот процесс не демонстрирует все характерные черты рефлекса? Разве не описано уже множество конкретных рефлексов, исполнительными органами которых выступают именно скелетные мышцы (например, коленный рефлекс, известный всем, кто хоть раз побывал в кабинете невропатолога)? Да, движения, вызываемые такими рефлексами, очень просты – но разве у животных не известны также сложные врожденные движения, именуемые в зоопсихологии «инстинктивными»? Что мешает нам предположить, что инстинктивные действия – это сложные безусловные рефлексы, на основе которых можно строить рефлексы условные точно так же, как они строятся на основе простых безусловных рефлексов? И какова, собственно, альтернатива такому предположению? Никакие другие механизмы генерации возбуждения, имеющие понятные и объективно регистрируемые причины, физиологии не известны. Так что если скелетными мышцами движут не рефлексы, то это могут делать только свободная воля, желания и намерения – а сии явления для научного изучения недоступны…
Так что когда начиная с 1910-х годов в работах школы Павлова стали появляться условные рефлексы, внешним проявлением которых было какое-нибудь произвольное движение (например, подъем лапы), это не вызвало никакого специального обсуждения и даже не отразилось в классификации условных рефлексов. Их классифицировали по самым разным признакам: по физической природе условного стимула (зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные), по типу подкрепления (пищевые, питьевые, оборонительные и т. д.), по соотношению условного и безусловного стимулов во времени (наличные, отставленные, запаздывающие, следовые), по сложности – словом, как угодно, только не по природе ответной реакции. Лишь в 1928 году польские физиологи Ежи Конорский и Стефан Миллер (увлеченные открытиями Павлова, но работавшие самостоятельно) ввели представление об «условных рефлексах II типа», отнеся к ним те, которые проявляются не вегетативными реакциями (изменениями секреции чего-нибудь, тонуса сосудов и т. п.), а произвольными движениями и действиями[84]. Павлов, которому они написали об этом, пригласил обоих молодых поляков к себе в лабораторию на длительную стажировку, но так и не счел введенное ими разграничение существенным. Тем не менее оно быстро стало общепринятым, особенно в американской исследовательской традиции[85]. Что, впрочем, мало помогло осознанию принципиального различия этих двух феноменов.
Но вернемся в начало века. Появление концепции условного рефлекса и быстрое формирование вокруг нее крупного и сплоченного научного направления с обширной и амбициозной исследовательской программой резко изменило расстановку сил в сообществе исследователей поведения. Как уже говорилось, работы Павлова были приняты на ура американской экспериментальной зоопсихологией – как набирающим силу бихевиористским направлением, так и теми, кто не относил себя к нему и даже полемизировал с ним. Однако ни те ни другие чаще всего не занимались физиологическими механизмами поведения: одни по идейным соображениям, другие – просто потому, что не обладали техническими навыками физиологического эксперимента. (Разумеется, были и исключения – и об одном из них мы вскоре поговорим.) Появление школы Павлова даже усилило эту тенденцию – павловцы как бы прикрыли «физиологический тыл» сравнительной психологии, подвели под нее необходимую базу, и теперь самим психологам можно было спокойно заниматься собственными проблемами. С другой стороны, приход павловской школы резко изменил ситуацию для физиологов-поведенщиков (довольно немногочисленных и далеко не единых в своих взглядах): если до того каждый мог развивать собственный подход к поведению, не слишком оглядываясь на коллег, то появление столь мощного исследовательского направления вынуждало как-то определяться по отношению к нему: либо признавать его основные положения, либо открыто оспаривать их. (Примерно так появление в середине XIX века теории Дарвина заставило всех тогдашних натуралистов определить свою позицию по вопросу об эволюции.) И независимо от выбора, сделанного тем или иным ученым[86], исследование физиологических аспектов поведения стало однозначно ассоциироваться именно со школой и подходом Павлова. Грубо говоря, павловцы помимо своей воли оказались в значительной мере монополистами физиологического подхода к поведению, единственными физиологами в глазах психологов и единственными психологами в глазах физиологов. Внешне это проявлялось в том, что начиная с 1910-х годов в мировой науке не возникало ни новых физиологических теорий поведения, ни новых школ исследования поведения в рамках физиологической традиции (за исключением разве что небольшой школы фон Юкскюля), хотя физиология в эти годы развивалась очень активно и успешно. Даже такое выдающееся достижение этого времени, как работы Карла фон Фриша на пчелах, начавшиеся как чисто физиологические исследования органов чувств и приведшие в итоге к открытию и расшифровке пчелиного языка танцев, не породили ни новой общей теории, ни новой школы.
На эти процессы своеобразно наложились социально-политические обстоятельства в самой России. Несмотря на резко отрицательное личное отношение Павлова к большевистскому перевороту и установленной большевиками политической системе, советское правительство даже во время гражданской войны сделало максимум возможного для сохранения павловской научной школы – и ему это удалось. С началом же НЭПа и появлением у режима финансовых возможностей для внятной научной политики на Павлова и его направление пролился золотой дождь. Сам Павлов, по-прежнему не любивший большевиков (и особенно их манеру обращения с наукой), тем не менее признавал, что таких возможностей, которые они ему предоставили, не только не было ни у одного физиолога старой России, но нет и ни у одного физиолога современной Европы[87].
Для нашего рассказа не так уж важно, какие учреждения входили в сложившуюся в 1920-е годы научную империю Павлова, каким оборудованием и какой экспериментальной базой они располагали. В этих привходящих обстоятельствах для нас важны два момента. Во-первых, штат научных учреждений, так или иначе руководимых Павловым, включал в себя многие сотни научных работников – что в условиях тогдашней России означало, что почти все ученые, способные и желающие работать в этой области, работали именно там. Все еще существовавшие непавловские центры изучения поведения животных (Зоопсихологическая лаборатория, созданная знаменитым дрессировщиком Владимиром Дуровым, отдел зоопсихологии в Дарвиновском музее, возглавляемый Ладыгиной-Котс, группа зоопсихологии в Психологическом институте при МГУ и другие) чем дальше, тем больше выглядели чем-то маргинальным, архаичным и глубоко провинциальным. И во-вторых, мнение Павлова стало решающим в вопросах определения перспективности новых направлений исследований. При всей научной и человеческой щепетильности Ивана Петровича (ни одно учреждение или направление в «поднадзорных» ему областях науки не было закрыто по его инициативе – в том числе из тех, чьи исследования он сам считал совершенно пустыми и бесперспективными) это неизбежно означало установление научной монополии. То есть объективно монопольное положение павловской школы в своей области дополнительно усиливалось организационно-административными мерами.
А внутри этой школы тем временем исподволь, постепенно, без манифестов и программных статей крепла уверенность в том, что безусловные и условные рефлексы исчерпывают все поведение животных (а вероятно, и человека) без остатка. В самом деле, а что еще там может быть?
Сам Павлов никогда не говорил этого прямо. Но он требовал от своих сотрудников физиологического анализа наблюдаемых феноменов, а это неизбежно означало их интерпретацию в понятиях рефлекторной парадигмы. Кроме того, подход Павлова был даже более аналитическим, чем подход самых радикальных бихевиористов. Если они помещали своих крыс и голубей в клетки или лабиринты, где животное хотя бы могло двигаться все целиком, то Павлов своих собак – в экспериментальный станок, где те в лучшем случае могли совершать лишь отдельные ограниченные движения (например, поднять одну лапу). Степень изоляции животного от посторонних стимулов (которые могли нечаянно стать условными, или затормозить срабатывание рефлекса, или еще каким-то образом исказить изучаемые явления) поражает воображение и сейчас: в знаменитой «Башне молчания»[88] все помещения были надежно звукоизолированы, освещение в них строго регулировалось, были приняты меры против проникновения посторонних запахов и даже против вибраций здания. Понятно, что в таких опытах было невозможно обнаружить никакие проявления естественного поведения. Но Павлова не очень интересовало целостное поведение – его привлекали элементы, «атомы» поведения. Общих теорий поведения он не выдвигал, полагая, что их черед настанет после того, как станет ясна физиологическая основа.
Но чем больше экспериментов проводила огромная научная империя Павлова, тем более странной и противоречивой представлялась эта самая «основа». Первоначальная павловская гипотеза о нервном субстрате условного рефлекса выглядела просто и логично: это замыкание контакта между ранее не связанными участками коры больших полушарий головного мозга. Один центр реализует соответствующий безусловный рефлекс. Другой – конечный пункт возбуждения, вызванного нейтральным стимулом. Когда они раз за разом одновременно оказываются возбужденными, между ними возникает связь – может быть, прорастают новые нервные пути, а может, уже имевшиеся, но недостаточные для передачи возбуждения, как-то изменяются и начинают работать эффективнее. (В ту пору наука только-только подступалась к тому, что вообще такое «нервное возбуждение» и как оно передается по телу нервной клетки и с одной клетки на другую.) И условный стимул через свое «корковое представительство» начинает включать безусловный рефлекс.
Выглядит очень убедительно, но как быть хотя бы с тем же рефлексом слюноотделения, с которого все начиналось? Мозговой центр, регулирующий работу слюнных желез, – саливаторные ядра – находится в стволе мозга, на границе продолговатого мозга и моста. Безусловным стимулом для слюноотделения служат вкусовые ощущения – которые, конечно, поступают и в кору (благодаря чему мы можем осознавать вкус того, что попало к нам в рот), но рефлекс запускает не корковая область восприятия вкуса, а именно стволовые ядра. К какому же участку этой схемы подключается контакт из, скажем, слуховой коры, куда поступает возбуждение, вызванное условным стимулом?
Включение в рассмотрение условных рефлексов с двигательным «выходом» принесло новые загадки. Оказалось, например, что перерезка всех связей между зрительной и двигательной корой не только не блокирует ранее сформированный двигательный рефлекс на зрительный стимул, но даже не исключает формирования такого рефлекса (хотя у прооперированных таким образом животных реакция вырабатывается дольше и труднее). Даже у животных, у которых кора была полностью удалена или лишена всех связей с остальным мозгом, удавалось (хоть и с огромным трудом) вырабатывать некоторые условные рефлексы.
Примерно так Павлов первоначально представлял себе физиологический механизм условного рефлекса:
I – безусловный рефлекс: раздражение вкусовых рецепторов языка поступает в центр слюноотделения в продолговатом мозгу (В), который запускает секрецию слюны слюнной железой. Параллельно этому возбуждение из ядра В поступает в корковое представительство чувства вкуса (С), у которого есть контакты со в зрительной корой (а). Если во время кормления или перед ним включается лампочка, вызванное ею возбуждение нейронов сетчатки передается в подкорковые зрительные центры (А), а оттуда – в зрительную кору. Если зрительный и вкусовой раздражители регулярно совпадают, между а и С устанавливается связь.
II – условный рефлекс: вызванное светом возбуждение поступает из сетчатки в А, оттуда – в а, а оттуда по сформировавшейся новой связи – в С и далее в В, вызывая выделение слюны даже в отсутствие раздражения вкусовых рецепторов.
Наконец, в 1929 году совсем странные новости пришли из США. Об ученом, от которого они исходили, следует сказать особо – он представлял собой одно из тех исключений, которые мы упоминали, говоря, что бихевиористы, как правило, не ставили физиологических экспериментов. Карл Лешли был психологом-бихевиористом, непосредственным учеником Уотсона и одним из первых его сотрудников. Однако при этом он не только прекрасно разбирался в физиологии, но и владел техникой хирургических операций на мозге, в том числе и довольно тонких (по стандартам тех времен). Спустя два десятилетия его физиологическая «ипостась» сделает его автором одного из самых сильных аргументов не только против бихевиористской теории, но и вообще против рефлекторной трактовки поведения. Но об этом – в следующей главе. А пока, в конце 1920-х, правоверный бихевиорист Лешли задался целью выяснить: где же в мозгу локализуется усвоенный навык, где происходит то самое переключение между стимулом и реакцией? Лешли обучал крыс проходить лабиринт. После того как они успешно осваивали это упражнение, он удалял им ту или иную часть коры и смотрел, как изменится их поведение в лабиринте. И так и не нашел того заветного участка, удаление которого заставило бы крысу полностью забыть то, чему ее учили. В то же время удаление практически любой части коры увеличивало число совершаемых крысой ошибок, причем это число не зависело от того, какую именно часть коры удалили, а зависело лишь от объема удаленной нервной ткани. Лешли назвал обнаруженную им зависимость «законом действия масс».
Это уже не лезло ни в какие ворота: получалось, что «условный рефлекс» (если только это он) размазан по всему мозгу, по крайней мере – по всей коре! Как это согласовать с традиционным пониманием рефлекса как жестко детерминированной реакции, выполняемой строго определенной совокупностью нейронов? Неужели Павлов примет это, не попытается повторить и проверить, найти изъян в методологии дерзкого американца?!
И вот тут мы подходим к одному очень странному обстоятельству – вдвойне странному тем, что его странности словно бы никто и не замечает вот уже восемьдесят лет. Как известно, Павлов был не просто приверженцем эксперимента как основного метода исследования – он был его фанатиком. Любая область была для него научной ровно в той мере, в какой она допускала и применяла эксперимент. Эксперимент для Павлова был высшим судьей во всех научных спорах; вопросы, которые нельзя было решить экспериментально, он считал не относящимися к науке. И слово у него не расходилось с делом: славу одного из лучших физиологов Европы ему принесли именно эксперименты (прежде всего хирургические), остроумные по замыслу и виртуозные по исполнению. Нащупав механизм, который мог оказаться универсальной физиологической основой психики и поведения, и яростно отстаивая возможность и необходимость изучения его методами естествознания, Павлов, казалось, был просто обязан попытаться прикоснуться к нему скальпелем.
И однако все вышло иначе. Изучая условные рефлексы на протяжении трети века, все свои представления об их механизме Павлов строил исключительно на основании их внешних проявлений. Он, конечно, продолжал выполнять рутинные технические операции вроде создания в собачьей слюнной железе фистулы и вставления в нее канюли. Но за все эти десятилетия он так ни разу и не попытался вмешаться как хирург непосредственно в предполагаемый нервный субстрат условного рефлекса. Даже операции вроде описанных выше перерезок проводящих путей в коре или между корой и подкоркой выполнял уже не он сам, а его ученики и ученики учеников. А все «корковые представительства», «подкорковые центры», «временные связи» и прочие ключевые элементы его концепции оставались такими же абстракциями, не привязанными ни к каким конкретным мозговым структурам, как появившиеся несколько позже в статьях Лоренца «специфические нервные центры» и «врожденные разрешающие механизмы».
Я не берусь даже предположить причину, по которой великий вивисектор так и не решился поднять скальпель на главное открытие своей жизни. Отмечу лишь, что все тривиальные объяснения, которые приходят в голову («боялся неудачи», «осознавал неадекватность современной ему хирургической техники предмету исследования», «не смел вторгаться в то, что в глубине души продолжал считать тайной и божественным даром», «тайно оперировал, но ничего не публиковал, поскольку результаты не соответствовали теории» и т. п.), решительно противоречат всему, что мы знаем о личности и характере Ивана Петровича Павлова.
Впрочем, в зените славы Павлов вообще вел себя довольно странно. Если в 1900-х он относился к психологии и ее методам подчеркнуто-отчужденно и настаивал на освобождении физиологии от «крайне вредной» концептуальной зависимости от этой сомнительной дисциплины, то в последние годы он иногда называл себя «психологом-экспериментатором», говорил о том, что субъективный мир – это «первая реальность, с которой сталкивается познающий ум», и о желательности «законного брака» физиологии и психологии в будущем. Конечно, это можно списать на то, что с возрастом люди становятся мудрее и терпимее. Но в его собственных теоретических работах уже в середине 1910-х начали появляться парадоксальные понятия: «рефлекс цели» (по Павлову – «стремление к обладанию определенным раздражающим предметом»[89]), «рефлекс свободы»… В них старое доброе понятие «рефлекс» совершенно расплывалось, теряло свои основные черты – жесткую обусловленность внешним воздействием, привязанность к конкретным нервным путям и центрам и строгую определенность внешнего проявления. В эту же тенденцию ложится и неожиданная в его устах оценка природы орудийной деятельности шимпанзе, высказанная им за три месяца до смерти (см. главу 8). Создается впечатление, что беспокойной и бескомпромиссной мысли Павлова становилось все теснее в рамках рефлекторной парадигмы, что она искала, как выйти за ее пределы, оставаясь в то же время на твердой почве естественнонаучного метода…
Никто уже не скажет, нашел бы Павлов этот выход, проживи он, как совершенно серьезно собирался, до ста лет. Но в феврале 1936 года 86-летний патриарх физиологии внезапно простудился и через несколько дней умер от пневмонии.
За десять дней до его смерти Лоренц в Берлине познакомился с фон Хольстом и окончательно отказался от рефлекторной трактовки поведения.
Мы уделили столько внимания личным взглядам и исканиям Павлова, поскольку он до последних своих дней практически единолично определял теоретические позиции и направление работы своей школы. Но сомнения и способность к критическому осмыслению накапливающихся фактов были присущи не одному только Павлову. В его огромной империи было много разных людей – и среди них немало настоящих ученых.
Еще в первой половине 1930-х годов один из многочисленных учеников Павлова, профессор Петр Анохин, на основании собственных оригинальных исследований приходит к выводу, что в составе нервного аппарата условного рефлекса обязательно имеется некий блок, в котором заложены параметры будущего подкрепления (позже Анохин назвал его «акцептором результата действия»). Это, казалось бы, мелкое частное дополнение к сугубо теоретической, «бумажной» схеме организации условного рефлекса в течение нескольких лет полностью изменило взгляд молодого профессора на организацию физиологических функций и поведения. Уже к 1935 году Анохин сформулировал основные черты собственной концепции. В ней место линейного, однонаправленного, развивающегося строго от воспринимающего «входа» к исполнительному «выходу» рефлекса заняла функциональная система – временный или постоянный коллектив нейронов, производящий сложный синтез сигналов от рецепторов состояния внутренней среды организма (отражающих потребности, преобладающие в данный момент), от органов чувств, от структур хранения памяти, поставляющих информацию о прежнем опыте. В отличие от рефлекса эта система мыслилась активной, «заряженной» действием и требующей его выполнения. Разрешить ей это может появление адекватного стимула («санкционирующей афферентации» в первоначальной терминологии Анохина – оцените параллелизм мысли русского физиолога и австрийского зоолога с его «ключевыми стимулами», разрешающими выполнение поведенческого паттерна). И самое главное – эта система целестремительна, она формируется под определенный результат, имеет внутренний образ этого результата и умеет сравнивать последствия своих действий с этим образом. А в случае несовпадения – повторять и изменять действие.
Конечно же, это был полный разрыв не только с «учением Павлова», но и со всем рефлекторным подходом. Трудно сказать, когда это осознал сам Анохин, – в его ранних работах радикальность разрыва приглушена, а идея функциональной системы представлена как дальнейшее развитие идеи условного рефлекса. Но это в равной мере может быть как искренней иллюзией, психологической защитой от необходимости спорить с великим учителем, так и осознанной предосторожностью. К середине – второй половине 1930-х «единственно верное, подлинно научное, материалистическое учение академика Павлова о высшей нервной деятельности» уже вошло в состав советского идеологического канона. И открытое оппонирование ему (да к тому же с явным привкусом телеологии – что это за «результат», которого еще нет, но образ которого уже существует и формирует систему?!) могло иметь для советского ученого весьма тяжкие последствия.
В течение примерно полутора десятилетий в советской нейрофизиологии параллельно развивались обе этих тенденции. С одной стороны, наиболее креативные и независимо мыслящие исследователи (не только из павловской школы, но и вне ее – такие как фактический создатель нейрофизиологии движения Николай Бернштейн, выдающийся грузинский физиолог Иван Бериташвили и ряд других ученых[90]) напряженно искали пути выхода за пределы рефлекторной парадигмы, ощущавшейся уже как прокрустово ложе. С другой – нарастала догматизация и идеологизация павловского научного наследия. Разумеется, вторая тенденция была во многом результатом влияния официальной идеологии. Однако до поры до времени это влияние выражалось не столько в силовом давлении, сколько в некоем запросе: партийные идеологи ждали от ученых окончательного формирования «павловского учения» именно как составной части идеологического канона и готовы были поощрять тех, кто обеспечит такой «продукт». И запрос не остался без ответа: среди учеников и сотрудников Павлова быстро сложилась плеяда научных начетчиков, главным занятием которых стало своеобразное «павловское богословие»: бесконечное восхваление, подтверждение и комментирование наследия великого физиолога, а также отпор любым попыткам «извращения и ревизии» (читай: развития) его учения. И все это происходило на фоне нарастающей изоляции советской науки от мировой (дополнительно усилившейся в годы войны, но начавшейся задолго до нее и продолжавшейся после ее окончания).
Разумеется, павловская школа не поделилась без остатка на еретиков и начетчиков: желающим заниматься настоящей наукой в рамках ортодоксально-павловских представлений хватало и тем, и возможностей. Собственно, эта категория исследователей и составила мейнстрим павловской школы конца 1930-x – 1940-х годов, ее ведущие представители заняли руководящие посты в основных центрах павловской научной империи. Наиболее видной фигурой этого мейнстрима был академик Леон Орбели – один из ближайших сотрудников Павлова, ставший к концу 1940-х годов директором обоих главных «павловских» научных центров: Физиологического института АН СССР и Института эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности Академии медицинских наук (характерная деталь: оба института носили имя Павлова). Леон Абгарович и его многочисленные сотрудники сделали именно то, к чему безуспешно призывали американскую «сравнительную психологию» ученые школы Нобла: развернули широкие сравнительные исследования процессов научения и пластичности поведения у самых разных животных, представлявших не только все основные классы позвоночных, но и многие типы беспозвоночных. Объектами исследований стали моллюски (головоногие, брюхоногие и даже двустворчатые), членистоногие (ракообразные, паукообразные и, конечно же, насекомые), иглокожие, плоские и кольчатые черви, кишечнополостные и даже простейшие – амебы и инфузории. Оказалось, что всем им присущи способности к тем или иным формам обучения. Несмотря на всю благонамеренность и ортодоксальность исходных установок исследователей, полученные ими результаты тоже с трудом увязывались с классическими представлениями павловской школы: оказывается, обучение возможно не только без коры головного мозга, но и без мозга как такового, без каких-либо выраженных скоплений нервных элементов и даже (в случае простейших) без самой нервной системы. Конечно, реакции амеб и инфузорий никто «условными рефлексами» не называл, а применимость этого понятия к адаптивным изменениям в поведении гидры или морского ежа была предметом довольно жарких споров. Но фундаментальное единство этих феноменов становилось все очевидней. Способность к обучению как таковая оказалась не связанной с обладанием теми или иными конкретными нервными структурами, в ней нельзя было видеть привилегию наиболее высокоразвитых животных[91]. Адаптивно изменять свое поведение в тех или иных пределах могут, как выяснилось, все, у кого вообще есть поведение.
Эти исследования школы Орбели, а также начатые в ее рамках пионерные работы по генетике поведения[92] представляли немалый интерес для мировой науки, органично заполняя возникшую в ней лакуну в этой области. Увы, советская наука все больше выпадала из мирового контекста: работы советских ученых все реже появлялись в зарубежных журналах, а сами они – на международных конгрессах и конференциях. Атмосфера «бдительности» и «поиска врагов» неизбежно подавляла и личные неформальные контакты советских ученых с зарубежными. Новый удар по международным связям нанесла война: исторически русская физиология была наиболее тесно связана именно с немецкой и «выходила в мир» в основном через нее; в советское время эта связь только укрепилась, так как в межвоенные годы из всех великих держав Германия была наиболее дружественной по отношению к СССР. Начавшееся было после войны некоторое восстановление научных контактов (именно в это время в англоязычной научной прессе стали появляться работы ведущих советских ученых – в частности, психолога Александра Лурии, – о которых мы скажем несколько слов в следующей главе) было прервано разразившейся в 1948 году идеологической кампанией против «безродного космополитизма» и «низкопоклонства перед Западом». Дополнительно дискредитировала советскую науку и прошедшая в том же году печально знаменитая сессия ВАСХНИЛа, ознаменовавшая окончательный разгром и запрет в СССР генетики и связанных с нею дисциплин (эволюционной теории, цитологии и т. д.).
Та же судьба ждала вскоре и советскую физиологию. 28 июня – 4 июля 1950 года прошла Павловская сессия – совместная сессия АН и АМН СССР, «посвященная проблемам физиологического учения академика И. П. Павлова» и приуроченная к столетнему юбилею великого физиолога. «Обсуждение проблем» на деле обернулось тотальным осуждением всех живых и мало-мальски плодотворных направлений внутри павловской школы и в смежных с нею областях науки – по тому же инквизиционному сценарию, что и недавняя лысенковская расправа над генетикой. С той только разницей, что если в генетике в качестве «единственно верного» учения насаждалась бессвязная и внутренне противоречивая смесь из обрывков устаревших теорий, средневековых суеверий и собственных фантазий безграмотных «теоретиков», то в физиологии идеологической основой для погрома стало научное наследие настоящего ученого, одного из крупнейших физиологов своего времени – Ивана Петровича Павлова. (Впрочем, верность того или иного ученого этому новоявленному «символу веры» не играла абсолютно никакой роли: ортодоксального павловца Орбели травили и шельмовали даже азартнее, чем еретика Анохина[93].) И если кампанию против генетики и генетиков возглавляли невежественные «самородки» и профессиональные идеологи, то роль палачей физиологии вполне добросовестно и даже с неподдельным энтузиазмом исполнили люди из научной среды[94]. Результат, однако, в обоих случаях был один и тот же: после Павловской сессии серьезные фундаментальные исследования по физиологии и поведению оказались на несколько лет так же невозможны, как серьезные исследования по генетике – после сессии ВАСХНИЛа. Отныне советским ученым (не только в области физиологии высшей нервной деятельности и поведения, но и вообще в физиологии, а также экспериментальной психологии, медицине и т. д. вплоть до животноводства) оставалось лишь бесконечно подтверждать верность взглядов Павлова и Сеченова на все новом и новом материале.
Трудно сказать, что на самом деле думали о сыгранной ими роли сами активисты расправы. Возможно, они (или кто-то из них) искренне полагали, что защищают и берегут светоч истинной науки от нападок извне и изнутри, что без такой защиты он угаснет. На деле его погасили именно их действия: после Павловской сессии школа Павлова фактически перестала существовать и как актуальное направление исследований, и как оригинальная научная школа. Даже накануне сессии советская физиология все еще в какой-то мере оставалась частью мировой: авторитет школы Павлова был так велик (а потребность стагнирующего бихевиоризма в физиологической поддержке и новых идеях – так остра), что какая-то часть публикаций в советских журналах все же переводилась или реферировалась по-английски и таким образом участвовала в мировом научном процессе. Но когда после Павловской сессии советские научные журналы на несколько лет заполнил поток идеологизированного пустословия и шаблонных, повторяющих друг друга работ, западные ученые утратили к ним всякий интерес.






