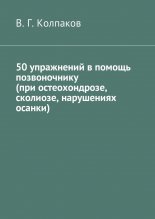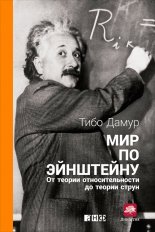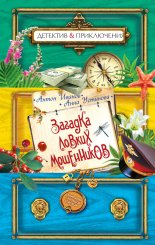Воспоминания незнаменитого. ЧАСТЬ 2. Живу, как можется Гойзман Шимон

Корректор Лилия Шимоновна Гойзман
Редактор Шимон Рувимович Гойзман
© Шимон Гойзман, 2018
ISBN 978-5-4490-0369-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Посвящения и извинения
Вторая книга моих воспоминаний охватывает период с 1955 по начало 1989 года. Если вы в этой книге найдёте строки о себе, и вам сразу захочется сказать: «Нет! Это было не совсем так!» Не спешите! Всё было именно так! Есть, разумеется, в этой книге некоторые нарочито введенные мной неточности, которые продиктованы особенностями выполняемых мной работ в период с 1966 по 1972 годы, их секретностью. Конечно, секретность этих работ уже давно стёрлась временем, но всё равно остались внутренние нравственные ворота, так сказать, внутренняя цензура автора, которая до сих пор не позволяют мне говорить обо всём, что знаю. Поэтому для создания этой книги я привлёк условные литературные приёмы, которые позволяют писать мне о некоторых событиях тех лет на острие грани «правда – художественный вымысел».
Шимон Гойзман
© 2009 Ш. Р. Гойзман. Хайфа
1. Первокурсники
Вот и началась для меня, как выразилась на прощание Алка Симкина, жизнь в эмиграции. Теперь я вокруг себя слышу только русскую речь, правда, какую-то очень уж своеобразную, насыщенную местными, новыми для меня словечками. В первое время, пока не привык, я «кажинный» раз удивлялся, слыша, например, такой диалог двух студентов перед лекцией:
– Глякося, глякося, до нас вроде как физик лындаить.
– Вуоо! Ты что буровишь! Окстись! У нас шшяс аналитика по расписанию?!
В отличие от общеобразовательной школы, нам, будущим математикам, в основном, читали только математические предметы и физику. И хотя был у нас также курс английского языка и, конечно же, обязательный «марксизм-ленинизм» (куда от него денешься?), такой подход к учебе мне нравился! Интересными были и преподаватели! Особенно меня поразили Лидия Михайловна Леонидова и Галина Артемьевна Веселова. Энергичная Лидия Михайловна эмоционально, но с железной логикой, излагала нам курс математического анализа, а по-свойски простая Галина Артемьевна вела по этому же курсу практические занятия (вдобавок ко всему она была и куратором нашей группы, так сказать, нашей классной дамой).
Я, истосковавшийся по новым знаниям, каждый день по утрам спешил в читальный зал института, обкладывался задачниками и до самого вечера, по отработанной годами своей методике освоения математики, решал и решал все задачи подряд сверх всех домашних заданий. Когда же наступила необычно суровая для меня курская зима, я из читального зала института перебрался в читальный зал Областной библиотеки. Напялив на себя сразу две рубашки и наглухо застегнув все пуговицы своего драпового пальтишка, я бежал туда с самого раннего утра, чтобы успеть занять облюбованное мною местечко у печи-голландки. У этой теплой кафельной стенки я просиживал над математикой целыми днями.
А по вечерам – лекции. С интересом присматривался я к своим новым товарищам. С облегчением узнал, что среди студентов-вечерников не оказалось ни одного работающего, тем более, ни одного работника школы. Девочки в нашей группе были в явном большинстве – уже давно утвердилось мнение, что педагог – это сугубо женская профессия. Как ни странно, из восьми парней нашей группы никто, кроме меня, о своем будущем разговоров не заводил, но то, что о педагогической карьере никто всерьез и не мыслил, так это уж было точно! Все мои новые товарищи были такими же, как и я, неудачниками, не сумевшими поступить в дневные ВУЗы. Среди них были даже медалисты, не прошедшие этап собеседования в московских институтах. Я, как неудачник с наиболее солидным стажем, был, наверно, старше всех, и поэтому медленно и тяжело сходился со своими новыми товарищами.
Все окружающие меня студенты, в основном, были выходцами из маленьких районных городишек и сёл Курской области; все, как и я, жили на частных квартирах или у своих городских родственников. Среди сокурсников я выделил невысокого коренастого парнишку из глухой деревушки Тимского района Володю Петрова, который оказался блестящим математиком, несмотря на свою ужасно косноязычную речь. На одном из первых практических занятий Галина Артемьевна вызвала его к доске. Стоя перед аудиторией, Петров чисто случайно запутался в решении, измазался весь мелом и, вдобавок ко всему, провез грязным указательным пальцем под носом, произнеся с забавным местным говором:
– У, шшьорт, не полушшяется!
Когда же через несколько дней Галина Артемьевна, желая вновь вызвать Володю к доске, заявила: «К доске сейчас пойдет, простите, еще не запомнила фамилию, ну, тот, у которого «У, шшьорт, не полушшяется!» (и тут она картинно провезла вытянутым пальчиком над верхней губкой), то эта фраза сразу стала у нас в группе крылатой.
Более-менее я подружился только с высоким и статным Игорем Покидько. Игорь был по натуре очень спокойным и немногословным. Очевидно, поэтому к каждому его слову все окружающие прислушивались внимательно. Стоило ему сказать в сторону Володи Петрова два слова: «Вот, Петрован-хитрован!», как эти слова незамедлительно стали припечатанной кличкой.
И еще буквально прилип ко мне один парень из Рыльска. Он угодливо угощал меня то отличным домашним салом, то прекрасным медом. Но, как я быстро понял, он видел во мне только полезного для себя человечка. Так, приглашая меня к себе домой, он знакомил со мной свою квартирную хозяйку еврейку, так как надеялся, что «ей будет приятно, что я дружу с евреем, – с ухмылкой пояснял он». Я явно почувствовал, что угощая меня домашними продуктами, он тем самым «прикармливал», как говорят рыбаки, дабы потом иметь моральное право «доить» (делать за него чертежи, давать списывать, требовать подсказок). Отвадить от себя людей такого сорта всегда не очень просто. Как осенних мух.
Кроме института, я, разумеется, был еще завсегдатаем большого книжного магазина. Денег на покупку книг у меня просто не хватало, поэтому, бродя часами от прилавка к прилавку, я довольствовался только просмотром новинок литературы. Но у филателистического прилавка кое-какие средства на покупку новых марок я все-таки изыскивал. У того же прилавка я познакомился и с местными филателистами. Побывав у некоторых из них дома, я увидел богатые коллекции марок, а на мой недоуменный вопрос: «Как вам в глухой провинции удается добывать такие редкости?», мне показывали стопки конвертов с заграничными штемпелями: «От зарубежных корреспондентов…». И снова я был повержен в изумление различиями между Украиной и Россией: я, еврей был принят в институт, вот уже три месяца я не слышу в свой адрес ни одной антисемитской выходки, а теперь еще встречаю людей, которые свободно переписываются с заграницей, хотя я твердо уверен, что это запрещено.
Поздно вечером после лекций, возвращаясь на улицу Челюскинцев, я часто заставал дома компанию из трех-четырех третьекурсников литфака, которые, собираясь у гостеприимной четы Афанасьевых, подолгу засиживались за чаепитием и за интересными для меня беседами. Как я вскоре понял, Вова, как и Алла, писал стихи, и к ним на «семейный огонёк» приходили не обремененные семьями друзья-студенты – такие же самодеятельные поэты и прозаики.
Вова и Алла Афанасьевы. 7 ноября 1955 года
Устало плюхнувшись на свою кровать, стоявшую у доброй печки, я невольно слушал стихи Есенина и Ахматовой. Именно тогда я впервые услыхал о существовании таких поэтов, как Николай Гумилев, Марина Цветаева, Максимилиан Волошин. Впрочем, разговоры касались не только особенностей стихосложения, но и задач литературы, ее места в окружающей нас жизни. Среди гостей резкостью суждений выделялась рослая, крепко сколоченная Алла Бархоленко. Рыжие непослушные вихры волос и курносый носик на веснушчатом лице придавали ее облику веселый и озорной вид. Писала Бархоленко преимущественно прозу, причем, судя по всему, весьма серьезную с публицистическим оттенком. Как рассказала мне сестра, рукописная повесть Бархоленко «Путешествие из Костромы в Курск» (название я точно не помню, но оно довольно прозрачно намекало на аналогию с Радищевским «Путешествием из Петербурга в Москву») в прошлом году ходила в институте по рукам и пользовалась весьма большой популярностью. Когда же и я изъявил желание прочесть эту повесть, мне туманно намекнули, что рукопись, к сожалению, попала в поле зрения всесильных органов КГБ1 и, повторяя судьбу повести Радищева, была изъята. Автора же повести вызывали «туда», проводили профилактическую беседу и серьезно предупредили «кое о чем». При этом вызывали туда не только ее, но и ее ближайших друзей. Друзья, в том числе и чета Афанасьевых, об этом предпочитали не очень распространяться; возможно, дали подписку об этом (?).
Под воздействием литературной среды, в которой я неожиданно очутился, решил и я попробовать свои литературные силы. Переполненный последними киевскими впечатлениями о людях Бессарабской «малины», я начал писать рассказ, главным действующим лицом которого был молодой парень, квартирный вор. После освобождения из колонии мой будущий герой вернулся в родной город и неожиданно для самого себя влюбился в девушку из приличного круга. Любовь побудила его отказаться от прежних занятий, идти работать и учиться. Но бывшие дружки, силой завладев его девушкой, совершили над ней групповое надругательство, в результате чего, по замыслу, должна была наступить закономерная трагически страшная развязка.
Рассказ писал я тайно ото всех, мучимый робостью перед окружавшими меня «маститыми» литераторами и неуверенностью в своих литературных способностях. Когда же мои сомненья в себе достигли какого-то предела, я отважился и по секрету показал неоконченный опус Вове Афанасьеву. Тот с интересом прочел его, скупо, но убедительно похвалил и сказал, что у меня есть несомненный литературный дар и рассказ обязательно надо закончить. Затем он посоветовал мне стать участником студенческого литературного кружка, которым руководит профессор Иосиф Маркович Тойбин.
– А меня не погонят? Я же с физмата? – спросил я Вову.
– Об этом не волнуйся. У нас уже есть кружковцы из других факультетов. Вот вчера, помнишь, заходила к нам Рита Бучанская? Так она, например, с инъяза. Пишет стихи и на русском и на немецком языке, переводит немецких поэтов.
И вот в один из субботних вечеров в компании с Аллой и Вовой я таки пришел на этот кружок. Занятия его проходили, оказывается, в кабинете литературы, уже знакомом мне по вступительным экзаменам. К моему удивлению, первым, кого я там увидел, была та самая железная женщина-экзаменатор, принимавшая у нас письменный экзамен по литературе. Меня представили. Железная женщина неожиданно мягко улыбнулась и протянула мне руку:
– Кузько, Ольга Ивановна, хозяйка этого заведения, именуемого литературным кабинетом. Она очертила в воздухе рукой круг, а я, следуя за ее рукой, обвел взглядом это уютное «заведение»: залитые желтым электрическим светом книжные шкафы у стен, портреты разных писателей в простенках, развесистый фикус в бочке у стола Ольги Ивановны, стол для преподавателя и два ряда простеньких столов перед ним.
На этом наша беседа прервалась, не успев начаться, так как аудитория стала быстро наполняться шумными кружковцами. А вот появился, наконец, и сам профессор Тойбин, неся на вытянутой руке старомодный потертый портфель. Любезно поздоровавшись с Ольгой Ивановной, он бросил на стол свой портфель и бодрым тоном спросил у членов кружка:
– Ну, что у нас нового создано за прошедшую неделю?
– Давайте я прочту свое новое стихотворение, – нетерпеливо встал один долговязый прыщавый студент и начал нараспев сладкозвучным тенором читать стихи о своих летних впечатлениях от родной деревни, от тихой речки и от ярких звезд, отражающихся ночью в ее водной глади.
Творение этого студента меня, откровенно говоря, не тронуло, но когда он кончил читать, я был изумлен тем скрупулезным и разносторонним анализом этих стихов, который весьма квалифицированно провели и выступавшие экспромтом один за другим кружковцы и, в заключение, сам Иосиф Маркович. На этом и на нескольких последующих заседаниях литературного кружка я понял, что на литературном поприще не все так просто, как я думал, что писательскому мастерству надо учиться серьезно, не меньше, чем и всякому другому делу. К сожалению, времени на литературную учебу у меня явно не хватало. И я вскоре решительно забросил свой недописанный рассказ в дальний угол и никогда больше к нему не возвращался.
Но вот частым вечерним гостем литературного кабинета я все равно остался. Мне нравились острые разговоры о нашей жизни, которые нередко вели Вова с Ольгой Ивановной за чаепитием с карамельками, нравилось смотреть на шахматные баталии между ними. Ольга Ивановна, к моему удивлению, оказалась довольно сильным шахматным игроком. Попадая в затруднительное положение, она обычно изрекала забавную фразу: «Нда-с, здесь срочно требуется какая-нибудь кардинальная комбинашка!» и начинала нервно барабанить пальцами по столу, после чего делала несколько быстрых ошеломительных ходов, приводящих к неожиданному выигрышу. И, конечно, я часто заглядывал туда просто для того, чтобы «подстрелить» папироску, так как на покупку папирос у меня денег далеко не всегда хватало. В один из таких вечеров Ольга Ивановна, оторвав своё внимание от шахматной доски, как-то сказала мне:
– А ведь я вас помню еще по вступительным экзаменам! Между прочим, в вашем сочинении было много грамматических ошибок, но я все-таки поставила вам тройку: вы были единственным, кто писал сочинение самостоятельно, не списывая.
– Что вы, Ольга Ивановна! Списывал я! Списывал, как и все остальные, – рассмеялся я, чем жестоко разочаровал её.
– Нет. Этого быть не может. Я на экзаменах всегда все вижу.
После этого мне уж ничего не оставалось делать, как поспорить с ней на пачку «Беломора» о том, что я сейчас же, немедленно у нее на глазах спишу из книги какой-нибудь текст:
– Только с условием, что вы, как и на экзаменах, будете спокойно прохаживаться взад-вперед по проходу аудитории.
Многолетний опыт списывания сочинений меня не подвел и пачку папирос, на радость присутствовавшему при сём Вовке Афанасьеву, я таки выиграл!
Незаметно подошли новогодние праздники. Новый 1956 год я весело встречал в компании своих однокурсников на дому у одной из наших студенток – миниатюрной Светочки Харламовой. Сразу следом за праздниками пошла череда зачетов и экзаменов первой в моей жизни экзаменационной сессии, которые я сдал очень даже успешно.
А в середине февраля в Москве, наконец-то, открылся ХХ съезд КПСС, о подготовке к которому назойливо вот уже который месяц с утра до вечера трубило радио, и писали все газеты. Теперь же радио и газеты были заняты только изложением полных отчетов о скучнейших заседаниях съезда. Но вот и съезд завершил свою работу. Несколько дней газеты были наполнены исключительно трафаретными откликами на решения съезда и, возвращаясь в привычное русло жизни, начали, уж было, публиковать обыденную информацию о наших хозяйственных достижениях. Неожиданно в газете «Правда» появилась большая серьезная статья о культе личности Сталина. Газету с этой статьей в институте передавали из рук в руки. Кругом только и слышу: «А вы уже читали?». Вручая мне газету со статьей, пестревшей многочисленными подчеркиваниями и отметками на полях, Ольга Ивановна заинтересованно посмотрела на меня, склонив голову, и многозначительно протянула: «Тоже хотите почитать? Ну-ну…». Затем неизвестно откуда по городу поползли слухи, что статья эта появилась неспроста, что кроме официальных заседаний съезда, было, оказывается, еще одно – «секретное», посвященное именно этой теме! Атмосфера слухов разрядилась лишь после того, как собрали общеинститутское закрытое комсомольское собрание.
Поскольку комсомольцами были, конечно, все студенты без исключения, то актовый зал института был забит до отказа заинтригованными слушателями. В конце зала многие даже стояли в проходах и у стенки за рядами кресел.
Но вот за стоящим на сцене и покрытым традиционной красной скатертью длинным столом деловито расселись парторг института и еще человек пять серьезных партийных работников.
– Товарищи! Мы собрали вас для того, чтобы ознакомить со стенограммой доклада «О культе личности Сталина», зачитанного ХХ съезду КПСС генеральным секретарем КПСС Никитой Сергеевичем Хрущевым на закрытом заседании съезда, – объявил парторг нашего института, помахав перед нами брошюркой в пунцово-красной обложке. – Хотя данный закрытый доклад предназначен только для коммунистов, но по специальному решению Курского обкома КПСС мы доводим его содержание и до комсомольцев-вузовцев. Слово для зачтения доклада представляется секретарю комсомольской организации института товарищу Лузану.
Зал, затаив дыхание, слушал доклад. Впервые вслух о личности Сталина было сказано все, что, в общем-то, и я, и многие другие давно знали или догадывались, но боялись говорить. Меня же больше всего поразили подкрепленные цифрами масштабы репрессий и неуклюжие попытки свалить на одного мертвого вождя все последствия раздутого партией культа личности и другие политические ошибки партии. В связи с этим особенно мне запомнился один кусок стенограммы доклада:
Возглас из зала: А где вы, члены Политбюро, в это время были?
Хрущев: Подымитесь, кто это спросил.
Молчание в зале.
Хрущев: Вот там и мы были!
Чтение доклада продолжалось несколько часов. Чтецы время от времени подменяли друг друга. После завершения чтения доклада, обсуждение которого регламентом нашего собрания не предусматривалось, студенты расходились из актового зала медленно. Всем тем, кто ранее искренне произносил спичи во здравие вождя, стало больно, как идиотам, для которых в момент просветления наступило осознание сущности своей болезни. А тем, кто ранее неискренне произносил спичи во здравие вождя, стало дискомфортно, как людям, публично уличенным в страшной лжи. И многие из них кинулись громко оправдываться: «Ах, мы не знали, ах, мы не подозревали, мы слепо верили вождю и были, как и все, идиотами!». Я был мрачно удовлетворен услышанным и искал в окружавших меня лицах единомышленников. Но таких было, очевидно, мало.
В один из последующих дней весь институт был взбудоражен сообщением о том, что на историко-филологическом факультете без санкции партийного комитета института состоялось общее комсомольское собрание для обсуждения доклада Хрущева. На нем секретарь факультетского комсомольского бюро Николай Рыков, высокий, худощавый студент второкурсник, с глубоко врезанными, фанатично горящими глазами, предложил резолюцию недоверия Коммунистической партии и изъятия из Устава комсомола пункта о руководящей роли КПСС. И общее собрание комсомольцев факультета дружно проголосовало за эту резолюцию! Более того, в принятой резолюции содержалось обращение к комсомольцам других факультетов провести и у себя аналогичные собрания, чтобы выйти от имени комсомольцев всего Курского пединститута с предложением об изменении Устава в Центральные органы комсомола.
Для институтского парторга как сам факт собрания истфила, так и его резолюция были подобны неожиданно разорвавшейся бомбе. Увидев непривычно озабоченные и растерянные лица членов парткома института, мне от души стало весело. И я, воодушевленный идеей поддержки истфиловцев, побежал к комсоргу нашего вечернего отделения: «Давай соберем и мы своих! Поддержим резолюцию! А?». Комсорг вечернего отделения лысый, плотного телосложения, видавший виды мужичок, сразу же остудил мой пыл: «Видишь ли… Наша комсомольская организация здесь полулегальна… Мы все, вечерники, должны, фактически, состоять на учете по месту работы – при этом он многозначительно воздел глаза к потолку, а вся его лысина собралась в морщины. – Так что нам совсем ни к чему высовываться и лишний раз дразнить гусей».
Комсомольцы других факультетов тоже, очевидно, «гусей дразнить» не пожелали. Это позволило парткому института с лихорадочной быстротой решительно взять инициативу в свои руки. Парторг института созвал внеочередное комсомольское собрание истфила с единственным вопросом повестки дня – осуждение антипартийной линии комсорга Рыкова. Каково же было изумление студентов других факультетов, когда собрание истфиловцев после многочасовых бурных обсуждений отказалось идти на поводу у парткома и отклонило предложенную им резолюцию осуждения. В последующие дни партком института, казалось, заседал непрерывно, на его заседания в режиме строгой секретности вызывались на переговоры студенты истфила. Вызывались и поодиночке, и группами. Снова и снова в актовом зале института заседало общее комсомольское собрание истфила. При этом в полуоткрытые двери зала заглядывали и вслушивались любопытные болельщики других факультетов и радостными жестами сообщали стоящим сзади: «В третий раз пересчитывают руки! Молодцы! Не сдаются!».
И мне очень хотелось быть среди тех, кто в зале. Дома я пытал сестру и Вову Афанасьева, как голосовали они. И с удивлением узнал, что они не поддержали Рыкова.
– Да ну его, забубенного, – с усмешкой сказал Вова. – Что толку отделять комсомол от партии? Это у него так… Со страху. Не захотелось ему лично отвечать за всю мерзость, что натворила и творит партия.
– Так ведь разве это плохо? Проводить свою независимую, комсомольскую политику! Отстаивать права молодежи!
– А кто будет проводить пионерскую политику? А кто будет отстаивать права детей из детского садика? – саркастически спросил Вова?
Чем возразить ему, я не нашелся. Ибо он, пожалуй, был прав.
2. Танцуем и поем!
В конце концов, сопротивление «оппортунистов» из истфила все-таки было сломлено. Рыкова, как комсорга, переизбрали, а затем исключили из комсомола, осуждение культа личности Сталина плавно перекочевало куда-то на высший уровень: в центральные газеты и на Всесоюзное радио, привычный всем двойной барельеф «Ленин – Сталин» вскоре был заменен тройным барельефом «Маркс – Энгельс – Ленин», по всей стране прошла волна переименований городов, колхозов, институтов. Помню короткий анекдот тех лет: «Вы слыхали, что Днепропетровский институт стали переименовали в институт лени?» В одну из ночей из Первомайского парка тихо исчезла скульптура Сталина, без лишнего шума переименовали улицу Сталина во Вторую Восточную, из всех официальных кабинетов исчезли портреты Сталина, после чего в Курске воцарился прежний благостный порядок. Тем более что в институте началась подготовка к общеинститутскому смотру художественной самодеятельности.
Были ли до этого в институте подобные смотры самоде-ятельности или это был первый? Не знаю. Но за подготовку к предстоящему общеинститутскому смотру художественной самодеятельности партийная, комсомольская и профсоюзная организации института взялись настолько рьяно, что не пожалели средств на приглашение целой группы специалистов по обучению студентов пению и пляскам – на каждый факультет своих. Теперь наши вечерние лекции все время шли в сопровождении звуков хорового пения и танцевальных мелодий, доносившихся то из актового, то из спортивного залов, то из других больших аудиторий института.
– Может и себе заделать что-нибудь такое-этакое? – задал как-то нам с усмешечкой риторический вопрос Игорь Покидько во время очередного перекура между лекционными «парами». – Споём что ли?
А почему бы и нет? Должна же хоть чем-то веселеньким запомниться всем нам студенческая жизнь! И я, при случае, обратился к нашей классной даме с идеей организации самодеятельности, подобно студентам дневного отделения. Галине Артемьевне эта идея безоговорочно понравилась, но тут же она нахмурилась и крепко призадумалась, как бы просчитывая про себя все варианты ее осуществления:
– Вы же вечерники… Теоретически, вы должны где-то работать, в школах или в детских садиках… Руководитель самодеятельности на вечернем отделении сметой не предусмотрен… Так-так-так, комсомольская и профсоюзная ячейки, однако, у нас существуют… Поговорю с руководством… Может быть, что-нибудь и придумаем.
В один из последующих вечеров Галина Артемьевна подвела ко мне пожилого человека с большими выпуклыми очками, сидевшими на мясистом носу, который явно выдавал в нём моего соплеменника. Человек был одет в уже видавшее виды шикарное пальто из красной кожи, а на его голове сидела сильно потрепанная солдатская шапка-ушанка, резко контрастировавшая с кожаным пальто. Зато на его плече висел красивый и, очевидно, очень дорогой красный аккордеон, выглядывавший из потертой черной холщевой сумки.
– Гуревич, Евгений Савельевич, художественный руководитель самодеятельности и аккордеонист-аккомпаниатор. Или просто худрук, – отрекомендовался он, протягивая мне руку. – А вы, значит, и есть товарищ Гойзман, староста кружка? Сколько у вас человек в хоре? Ах, вы еще не знаете? Учтите, что в смотре самодеятельности главное не то, как поёт хор, а сколько человек поёт! Важен процент охвата! Вы, надеюсь, понимаете? А за результат не беспокойтесь! Ну что ж (тут Евгений Савельевич извлек из кармана пальто затасканный блокнотик и начал внимательно его изучать), давайте начнем работать с ближайшей субботы?!
– Ну что ж, – повторила слова худрука Галина Артемьевна после его ухода. – Будем организовывать?! Евгений Савельевич может быть и не дипломированный специалист, как те из музыкального училища, которых приняли на дневные факультеты, но зато за свою работу он берет меньше. А опыт у него большой: он руководит самодеятельностью чуть ли не во всех организациях города!
– Галина Артемьевна! А с чего это худрук назвал меня старостой кружка? Да и кружка самодеятельности еще нет!
– А вы, Гойзман, что же, еще не знакомы с законом природы, гласящим: «всякая инициатива наказуема»? – хитро улыбнулась Галина Артемьевна. – Вы сами высказали идею, вот теперь и действуйте: сбегайте на вечерний биофак, на вечерний истфил, на вечерний иняз и организуйте людей, сагитируйте!
Отступать было некуда. Пришлось побегать, поагитировать. И тут выяснилось, как ни странно, что у большинства коренных курян патологически отсутствует музыкальный слух. Для меня это было удивительное открытие! И все же ребят с первого и второго курса физмата (вечернее отделение существовало только второй год) мне удалось записать в хор абсолютно всех. Записал их на условии, что петь будут только те, у кого есть слух, а остальные будут только открывать рты для создания массовости. В хор после долгих переговоров записались девочки с иняза, истфила, а вот свои физматовки, кроме нашей Светочки Харламовой и толстушки со второго курса Лили Майоровой, петь отказались наотрез. Но ничего!
За постановку танцев с энтузиазмом взялись Тамара Быстрова и Карина Гудкова – девочки со второго курса физмата. Они же обещали где-то по своим каналам раздобыть и костюмы! С желающими плясать ситуация была противоположная – девочек-плясуний было хоть отбавляй, а мальчиков – ноль. Пришлось всем нам, мальчикам-физматовцам (и мне в том числе), взять обязательство: за один месяц выучиться плясать и протанцевать весь предложенный нашими постановщицами репертуар.
В назначенную субботу появился Евгений Савельевич со своим аккордеоном. Он деловито раздал всем тексты песен, размноженные им под копирку на пишущей машинке, и заявил:
– Петь на смотре будем две песни, а разучивать три (про запас, на случай вызова на «бис»). Одна песня будет о партии, а две другие – русская и украинская народные песни. Такой репертуар безотказно действует на комиссию, успех я вам гарантирую. А разучим мы их быстро – песни простые, но выигрышные. Вот увидите, весь зал нам еще подпевать будет!
На репетициях хора все мы пели с удовольствием, благо, нашелся среди нас и хороший солист-запевала – Виталий Романюк из вечернего истфила, обладатель мягкого красивого тенора. После завершения репетиций хора, мы начали разучивать пляски. Евгений Савельевич и тут не ударил в грязь лицом: казалось, не было такой танцевальной мелодии, которую бы он не знал. Вдобавок ко всему Гуревич отрабатывал с нами даже программу концерта:
– Программа должна быть разнообразной, чтобы не утомить комиссию, – поучал он нас. – Номера должны чередоваться: хор – чтение – пение – пляска – чтение – пение – пляска и так далее.
Весь институт теперь говорил только о предстоящем смотре самодеятельности. В воздухе носился дух соперничества, на репетиции других факультетов мы засылали своих лазутчиков, чтобы выведать чужой репертуар и не исполнять перед смотровой комиссией одни и те же песни и пляски. Зашел и я как-то с этой же целью на репетицию дневного физмата. На сцене актового зала в этот момент разучивали русскую пляску. Даже рядовая репетиция без костюмов меня зачаровала. Особенно меня поразила стройная девушка в первой «ведущей» паре. В ее танце было столько самозабвения и искренней веселости, что у меня аж дух захватило, и невольно во мне начинала в такт плясать каждая жилка! И лицом она показалась мне похожей на кого-то из моих знакомых из детства.
– Ох, и лихо же пляшет, – шепнул я, не удержавшись от восторга, стоявшей рядом незнакомой студентке.
– Ася Гущина, со второго курса, – ответила мне та.
Невольно я стал сравнивать. Наша Томка Быстрова, конечно, тоже плясала здорово, но танец Аси Гущиной отличался от ее танца, как настоящее искусства от ремесленничества. И, вообще, нам так никогда не сплясать!
Долгожданный общеинститутский смотр художественной самодеятельности длился чуть ли не целую неделю: каждый вечер при переполненном актовом зале давал концерт только один из факультетов. Мы по жеребьевке выступали последними, и все нас уверяли, что нам повезло. В авторитетное жюри (в смотровую комиссию), для которого был отведен первый ряд зрительного зала, вошел весь состав парткома, комсомольского и профсоюзного бюро института, а также по одному из представителей каждого факультета из числа молодых преподавателей. Наши интересы в жюри представляла Галина Артемьевна Веселова. Мы, студенты-вечерники, сделали все, чтобы наша программа была самая разнообразная и живая. Я участвовал и в хоре, и пел дуэтом с Романюком украинские песни, и плясал, и даже «художественно» свистел. Короче говоря, выступал чуть ли не во всех жанрах. Только вот стихи не читал.
Но самое главное, чем отличалась наша программа от программ других факультетов, это был конферанс. На концертах всех факультетов конферанс был академическим – просто выходила красивая девочка и звонким, хорошо поставленным голосом объявляла: «Выступает…». У нас же конферанс был парным, то есть рассчитанным на исполнение двумя студентами – серьезным Зачеткиным и шутником (хохмачом, как тогда любили говорить) Шпаргалкиным. Текст – репризы, частушки и прочий литературный хлам – написал я, в роли Зачеткина выступал также я, а на роль хохмача Шпаргалкина нашелся на втором курсе вечернего физмата мой земляк, киевлянин Сёма Коростышевский. Мы с ним были одного роста, но весьма отличались по комплекции: я был ужасно худ, а он, мягко говоря, – полноват; меня считали человеком серьезным, а у него на лице всегда сияла благожелательная улыбка. Написанный мною текст Сёма прочел бегло, одобрил, но учить его наизусть отказался (некогда ему, видите ли!). На сцене он оказался неисправимым импровизатором. В ответ на мои реплики он нес такую грубую, порой вульгарную отсебятину, что я ужасался, а зал, как ни странно, принимал его очень хорошо, и хохотал от души над его хохмами. Хор, как и предсказывал наш мудрый Евгений Савельевич, имел большой успех и спел таки все три песни своего репертуара, хотя петь «на бис» по условиям конкурса было не положено. По окончанию концерта нам устроили настоящую овацию, все нас поздравляли и дружно прочили первое место. Восторженная Галина Артемьевна по секрету шепнула нам, что смотровая комиссия также склоняется к такому решению, но окончательное подведение итогов смотра состоится только завтра.
Назавтра же стало известно, что первое место присуждено биофаку. Об этом нам, в первую очередь, без всяких комментариев сообщила расстроенная Галина Артемьевна. Такое решение стало полной неожиданностью для многих в институте. Позже окольным путем мы узнали, что член жюри, напористая и энергичная представительница биофака, на заседании сумела доказать, что впечатления от выступлений – это субъективное дело каждого слушателя, а вот объективные показатели на биофаке самые высокие: в хоре участвовало на 3 человека больше, чем у всех, число номеров тоже было больше и концерт, соответственно, длился на сколько-то минут дольше. Вот так!
Но, бог с ним, с тем первым местом на смотре, когда на носу уже весенняя экзаменационная сессия! Готовился к зачетам и экзаменам я вместе с Игорем Покидько и, по большей части, у него дома. Его семья занимала две комнаты в коммунальной квартире на первом этаже большого многоэтажного дома, принадлежавшего одному секретному заводу, на котором работал его отец. Кроме семьи Покидько в одной комнате этой квартиры жил веселый заводской электросварщик Володя по кличке «Пятерочка», а еще в одной – дочь какого-то крупного городского начальника. Однако ключ от начальственной комнаты был в распоряжении семьи Покидько, т. к. вышеозначенная дочь была еще малолетней и потому ее «жилплощадь» до времени пустовала. В этой комнате (для обеспечения видимости вселения) стояли плюгавый жидконогий столик, позаимствованный, очевидно, из какой-то общественной столовой, и шикарный кожаный диван, на котором с конспектами лекций в руках и неизменными папиросами в зубах мы с Игорем просиживали целыми днями. Нам никто не мешал, лишь изредка по вечерам наше уединение нарушал сосед, заходивший к нам со своим неизменным предложением: «Ну, что, молодежь? Скинемся на троих по пятерочке?». Предложение «скинуться» по пять рублей, дойти до ближайшего киоска и выпить по 100 грамм водки с «мясным» пирожком на закуску было, конечно, заманчивым, но нам сейчас было не до этого. Мы крепко были привязаны к массивному дивану. Лишь когда неожиданно кончались папиросы, мы отодвигали его от стены и выгребали из простенка накопившиеся там окурки «Беломора» для повторного использования. Когда мы засиживались за учебой допоздна, а это случалось, как правило, накануне каждого экзаменационного дня (студенту всегда не хватает одного дня для подготовки!), я оставался у Игоря ночевать и с комфортом на этом диване спал. Как-то утром в день экзамена по «Основам марксизма-ленинизма» Игорь предложил:
– Сегодня с утра будет крестный ход из Курска в поселок Свободу. Никогда не видал? Малость не доходя до Свободы, когда-то был монастырь «Коренная пустынь». Теперь от него осталась небольшая церквуха. Вот туда-то и понесут чудотворную икону. Не сходить ли нам посмотреть ее вынос? Любопытное зрелище. Не пожалеешь. Это все тот же самый крестный ход, что когда-то Репин рисовал.
– Картину когда-то видел, но забыл уж. А далеко это? – спросил я, соглашаясь. – Экзамен у нас ведь в час дня. Не опоздаем?
– Успеем! На трамвайчике в Ямскую слободу спустимся, а там шага два пройдем до Введенской церкви. Вынос посмотрим и все. Заодно мозги перед экзаменом проветрим!
Когда мы подошли к невзрачной Введенской церкви, то на площади возле узеньких ворот, встроенных в массивную церковную ограду уже собралась внушительная толпа верующих, терпеливо ожидавших торжественный вынос чудотворной иконы. В стороне от толпы стояла группа всадников – конная милиция в добротных синих шинелях. Мы нашли себе удобное место на пригорке и начали терпеливо ждать. Утро было холодное и хмурое, меня стала пронимать зябкая дрожь. Но вот воротца в церковной ограде приоткрылись, и все верующие кинулись в узкий проём. Образовалась свалка. Милицейские конники безучастно смотрели на давку, неподвижные, как изваяния. Воротца с трудом захлопнули, и какие-то вышедшие из церкви попы начали уговаривать людей образовать проход. Безуспешные попытки выноса иконы были предприняты еще несколько раз. Наконец мы увидели, как ворота раскрылись, но в них показалась не икона, а шеренга молодых жлобов, кулаками прокладывавших через толпу дорогу для второй шеренги таких же здоровяков, несших на плечах грубо сколоченные массивные носилки с иконой.
Мне, конечно, неоднократно приходилось видеть на улицах городов увечных стариков и старух, слепых, одноногих. Но здесь я был поражен именно количеством собравшихся в одном месте калек в страшных лохмотьях. Все они исступленно рвались к иконе, их в кровь били кулаками, а они висли на окровавленных кулаках и целовали их!
Милиция продолжала безмолвствовать. На Игоря это зрелище вообще произвело страшное впечатление: он весь изогнулся и содрогался в приступах рвоты. Поразительно, но забытая мною картина Репина вдруг вспомнилась мне очень отчетливо – лица калек были теми же самыми!
Но вот головная группа колонны крестного хода с иконой на носилках, оторвавшись от восторженной толпы, побежала по грунтовой дороге в сторону посёлка Свобода. Прихожане, вздымая тучи пыли, кинулись ее догонять, а мы поспешили скорее в институт сдавать экзамен по марксистской философии.
Впрочем, экзамен по нелюбимому марксизму я сдал успешно. И вот, не менее успешно сдав и все последующие экзамены весенней сессии, я стал уже второкурсником!
3. В поисках романтиков
Еще во время нашей весенней экзаменационной сессии на всю страну был брошен настойчивый клич партии: «Комсомол, помоги целинникам собрать невиданный урожай!» Призыв новых добровольцев меня сильно озадачил: надо же – столько людей туда уехало, а не справляются? Вспомнилось мне начало 1954 года, когда многие городские мальчики и девочки добровольно под жужжаньем кинокамер записывались добровольцами на целину. Не задумываясь над вопросом «Зачем поднимать целину?», мы с Аликом безуспешно пытались понять: что движет теми, кто решил ехать? Высокая коммунистическая сознательность (партия сказала – комсомол ответил: «Есть!»)? Желание заработать большие деньги? Или просто жажда перемен в жизни, поиски романтики и приключений? Ни я – рабочий, ни Алик – студент, и ни один из знакомых нашего круга поднимать целину не собирался, и мы больше склонялись к тому, что есть все же в нашей стране романтики, желающие сделать что-то такое, чтобы оставить после себя след в истории. Вспомнилось мне и весна того же года, когда в Москве мы с Софой пошли в кинотеатр «Художественный» на Арбате. Перед началом фильма нам долго крутили устаревшие киножурналы и, в том числе, мартовскую кинохронику торжественных проводов первых московских целинников в Кремле. Помню, как Председатель правительства Маленков со снисходительной улыбкой предоставил слово явно подвыпившему Никите Хрущеву. Генеральный секретарь КПСС на фоне дикторского текста долго шевелил губами и, когда диктор выдохся, мы услыхали только концовку пространной речи Хрущева с напутственными словами, явно позаимствованными из библии: «Подымайте целину, бросайте там свои корни, плодитесь и размножайтесь!» Самые сознательные, допущенные в Кремлевский зал комсомольцы весело и искренне смеялись и аплодировали… Так где же эти добровольцы сейчас и зачем им понадобилась помощь всего комсомола страны?
И тут я, движимый желанием посмотреть на целину и настоящих высокосознательных комсомольцев или на загадочных романтиков, решил ехать. Не знаю уж, как агитировали ехать на целину студентов дневного отделения, но мы, физматовцы-вечерники, которые вообще не должны были ехать на уборку урожая, вызвались ехать на целину абсолютно добровольно и, практически, все. А из физматовок-вечерниц нашего потока поехала только Светочка Харламова, да студентки старшего, теперь уже третьего курса. Чем объяснить такой неожиданный энтузиазм вечерников? Быть может, просто многие искали увесистый повод, чтобы хоть на время оторваться из-под докучливой опеки своих родителей?
Курский комсомол, слава богу, обошелся без торжественных речей. В горкоме всем записавшимся вручили комсомольские путевки на целину, пожали руку и вручили деньги «на дорожные расходы». После этого я молниеносно съездил домой в Киев. Съездил только для того, чтобы объявить родителям о предстоящей поездке на целину и собраться в дальнюю дорогу. Родители поняли меня с полуслова: «Раз надо, так надо!» Папа по случаю окончания первого курса подарил мне первые в моей жизни часы марки «Москва» со светящимися цифрами на черном циферблате! Я же приобрел себе добротный туристский рюкзак (выбирали вместе с Аликом, который в рюкзаках знал толк!), уложил в него старую телогрейку, кое-какое бельишко и обязательный фотоаппарат ФЭД с солидным запасом фотопленок и немедленно вернулся в Курск.
И вот 19 июля 1956 года в яркий солнечный день мы с Игорем бежим, обливаясь потом, по железнодорожным путям. Бежим к дальнему заброшенному перрону, сохранившемуся от старого довоенного вокзала, где нас уже ожидает длинный железнодорожный эшелон для «целинников». Эшелон этот был составлен из чудом сохранившихся, наверно, со времен последней войны, товарных вагонов. На их ржаво-коричневых боках мелом были крупно написаны порядковые номера. Для нас, студентов пединститута, были предоставлены четыре последних вагона: три – для девочек, а четвертый (26-й, хвостовой) вагон – для мальчиков. В товарных вагонах между дверями, с неприятным скрипом катавшихся вдоль боковых стен, был своеобразный общий салон, а спереди и сзади этого салона были сооружены двухэтажные деревянные нары, на которых уже лежали матрацы, застеленные белыми простынями. Ребята-вечерники заняли верхние нары, при этом мне удалось захватить самое лучшее место – у стенки возле маленького оконца. Рядом со мной – матрац Игоря Покидько. Ожидая подачи паровоза, мы, мальчики, стояли возле своего вагона и степенно курили. Наши девочки, одетые все, как на подбор, в неуклюжие спортивные шаровары линялых расцветок, трогательно прощались у своих вагонов с родителями, выслушивая их последние наставления. Только лишь далеко после полудня наш эшелон, наконец, тронулся, оставив на перроне многочисленную толпу машущих нам в след взволнованных мам и пап.
Едем! В вагонах царит всеобщее веселье, веселье вырвавшихся на свободу детей. Поезд идет неспешно, с частыми остановками «у каждого столба». Во время этих остановок мы часто перебегали в ближайший девичий вагон, в котором уютно разместились студентки-физматовки. Вечером Светочка Харламова и Лилька Майорова, которую Игорь окрестил кличкой «Лилёчек-Колобочек», пригласили меня и Игоря остаться в женском вагоне на ужин. Нас щедро угощали домашними припасами, баловали чайком из термосов. По окончанию трапезы пели песни. Сначала под звон гитары пели веселые и бравурные песни, в том числе и мою «Бегут вагончики по перегончикам на целину, где рос ковыль…» Эту песню я написал на мотив никому неизвестной в Курске туристской песни, слышанной мною как-то от Алика. Потом, как водится, плавно перешли на грустные русские и украинские песни. Пели с настроением, обняв друг друга. Устав сидеть, Игорь поудобнее улегся на колени Светочки, а я, незаметно для себя, оказался на коленях у Лилёчка-Колобочка. Обняв меня, Лилька пела с большим чувством, покачиваясь из стороны в сторону. Она навалилась на меня так, что ее груди в такт песне все время щекотали мой нос.
Стало очень душно и я, освободившись от объятий Майоровой, подошел к открытому настежь дверному проему. В нём, облокотившись на деревянную перекладину, стояли, подставив лица встречному ветру и вглядываясь в черную ночь, какие-то девочки. Найдя для себя свободное местечко у перекладины, я обнаружил, что рядом со мной стоит Ася Гущина – та самая плясунья с физмата. Разговорились, незаметно познакомились, да так и проболтали всю ночь, пока не въехали рано утром на станцию Воронеж. Там нас всех организовано повели на бесплатный завтрак в солдатскую столовую. Лишь после этого я добрался, наконец, до своего матраца и заснул крепким сном.
Разбудили меня громкие крики: «На обед! Стройся!» Это была станция Мичуринск. После плотного завтрака в очередной солдатской столовой и длительной стоянки, растянувшейся чуть ли не до вечера, наш эшелон развернули задом наперёд и прицепили к нашему вагону, ставшему теперь уже головным, еще четыре. Теперь наш 26-й вагон стал пятым, и поезд стремительно полетел, как с непривычки мне казалось, в другую сторону через какой-то нескончаемый, сказочной красоты лес.
Как мы позже узнали, прицепили к нам тульских шахтеров. В отличие от безденежной студенческой молодежи, богатенькие шахтеры, очевидно, запаслись изрядным количеством водки, ибо, несмотря на грохот колес, из ближайшего тульского вагона хорошо слышалось нестройное пьяное пение и отборная матерщина. Вечером началась непонятная беготня по крыше нашего вагона, а на ближайшей станции девочки из соседнего вагона пожаловались, что к ним прямо на ходу поезда в люк какие-то пьяные мужики заглядывают. И все ребята единодушно решили установить ночные дежурства во всех четырех вагонах с нашими студентками. Мы с Игорем, конечно, снова оказались в соседнем вагоне, в котором ехали все физматовки, а также наши вечерницы. Впрочем, оказалось, что в том же вагоне были и две студентки из музыкального училища. Одну из них, полную и круглолицую, Ася представила мне, как свою старшую сестру Людмилу. После знакомства со мной сестра деликатно удалилась и пошла спать. И снова мы с Асей стояли всю ночь напролёт, опершись на перекладину в открытом настежь дверном проёме. Пели, болтали, болтали и пели.
До своего матраца на верхних нарах я добрался лишь на рассвете и снова, не успев как следует выспаться, проснулся на этот раз от громкого пения. В центре салона Сема Коростышевский самозабвенно отплясывал цыганочку, Петька Кострыкин (студент с дневного физмата) разухабисто играл на гитаре, а все ребята, кто был в вагоне, громко подпевали: «Эх, раз, еще раз, еще много-много раз…». Всем было ужасно весело: Семка, оказывается, на спор решил плясать до самой остановки поезда в Саратове! И он пари таки выиграл! Выиграл досрочно, так как Петька уморился играть, а зрители – петь.
После Саратова потянулась безжизненная равнина без признаков какого-либо жилья. Всем взгрустнулось. Лишь к вечеру, когда я снова оказался в женском вагоне рядом с Асей, мы увидели первых живых казахов: пожилой казах со своей женой сидели на двугорбом верблюде. Все трое, оцепенев, как изваяние, безучастно смотрели на едущий мимо них эшелон со студентами. Затем в проплывавшем мимо нас пейзаже произошли, наконец, изменения – появились предгорья, а затем и невысокие горы Южного Урала. Далее начиналась уже Азия. Глубокой ночью мы остановились в Орске. Все станционные пути были забиты бесконечными рядами товарных вагонов и цистерн. Рядом с нашим вагоном стояли открытые платформы с металлическими прутьями. И я, и Ася с удивлением обратили внимание на наших соседей-туляков, которые зачем-то, забравшись на эти платформы, воровали прутья. И снова мы без конца говорили о чем-то, пели и разошлись лишь на рассвете.
Я успел уже впасть в глубокий сон, как вдруг проснулся от страшного удара в лоб. Ничего не понимая, быстро сел, спустя ноги вниз с нар, и оглянулся по сторонам. В залитый утренним солнцем, открытый настежь дверной проем вагона слышались крики, летели камни; под градом камней дощатые стены нашего вагона аж трещали. Ребята в ответ, с молчаливым ожесточением, метали в кого-то пустые бутылки, которые через противоположную открытую дверь мужественно подносили девочки из соседних вагонов. Мои нары пустовали. Только на матраце у противоположной стенки, лежа на животе, стонал Сёма Коростышевский. Штаны его были приспущены, а толстая задница была кое-как перевязана окровавленной тряпкой. Внизу в «салоне» невозмутимо брился щуплый Левка Шляхов. Он лишь изредка пышно матерился, поправляя зеркальце после каждого удара камнем по чемодану, на котором оно стояло, как на импровизированном столе. Передо мной на мгновенье появилась голова Игоря, который отрывисто пояснил мне: «Туляки на нас напали!»… Во сне я, очевидно, прижался лбом к тонкой дощатой стенке вагона и именно в это место снаружи попал камень. От этого удара голова гудела как колокол. Вдруг с криками «Ура!» вооруженные стальными прутьями туляки полезли в наши двери. Игорь, вынырнув из-за края двери, столкнул ногой одного из них вниз, а рослый физматовец, стоявший у другого края двери с авоськой, наполненной пустыми бутылками в поднятых руках, уговаривал другого лезущего: «Уйди, а то убью!». Но шахтер все-таки взобрался в вагон и тут же рухнул на землю с разбитой головой под ударом авоськи с бутылками. В этот момент наш эшелон сильно дернулся, раздался лязг буферов и я понял, что мы медленно тронулись в дальнейший путь. Через верхнее окошко успел прочесть вывеску на вокзальчике: «Станция Аман-Карагай» и увидел бегущих шахтеров, которые, не выпуская из рук прутьев, догоняли свои вагоны. Мы же немедленно принялись восстанавливать порядок в «салоне», наводить чистоту, выметая из вагона в проносящуюся мимо бескрайнюю степь битое стекло и другой военный мусор. Все неиспользованные бутылки и залетевшие в вагон камни мы собирали и складывали в аккуратные пирамидки: ведь на следующей станции бой, безусловно, возобновится. Нервное возбуждение не спадало, все пересказывали друг другу подробности драки, которую я так бессовестно проспал.
Неожиданно мы услышали удары по крыше вагона и последовавший за этим топот шагов над головой. Все насторожились, некоторые схватились за бутылки, но сквозь грохот колес идущего поезда мы услыхали крик:
– Можно к вам? Мы для переговоров.
– Ну, заходите, – крикнул в ответ кто-то из наших и в вагон с крыши по скобам опустились два тульских парламентера.
– В вашем вагоне есть кто старший? – спросил седоватый мужик, одетый в простенький двубортный костюм, к которому был приколот какой-то орден. – Я представитель Тульского обкома партии и со мной комсорг шахты…
Парламентёр представлялся спокойным и таким тихим голосом, так что ни его фамилии, ни названия шахты, где работает комсорг, я даже не расслышал.
– Ну, я старший, – нехотя поднялся с нижних нар моложавый мужчина неопределенного возраста, одетый в дорогой синий спортивный тренировочный костюм. – Представитель Курского обкома комсомола Владимир Тарасов.
На этого моложавого «студента» я и раньше обращал внимание, но считал его каким-нибудь старшекурсником с истфила, ибо в пути он все своё время коротал только с комсоргом истфила и его другом: вместе ели, вместе пили. А оказалось вот оно что! И сюда от начальства к нам «недреманное око» было приставлено!
– Тут наши и ваши ребята погорячились маленько и передрались.
– Это ваши первыми начали! – закричали наперебой все вокруг. – Ударили одного из наших доской с гвоздями. Сёмка, покажи свою жопу!
– Не надо, ребята, не надо шуметь. У нас тоже есть пострадавшие. Одного человека с пробитой головой мы оставили в медпункте Аман-Карагая. Но мы хотим это все уладить миром, без шума, без милиции и без протоколов. Ведь мы все сознательные комсомольцы…
– Я вас понял, – важно произнес Тарасов. – Проведу соответствующую работу. Ну и вы там у себя…
После благополучного завершения мирных переговоров делегаты из Тулы бесстрашно полезли по скобам наружной стенки вагона на крышу и попрыгали восвояси. А мы стали тревожно ждать следующей станции. Что будет?
– Мда… Все безобразия начались в Азии… – процитировал Игорь слова из моей песенки. – Ну и язык же у тебя, Семка, суконный: как ляпнешь, так и в точку!
Кровавая драка наложила на всех свой отпечаток. Мы стали старше и серьёзнее. И веселую песенку про вагончики, бегущие по перегончикам, больше никто никогда не пел. Вдруг нам показалось, что бег нашего эшелона начал вроде бы замедляться. Выглянув в дверной проем, мы с удивлением обнаружили, что наш вагон стал первым. Более того, перед нашим вагоном нет тепловоза! Тепловоз с четырьмя «тульскими» вагонами мы увидели далеко впереди, удаляющимися от нас на большой скорости, а все оставшиеся вагоны нашего эшелона просто катятся сами по себе. Так по инерции мы катились еще достаточно долго, пока бесшумно не въехали на маленькую пустынную станцию и тихо без толчков остановились. Через несколько путей от нас мы тут же увидели знакомые нам четыре вагона с туляками. Двери всех вагонов были задраены и вокруг них прогуливались солдаты КГБ в синей форме с автоматами наперевес. Стояла необычная тишина. Некоторые шахтеры с верхних нар грустно смотрели на нас через открытые верхние люки. Так-так-так… Значит комсомол – комсомолом, а КГБ по своим каналам о тёплой комсомольской встрече на станции Аман-Карагай уже всё прознал и распорядился, как положено.
Против обыкновения, на этой станции мы долго не задержались. К нашему эшелону быстро подцепили свежий паровоз и вскоре мы на всех парах, от греха подальше, двинулись дальше на восток по бесконечным казахским степям навстречу с манящей романтикой. Больше этих туляков мы никогда так и не видали. Лишь краем уха, когда в наш совхоз вдруг пожаловали следователи, я узнал, что тот шахтер, который остался в Аман-Карагае, умер. Следователи, как-то без особого рвения, пытались узнать: кто же из нас конкретно нанес шахтеру смертельное ранение? Но никто того рослого физматовца с орудием убийства в виде авоськи с бутылками не выдал. Вот что значит высокая комсомольская сознательность!
4. Целина
По прибытии в Акмолинск выяснилось, что нас, студентов Пединститута и электромеханического техникума, определили в зерносовхоз «Калининский». Добирались мы до него очень сложно. Сначала наш эшелон поехал назад до станции Атбасар, а там мы пересели на армейские грузовые машины, открытые кузова которых были устланы соломой, и долго ехали, весело глотая густую пыль разбитых целинных дорог. Позднее мы выяснили, что в 50 километрах от нас есть железнодорожная станция Джаксы, мимо которой мы уже проезжали на поезде. Но это было позднее.
Центральная усадьба зерносовхоза представляла собой широкую, хорошо спланированную улицу из двадцати или тридцати рассчитанных на две семьи одноэтажных домов. В начале улицы находилась площадь с конторой зерносовхоза. Возле конторы мы побросали в кучу все наши рюкзаки и чемоданы, затем прихватив фотоаппарат, мы с Асей и другими девочками побрели осматривать местные достопримечательности. Рядом с конторой стояли отдельные домики: столовая, магазинчик и медицинское заведение под названием «Медпункт». Напротив конторы – два солидных кирпичных корпуса заводского типа. Заглянув туда, я неожиданно увидел милые моему сердцу токарные станки и прочее заводское оборудование. На улице тихо, ни души. Оно и понятно – стариков и старух, сидящих обычно на лавочках перед деревенскими домами, в молодежном совхозе нет, а все бывшие комсомольцы-добровольцы, конечно, на работе. Традиционных кур и петухов, разгуливающих обычно по сельским улицам, тоже не было. Кому за ними ухаживать? В противоположном конце улицы находился небольшой домик с вывеской «Молокозавод» и парк культуры. Вход в парк культуры обозначался двумя деревянными столбами с натянутым на них красным полотнищем, на котором белыми буквами был начертан лозунг «ПРИВЕТ ТРУЖЕННИКАМ СОВХОЗА». Сразу за столбами мы увидели хорошо утоптанную танцевальную площадку, а за ней – несколько десятков низкорослых корявых березок. А далее за парком, куда не кинь взгляд, лежало плоское, как блин, тянущееся до самого горизонта поле с непривычно низкорослой пшеницей. Лилёчек-Колобочек сразу же попросила меня сфотографировать всех девочек-вечерниц на память у входа в парк, а Асе я предложил сфотографироваться возле березок.
Наконец перед нами, устало рассевшимися на своих рюкзаках и чемоданах, выступил высокий ярко-рыжий еврей, который представился, как главный инженер зерносовхоза Иванов. Лицо его мне показалось очень знакомым. Где я мог его видеть? Между тем, этот Иванов вкратце охарактеризовал свой зерносовхоз, как самый крупный и самый передовой во всей Акмолинской области. Он с гордостью доложил нам, что совхоз основали киевские и донецкие комсомольцы, что ширина земли, занятой совхозом, 14 километров, а длина – 55 километров, что только у них есть такие солидные мастерские по ремонту техники (взмах рукой в сторону заводских корпусов), такое количество домов (взмах рукой вдоль улицы). А в завершение своей речи он сообщил, что питаться мы будем там (взмах рукой в сторону столовой), папиросы и всякие, там, помады покупать – там (взмах рукой в сторону магазинчика), а жить будем на квартирах целинников (взмах рукой куда-то в небо) по два – три человека на семью.
– А теперь заходите по очереди в контору, где каждый из вас получит аванс 100 рублей. Такой аванс вы будете получать здесь раз в 10 дней, чтобы вам было чем расплачиваться в столовой и в магазине.
Вскоре выяснилось, что в совхозе на всю нашу ораву семей не хватит, и студентов-вечерников Пединститута и студентов электромеханического техникума поселят в палатках на первом отделении совхоза, которое находится рядом, всего в 18 километрах от Центральной усадьбы.
После сытного столовского то ли обеда то ли ужина я помог Асе и Людмиле, которую Ася смешно называла Лютиком, донести вещи до домика, в котором им предстояло жить. Затем, с сожалением расставшись с Асей, примкнул я к своим товарищам, которые уже грузили в кузов армейского грузовика матрацы и матерчатые тюки с комплектами военных шестиместных палаток. И снова в путь-дорогу.
Уже в сумерках нас привезли на нужное место: ряд из трех или четырех утлых казахских домишек с плоскими крышами, на которых густо росли какие-то высокие травы, высокий и длинный стог сена, вдали – смутно виднеющиеся длинные строения, очевидно, амбары. И больше ничего.
Под руководством опытных солдат-шоферов, которые с явным удовольствием заигрывали с нашими девчонками, мы быстро научились устанавливать палатки. Установили палатки и себе, и девочкам, закинули в палатки вещи, расстелили казенные матрацы и тут же повалились в мертвецком сне.
В первые дни нас ежедневно возили работать на Центральную усадьбу. Заезжали за нами одни и те же шофера-солдаты, с которыми мы все быстро перезнакомились. Оказывается, их вместе со своими автомашинами прикомандировали сюда на все время уборки урожая. Новенькие грузовые машины с высокими бортами нам, ребятам, показались необычными и солдаты, удовлетворяя наше любопытство, с гордостью пояснили, что это американские «Студебеккеры», которые попали в страну еще во время войны по «Ленд-лизу»: «С тех самых пор так и ходят. Хоть бы что, без всякого ремонта»!
Каждое утро солдаты лихо осаживали свои студебеккеры у входа в столовую и мы высыпались из кузовов, спеша поскорее занять очередь «к заветной стойке». Потом на этих же студебеккерах нас везли в поле на прополку (совершенно не нужная работа!). Там я неизменно, конечно, оказывался рядом с Асей. Затем на студебеккерах же – на обед в столовую. Впрочем, скоро стало ясно, что ста рублей на десять дней явно не хватает. А когда перед самым вторым авансом денег на обеды у меня совсем не стало, Ася выручила: пригласила меня к себе и сытно накормила гречневой кашей с молоком. Ася и Лютик оказались опытными в хозяйственных тратах, и вместо хождения в столовую готовили себе еду дома, покупая продукты в магазине и на молокозаводе. Жили они на квартире у молодой хохлушки, которая сидела дома с годовалым, непрерывно истошно орущим Колэсыком.
– А вы ж из якых мисць будэтэ? – полюбопытствовал я, переходя на украинский язык.
– Мы з Черниговской области, – охотно ответила мне хозяйка, кормя манной кашей своего Колэсыка.
– Так вы не из первоцелинников?
– Та не… Ти первые, воны горожане булы. Писля первого же урожаю уси уйихалы. Од первоцелинников осталось только одно начальство (бо воны партейные!) да Володька-тракторист, шчо вон биля дорогы пьяный спыть. А мы сэляне. Мы до земли привычные.
– А чего же вы сюда приехали, – не унимался я. – Или в вашем черниговском колхозе работы не было?