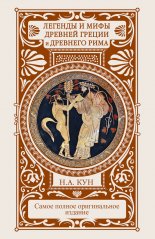Яблоко от яблони Злобин Алексей
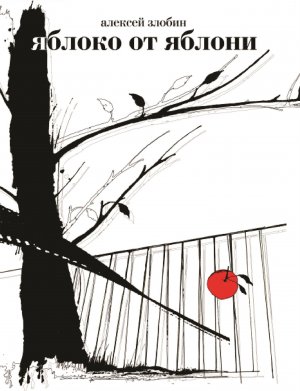
– Понятно. Пожалуйста, побыстрее, хорошо?
– Хорошо.
Опять паузы между репликами – да в чем дело-то? Надо звать Германа, пусть сам увидит этот паноптикум.
– Ждем Алексея Юрьевича, перерыв.
Приходит Герман:
– Так, повторите текст.
Альгис повторил.
Беанас повторил.
– Теперь произносите его в диалоге.
Оба пулеметно барабанят диалог.
– Ну и в чем проблема? Давайте снимать. Внимание, начали!
Беанас сказал, Альгис молчит, Альгис сказал – Беанас молчит.
А я смотрю со стороны, и вдруг до меня доходит:
– Алексей Юрьевич, – шепчу Герману, – они переводят.
– Что?
– Переводят! Когда просто текст повторить – пожалуйста – механическая задача. А играть не могут, потому что в обстоятельствах существуют, такая литовская лесная органика, понимаете?
– Нет.
– Альгис Беаносу по-русски говорит, так?
– Ну?
– И Беанас, прежде чем ответить, переводит реплику Альгиса на литовский. Потом с литовского переводит свой ответ и только тогда произносит по-русски – от этого такие паузы. У них обоих ситуация общения литовца с русским.
– Но они же произносили текст.
– Да, но не во взаимодействии друг с другом, а просто реплики, по очереди.
– И что же делать? Отправлять их на хрен в Литву или учить русскому?
– Пусть играют по-литовски.
– Играйте по-литовски, можете?
– Да.
– Начали!
Сцена пошла. А Герман выгоняет меня из-за монитора:
– Не пялься в телик, режиссер должен глазами смотреть на живых артистов! Валерка, змей, приучил меня к монитору, теперь сижу как за углом.
До встречи с Валерием Мартыновым Герман не признавал монитор:
– Ты, Валера, отвечаешь за изображение, вот и отвечай. А я буду смотреть, как работают артисты, понял?
А Валерий Мартынов, сняв десяток картин в Европе, уже забыл, что такое стоящий рядом с камерой режиссер.
– Алексей Юрьевич, это же удобно, вы сразу видите готовый результат.
– Меня не интересует готовый результат, мне важно видеть их живые глаза.
– Пожалуйста, не хотите смотреть в монитор – не смотрите.
– И не буду, я не собираюсь делить с тобой ответственность за изображение, а то ты, как пугливая еврейская старуха, потом будешь говорить: вы же видели, вы же видели.
– Ну хорошо, – смеется Валера, – пусть я пугливая еврейская старуха, но монитор все равно оставьте, я по нему проверяю снятое.
– Это пожалуйста, сколько тебе угодно.
Но Валера перехитрил Германа: тот, когда приходил на площадку, садился в кресло, Валера как бы между прочим ставил перед ним монитор.
– Убери его на хрен!
– Но пока идет репетиция, он же вам не мешает?
– Хорошо, оставь, посмотрю пока, подумаю.
И Герман потихоньку втянулся, да и в кресле сидеть удобнее, – привык к монитору. Но все равно не воспринимал его как монитор. Просматриваем запись только что снятого дубля, Герман кричит:
– Левее, правее, опусти глаза, не корчи рожу, отвернись!
И страшно злится, что запись его не слушается. Парадокс примерно как с переводом у литовцев.
Обычно монитор нужен режиссеру для дистанцирования, чтобы выйти из непосредственного поля сцены и видеть происходящее отстраненно, объективно. Коппола, говорят, на съемках в режиссерском вагончике в ванной лежит, перед ним монитор, а в руках рация – ему важно удалиться, видеть результат происходящего. А Герман даже перед монитором жил внутри сцены и гонял режиссеров смотреть в живые глаза артистов.
Литовцы сыграли по-литовски. Обоих утвердили на выразительные эпизоды без слов.
А меня в гостинице «Выборгская» ждал еще один литовец, и Ильи Макарова уже не было рядом, а неизвестный Оленников пока не приехал – плечи сгибались под тяжестью выросших крыльев.
Полдня мы разучивали монолог, а на следующее утро, 3 октября, назначена проба.
За павильонами огромная бочка, по глиняному желобу в нее течет вода, на земле, прислонясь к бочке, сидит литовец в синюшном гриме средневекового алкаша. Перед ним расхаживает Александр Лыков в костюме Руматы, пьет из кожаного меха, рядом бегает в вязаной кофте режиссер Владимир Михельсон, то попадая в капкан, то натыкаясь на какой-нибудь диковинный самострел или прибор для измерения неизвестно чего, – герои фильма прибыли в гости к старику Кабани, инопланетному Леонардо да Винчи, изобретшему самогонный аппарат.
Литовец пьяно улыбается, медленно произносит русский текст, группа, поеживаясь на октябрьском холоде, ждет, когда «этот Злобин» закончит всех мучить.
Я не тороплюсь, хорошо помню слова Кармалиты после решающей неудачной пробы:
– Ты уверен, что снял, как хотел?
Я уверен, что снимаю не то и не так: вместо правды «правдешка» какая-то, чешская сказка, нет ни нерва, ни настроения – дубль за дублем, на износ, и сам уже посинел от холода.
В паузах рабочие вычерпывают из наполненной бочки воду, и мы начинаем по новой. А вода течет из шланга, одинаковая, как наши дубли.
Я решаю взять измором: дубль без остановки, еще дубль, еще, еще. Литовский актер уже «заездил» текст, ничего не меняет и не реагирует на мои задачи – замерз.
– Еще дубль, внимание, начали!
Снова пьет из кожаного меха Румата, попадает в капкан Михельсон и вяло бормочет литовец. За монитором уснул Валерий Мартынов. Я сверлю литовца безумным взором, надеюсь высечь из прохладных его глаз хоть искру жизни.
И вдруг посреди реплики он вопит, потом хохочет.
«Свихнулся, что ли!» – в испуге думаю я и кричу, увидев хлынувшую в кадр удачу:
– Не останавливаться, продолжаем!
Из переполненной бочки за шиворот артисту льется вода, он ежится, трясется, хохочет, но играет.
Просыпается Мартынов, глядит в монитор, ничего не понимает – воду камера не видит, литовец перекрывает ее головой.
– Не останавливаться!
Лыков стоит к камере спиной, трясется от смеха, а старик Кабани, разевая пьяную пасть, гыкает, плюется и ревет в похмельном зашкалившем перевозбуждении:
– Вот, хо-хо-тел горю-ю-чую, ай! воду для фейрверков, но изобрел, ох-а-а! спи-и-и-рт и за-а-пил!
– Стоп, снято! Переоденьте артиста и дайте ему водки. Спасибо всем.
Я был счастлив. Все ушли, а в бочку продолжала течь вода, и с неба шел первый легкий снежок – жаль, не в кадре.
– Это не режиссерская заслуга, – сказал кто-то на просмотре.
– Почему же, – возразил Герман. – Главной заслугой режиссуры было не выключить камеру и заставить артистов продолжать – не каждый бывает готов к такой удаче. И ведь литовец по-русски сыграл?
– По-русски, даже матерился.
– Попробуйте повторить – невозможно. А при этом – снято. Значит – кино.
На следующий день Герман забыл об этой пробе – приехал Юрий Оленников. Я снова стал ассистентом по площадке.
Стажер № 2: Начало длинного списка
– Убирайся с моей картины на хрен, к чертовой матери, чтобы я тебя не видел и не встретил нигде, ни на высших режиссерских курсах, ни в Каннах, ни в говне собачьем, нигде, слышишь, улепетывай в свой сраный Минск и снимайся в сериалах, а с моих глаз исчезни, почему ты еще стоишь здесь – вон из кинематографа! Я тебя не вижу, слышишь, не вижу, вон!
Странно, если он его не видит, зачем же так орать? Да еще при всей группе, на никому не знакомого человека, он и не сделал еще ничего, просто на день позже прибыл со съемок. Тем более – на своего ученика. Вот, наверное, в чем дело: на Илью он голоса не повышал, они были чужие. Илья мучился, боясь уходом подвести Германа, и Герман, уважая Илью, никак не находил повода. После очередного смотра типажей Алексей Юрьевич попросил всех выйти, а Илью остаться. У Ильи уже было предложение снимать 10 серий, но он не решается сказать об этом Герману. И Кармалита «заедала», она ревниво считала любого германовского помощника самозванцем. Илья с каждым днем приходил все чернее и чернее, не спал совсем, честно, но вяло исполнял положенное.
Они расстались.
И вот гремит яростная тирада, мрачно напоминающая средневековое проклятье – боевое крещение нового стажера. Подхожу знакомиться:
– Привет, я Лёша Злобин, ассистент по площадке.
– А я Юра Оленников.
– Пойдем выпьем?
– Пойдем, тем более что у меня сегодня день рождения.
Юра вернулся в Питер как раз на похороны своего педагога Куницына. Двенадцать лет Юра жил в Москве. На поминках в буфете ЛГИТМиКа многие удивились его появлению, даже подумалось – не его ли поминают. Новый «мастер», Алексей Юрьевич Герман, так встретил своего ученика, что Юра пожалел, что вернулся – «Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток».
Брат Юры, актер Алексей Оленников, был премьером Александринки, но после смерти завлита Евгения Калмановского и ухода худрука Александра Галибина решительно оказался без работы и бедствовал. До недавнего времени он преподавал на курсе Куницына. С братом встретился на похоронах.
Они смотрели друг на друга враждебно. У Лёши уже сложилась жизнь без Юры: он ютился в «трешке» на окраине со стариками-родителями, а свою «однушку» в центре сдавал – вот и весь его доход. А тут из Москвы прибывает Юра, его узнают в магазинах и на улице, все видели клип популярной песенки «Бухгалтер! Милый мой бухгалтер», работает у Германа первым помощником, зарплата приличная, снял трехкомнатную квартиру в центре.
Юра предложил брату роль в учебном фильме. Сценарий странный: человек в черной шляпе ходит по городу, а его никто не видит, только мальчишка, играющий во дворе с черепахой. Человек в шляпе заходит в какой-то подъезд, звонит в дверь. Открывает женщина, оглядывает пустую лестничную клетку. Потом он в парке аттракционов катается на детской карусели. Оказывается, он давно умер. Но об этом знал только Юра и догадывался Лёша, потому что ничего доброго от брата не ждал.
Проходная с Фонтанки – моя любимая, во дворе на лавочке две пожилые прекрасные актрисы – Елена Маркина и Вера Быкова, рядом бегает Женя Злобин, ему шесть лет. Он впервые увидел черепаху и сильно испугался – потом будет долго просить маму, чтобы купила, но мама не купит.
Любимый двор на Кирочной с нависающими переходами-балконами, знакомый подъезд на Фурштатской, подружка Т. играет жену, а приятель Е. – мужа в подтяжках. Всех гримирует С. – давняя знакомая, потом в Таврическом саду герой на карусели, а внизу моя однокурсница Ю. Друг-художник Б. дал хорошую музыку, и весь фильм мы смонтировали у него в студии. Как здорово, когда столько своего, родного можно поселить в десяти минутах чужого фильма.
Юра получил зачет.
Мы жадно лепили пробы для Германа, сочиняли сценарий, вместе встречали Новый, двухтысячный, год, вместе год и прожили – до лета, всю чешскую экспедицию. Жили в одном номере, и, когда мне снились кошмары, Юра кричал по ночам.
– Лёш, жвачка есть?
Смотрю, как в зеркало, в красные глаза Юрия Владимировича:
– Это мне или тебе нужна жвачка?
Герман не прощал, если на площадке несло перегаром:
– От кого почую запах – убью, потом уволю.
Но при тонком нюхе Алексей Юрьевич напрочь не отличал пьяного от трезвого.
На пробу привезли электрика со средневековым лицом – Герман как-то увидел его в толпе и потребовал на съемки. Электрика доставили в машине с запотевшими стеклами, средневековый типаж непробудно храпел на заднем сиденье. Кое-как подняли нашатырем. Юра с ним репетирует, добивается выполнения единственной задачи:
– Когда придет Герман, держись обеими руками за телегу, понял?
Тот не может ответить, но кивает.
Пришел Герман, сняли два дубля.
– Чего он все за телегу держится и наигрывает?
Подходит к электрику, упирается в него пузом, оглядывается:
– А от кого на площадке водкой воняет?
Все молчат, все же знают – от кого, но пойди скажи это Герману.
Алексей Юрьевич поворачивается к электрику:
– Отцепись от телеги.
Тот покорно отпускает руки, втыкается в германовское пузо и, беспомощно внимая задаче, пучит глаза. Герман зовет Юру, шепчет, отвернувшись, чтоб не обидеть артиста подозрением:
– Слушай, по-моему, он немножко подшофе, ты не находишь?
Отворачиваться было не надо, «артист» потерял опору в режиссере, и, чуть Герман отвернулся, бедолага электрик рухнул лицом в грязь и захрапел.
– По-моему, тоже – выпивши, – слегка отворачиваясь, чтоб не дышать на Германа, согласился Юра.
А Кармалита хохочет:
– Дураки, он же в хлам пьяный!
– Светка, – грозит Герман пальцем, – выбирай выражения, надо деликатней.
– Хорошо, Лёшечка, щас-с пойду умою его и извинюсь.
Через неделю – зимняя проба на Финском заливе, потом группа выехала на съемки в Чехию.
Добре рано!
На высокой горе висит замок. Громадные просторы, птичье самоощущение.
Внизу под мостом за высоким частоколом живут медведи. По мосту ходит большой козел Марик. Он заигрывает с каждым, выпрашивает подачки. Ест все, даже сигареты. Вчера он съел у художника чертежи, а позавчера – полмешка цемента.
Дворы замка по щиколотку завалены грязью. Ее специально привезли и выложили на рубероид. Группа скользит, чвакает, пачкает изящные спецодежды. Среди толпящейся массовки снует собака со стрелой в боку, пиротехники отстреливают голову сидящему над ручьем трупу монаха, складывают поленницу, чтобы она разваливалась от удара арбалетного болта.
Реквизитор тренирует белого бородатого козла ходить по краю обрыва за морковкой. Выкладывают «тропу смерти».
Хотим снять первый кадр. Долго натягиваем теневой тент, его все время срывает ветром. Только собрались снимать – повалил громадный снежный вихрь.
В грязной луже лежит абсолютно голый человек. Между ног ему высыпают большую кучу очень натурального дерьма.
Приведенной ослице золотят хвост и уши блестящей пудрой и подвешивают большой муляж возбужденного члена.
Ну зачем ей, ослице, член?
И все это – зачем?
Сегодня я дежурный. Это значит, на площадку выезжаю раньше всех – с группой подготовки. Герман постановил режиссерской группе поочередно отбывать повинность раннего, абсолютно бессмысленного присутствия. Чем я могу помочь художникам, декораторам, костюмерам? В огромных подвалах замка стоят вешала с костюмами массовки, окруженные большими тепловыми пушками. Из входа в подвал валит пар – стою, любуюсь. Еще можно пойти в палатку кейтеринга и помочь кому-нибудь позавтракать. Беру кофе, возвращаюсь к режиссерскому вагончику: внизу в долине широкими кругами парит орел. Надо написать письмо сыну. Ведь Женьке должно быть страшно интересно, что папа сидит на горе в замке с медведями, козлом и съемочной группой. Решил вести для него дневник и записал несколько страниц.
– Добре рано, добре рано, – слышится за пластиковой дверцей режиссерского вагончика – это приветствует друг друга чешская группа.
– Добре рано, – поет веселачка – так по-чешски называется рация. Надеваю нейлоновый комбез на подкладке, куртку со множеством карманов, в нагрудный сую веселачку – и вперед!
Кто виноват? Что делать?
Провинциальный городок Бероун. На площади перед отелем сидит на чемодане оператор Валерий Мартынов. Он так и не снял своего заветного кадра, случившегося на пробах в Ольгино.
Середина марта. Валера ждет такси, которое вежливо вызвала гостиничная девушка. Вчера еще площадь толпилась отъезжающей на площадку группой, а сегодня пусто – объявлен бессрочный выходной. Все спят после недельной попытки снять заколдованный кадр и вчерашнего банкета по случаю дня рождения Светланы Кармалиты. На банкет Валера не пошел. Они с Германом столкнулись внизу у лифта, о чем-то коротко поговорили и расстались навсегда.
Еще в Ольгино Герман вскипел, увидев стометровую дорогу рельс, четырех белорусов, толкающих махину крана, незнакомого человека за пультом управления, а Валеру Мартынова у монитора.
– Как можно снять кадр, когда ты от него на расстоянии всей этой халабуды, когда ты глазами, своими, а не через телевизор не видишь глаз актера, не слышишь его сбитого дыхания, если его волнение не передается тебе?
Он всей душой желал провала операторской затеи, и, когда кран вырубился под зудящей от влаги высоковольтной линией, Герман остро почувствовал свою правоту. Но кадр, о чудо, удался, он был гениальной ошибкой процесса, подлинным шедевром, снятым на грани брака. И Герман велел Валере повторить это чудо в Чехии.
Валера заказал еще больший кран, будь он неладен.
Венгерский, с огромной телескопической стрелой. Выяснилось, что он не мог работать под двумя десятками поливальных установок, облепивших стены замка, и потому что в начале марта на вершине горы то дождь, то снег и всегда ветер. Полагаю, в этой ерунде Валера виновен не был.
Просто у них с Германом на первой неделе съемок вскрылись давние противоречия, которые до поры до времени замалчивал один и не решался прежде обнаружить другой.
В результате экспедиция, едва начавшись, повисла, потеряла смысл. Это ведь киноэкспедиция, а снять кино без оператора и всей его тщательно отобранной группы (улетевшей тем же рейсом) – нельзя.
И кто за это должен ответить? Режиссер, который, переломив себя, «лег» бы под оператора? Оператор, который, проведя полтора года подготовки, снимал бы против своего представления?
Но почему же они не выяснили все на берегу, прежде чем бросить в экспедицию огромную группу? В штабе съемок стояли на еженощной зарядке рации основных сотрудников картины – их было сто двадцать. Это же армия! И вот мы встали, не начав снимать.
Конец ноября. Двор «Ленфильма». Проба казни книгочея. Солдаты, прибалты Альгис Мацейна и Беанас Белинскас, топят в нужнике писателя Михаила Эльзона. Герман придумал, что книгочей вырывается от солдат и бежит, но его все равно топят. Валера ставит камеру так, чтобы на первом плане было отхожее место, позади дверца лачуги, из которой выводят жертву, а потом камера развернется, открыв широкий двор, по нему хромающий старик потрусит от солдат. Герман смотрит репетицию и велит переставить камеру так, чтобы справа – лачуга книгочея, а слева – нужник, и книгочей бежит обратно в свою лачугу. Валера недоумевает:
– Но они его тут же поймают, какой смысл?
– Это его дом, как ты не понимаешь?
Они долго спорят, Валера не соглашается, но снимает, как велит Герман.
А что было бы, вскройся эти противоречия раньше, до отправки группы в экспедицию?
Из-за задержки полетели бы договоренности с объектами. Но они и так полетели, мы пробыли в Чехии вместо планируемых двух месяцев – четыре.
Так вот, с десятилетней дистанции предположу: Герман был готов снимать; он подошел к той точке, когда снимать уже было необходимо, когда проверено и опробовано было все. Но он чувствовал: рывок может обернуться провалом, катастрофой.
Почему – что-то мешало?
Да.
Мешала готовность.
Общая уверенность, убежденность, что мы что-то знаем, что есть метод, ход, правила.
Эту уверенность нес в себе Валера, и Герман поставил ему нерешаемую задачу – повторить чудо! Он знал – это невозможно. А если бы Валера смог… Если бы смог, другой был бы разговор, Валера переиграл бы Германа, и тот, я уверен, принял бы это, он всегда готов проигрывать, терпеть любое поражение, лишь бы выиграло дело, лишь бы родился живой кадр, лишь бы слезами над вымыслом облиться.
Но Валера сгорел на этой задаче. Группа дрогнула, продюсеры развели руками и погасли, уже никто ничего не понимал. Банкет Кармалиты походил на пир во время чумы. Единственный спокойный человек в этой ситуации был Герман, удивительно, даже внешне: победивший боевой бегемот перед еще не начатым сражением. Но он решил главную задачу: убрал заградотряды, снял прикрытие, отказался от тяжелой техники и вышел из крепости в контратаку. Все обосрались (его словечко) и готовились к гибели, надежды не было.
Это и были его ход, расчет, ставка.
Валера сделал бы ситуацию на картине предсказуемой, угадываемой, надежной. Он сам признался мне спустя пять лет:
– Лёша, я хотел помочь ему правильно и методично решить задачу – снять картину за год.
Но ни методичность, ни правильность в планы Германа не входили. Он не хотел картину снимать, он хотел ее выращивать. То есть подчинить все и вся внутреннему закону самого фильма, который был для него terra incognita, и потому не могло быть никаких правил. И любая – чья бы то ни было – уверенность только портила все дело, разрушала задачу.
Впрочем, тогда внутри ситуации никто ничего не понимал, разве только Кармалита. Она верила в Лёшечку и сгрызала все, что ему мешало, – как безумная Кассандра. Она знала: на этой картине один закон – Герман, рискующий перепуганный камикадзе, с детским отчаянием повторяющий: «Не надо делать, как мне лучше, – сделайте, как я прошу!»
Капля керосина для «букета» в коктейле.
Кирилл Черноземов
Оговорюсь, пока не поздно: вся история – уже рассказанная и предстоящая – вранье, гротеск, анекдот. И не потому, что хочется приукрасить или путаются за давностью лет факты, смешиваясь в обобщениях, – это само собой разумеется. Нет, но иначе не расскажешь – таково свойство главного персонажа. Слушая его байки, лавируя в блистательных и невероятных парадоксах, всякий раз недоумевая: «Неужели это так?» – я просто не вижу другого способа, интонации, ключа. Критики придумали назвать метод и жанр его фильмов гиперреализмом. Но это вялый термин, пугливая тавтология, беспомощная попытка фиксации сумбурной, лишь чувством ухватываемой загадки.
Как-то на третьем году съемок Герман слег в больницу с тяжелым легочным диагнозом. Работа встала, боялись – навсегда. Врачи обнаружили в его легких какую-то неведомую бациллу. Еще бы, он снимает кино про инопланетное средневековье – надышался. Он еще на «Лапшине» месяцами ходил по тюрьмам, сидел часами в моргах судмедэкспертиз; вся группа блевала, падала в обморок, убегала, а он смотрел и вживался – погружал своего героя в реальную среду. Поэтому легко допустить, что, сиганув на пять веков назад через полотна Брейгеля и Босха, вдохнув полной грудью той правды, он зацепил тамошнюю бациллу – прививки-то соответствующей не было.
– Вы непредсказуемы, Алексей Юрьевич! – кричал режиссер Богин в последний день их совместной работы.
Присоединяюсь, и более того – для меня он остается непредсказуемым, не ловится ни сачком точных фактов и сказанных слов, ни впоследствии пришедшим пониманием.
Перефразируя Есенина, удивленно замечаю: «Большое близится на расстоянии».
Поэтому – все вранье.
Только удивление и остается неизменным.
Двор чешского замка Точник по колено залит грязью, ее привезли из… не помню откуда; но почему-то называется она «американская грязь». Может быть, специально для средневековых картин ее месят в Голливуде? По двору выложены дощатые мостки, офактуренные под декорацию. Следуя распоряжениям руководства национального заповедника, группа обязана поверх обуви надевать медицинские бахилы, как в больнице. Так все и ходим по мосткам в синих, залитых грязью мешках.
Стены замка украшены очень натуральными и неаппетитными потеками окаменевших за столетия экскрементов – застывшими говнопадами. На какой-то картине Герман увидел какающего человечка в маленькой будке на крепостной стене. Воображение живо дорисовало, сколько дерьма должно налипнуть за века эксплуатации подобных сортиров, и, конечно, их должно быть много, и вот – стены замка-музея сплошь угвазданы окаменелым дерьмом. То, что в реальности отхожих мест было меньше, а всё падавшее на стены непременно смывалось дождями, мастеру кажется мелочным и тоскливым копанием в деталях или в этом добре, что так щедро облепило древнюю кладку замка. Дождь тоже предполагается – наверху по всему периметру двора торчат поливальные установки.
Герман, с палочкой прошествовав по мосткам в угол двора, косится на белый венгерский кран. Группа идет следом, но мастера не обступить – мостки не позволяют: так и тянется вереница внимающих, начиная от Валеры Мартынова, потом нас с Юрой Оленниковым, и дальше до ворот, как очередь в мавзолей.
– Ну, тут будут лежать трупы монахов, груды оружия и отрубленных частей тел…
– Оксана, записывай, – командует Кармалита помрежу.
Помреж записывает.
– Вот, – продолжает Герман, – выложить их побольше и подлинней, сколько у нас каскадеров?
– Двадцать, Алексей Юрьевич, – докладывает второй режиссер, переглянувшись с продюсером, который просил не больше пятнадцати.
– Ну, двадцать, я думаю, маловато, давайте человек сорок–сорок пять положим.
– Оксана, пиши, Витя – слышал?
Продюсер кивает и бурчит что-то невнятное.
– Так, – Герман указывает палкой, – значит, дорога трупов, а в конце голый человек, моржа надо позвать, есть в Чехии моржи?
– Есть, это тоже будет каскадер.
– Ну хорошо, и парочку на дубль. Вот, он голый здесь будет лежать, голый и обосранный, как младенец, и к нему подбежит мальчик, ковырнет палочкой, мальчик приехал?
– Да, приехал, репетирует!
– Хорошо, ковырнет палочкой, а рядом огромные сапоги по колено в грязи пройдут. Руки поднимут мальчика и перенесут на мостик. Он побежит по мосткам, а там, у поленницы, прислонясь, сидит монах, мальчик его тронет за плечо, и у монаха голова упадет в ручей и поплывет – монах есть?
– В смысле?
– Ну, чья голова отвалится.
– Как чья? Это же кукла, муляж.
– Я хочу посмотреть, как у него отваливается голова, покажите.
– Нам нужно полчаса, чтобы все подготовить, – докладывают чехи.
– А что там готовить, просто голова должна упасть в ручей, и все.
– Это не просто, Алексей Юрьевич, это спецэффект.
– Да, ну покажите мне этот спецэффект.
Прибегают реквизиторы, сажают безглавое тело в костюме монаха, гримеры приносят голову, предупреждают:
– Только аккуратнее – это очень дорогой муляж.
Пиротехник закладывает в шею манекена заряд, прикрывает сверху куском кровящей свинины и, вставив две шпильки, насаживает голову.
– Мы готовы.
– Показывайте, только приведите мальчика.
Приходит мальчик, трогает монаха за плечо, раздается взрыв, и в шлейфе огня и дыма голова улетает за стену замка. У ног Германа шмякается кусок свинины.
– Простите, немного не рассчитали.
– Да, вижу, – вздыхает Герман. – А не лучше ли просто приставить и толкнуть?
Обалдевшие чехи тупо смотрят на режиссера. Этот трюк был заявлен как спецэффект, а спецэффект – это спецэффект, это нельзя «просто»…
Герман засопел: