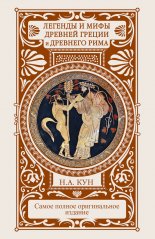Яблоко от яблони Злобин Алексей
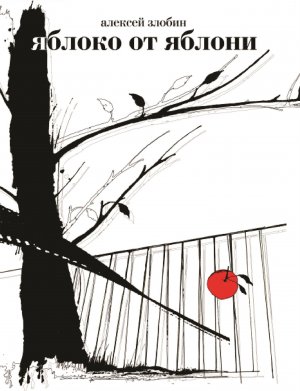
И тревожится, и не спит ночами Фома, болит сердце – кто?
Никого».
– Макс, пощекочи-ка Людмилу Васильевну, а то чувственное ощущение партнера с годами слабеет. Все слова за два года репетиций омозолились, стали с копытами – и тупо бьют по глухому зрителю. Надо освежать, идти по тексту босиком, ощущать го тонкой кожей. А вы так тоньшите, так глубоко играете, мастерите псевдотонкость, так глубоко проглочено содержание, что из задницы торчит. Надо же просто слушать мелодию, поверьте – чувственность музыки мудрее философии. Давайте, еще раз!
Нет! Зачем такая выразительная пластика, визуальное восприятие закладывает уши – не слышу смысла. Эй, Людмила Васильевна! Не надо рук, не надо пордебра, вспоминая прошлое, надо мысленно вылезти из лифчика, ведь тогда, в юности, ты лифчик не носила.
– Всегда носила…
– Ну, тем более – пора вылезать. И не играйте в пол! Прошлое у них наверху, они живут прошлым, а будущее – внизу, страшное; будущее, которого нет.
Людмила Васильевна заканчивает кусок: «А я как с цепи сорвалась, мамочка, мама моя…»
– Молодец, Люда, хорошо сыграла!
– А что я здесь сыграла?
– Залог утрат и радость бытия! И прекрасна, потому что живешь не собой, а предметом, которым занимаешься. «Мама мне говорила, мама моя…» – в подтексте несогласие и восторг: и мама была прелестна, потому что была права, и я – потому что была не права и в этом была права! Очень подлинные, документальные, а потому поэтические вещи. И еще, Люда, монолог главного срыва, обвинения, самый громкий – играй под сурдинку – бунт под одеялом.
Макс, ты так хорошо и чутко можешь работать, ты себе это уже доказал. А мне – нет.
Ты вдруг понимаешь, что двадцать пять лет промаялся с женщиной, а она на самом деле – твое счастье. Как играть? Надо предельно отдаться восприятию – оно содержательней всего прочего. Вглядись в нее, закрой лицо рукой… не бойся, чем нелепей и опереточнее жест – тем лучше; кивай то в отказе, то в согласии, слушая ее исповедь: У-ё!!! – и растворись в партнере. И тогда всех переиграешь, от тебя глаз нельзя будет оторвать.
– У нас монопьеса на троих (ха-ха), сегодня будет репетиция на зрителя… Придет мафия по части психологического крапа, щипачи-обнимальщики… Завтра позовем друзей – и молодых, и среднего возраста, и критиков. Сперва «массаж» – бурные аплодисменты, потом – сожрут живьем. Перспектива безнадежности, прогулка камикадзе. Но помните: все уже было в театре, все; единственная новость – артист, такой, какой он есть, – только вы, и больше ничего. Фанатизм дилетантов и цинизм профессионалов – равно жалки. И знаете, что страшнее преисподней? – Большой успех.
Показ начали в 22.00. Людмила Васильевна ужасно волновалась и «перегорела»: «Если спектакль начинается не в 19.00, я в это время уже сплю – привычка», – вздохнула она. Но на зрителе собрала «последние силы» и…
– Туши свет, – шепнул Петр Наумович, – выпускай детей и животных!
На следующий день, 25 мая 2006 года, за полчаса до начала Фоменко позвонил в театр, сообщил, что на показ не придет – как? почему?! Он дал указание зачитать перед битком набитым залом телефонограмму: «Это не сдача, а репетиция на грани прогона». Зритель услышал: он присутствует при чем-то незавершенном. Через час двадцать пять уточнилось – незавершенно-прекрасном.
Людмила Васильевна вышла на сцену – волнение перехлестывало, она повела спектакль, механически прикрываясь режиссерским рисунком: «Будь проклята наша режиссура!» – хочется крикнуть в такие минуты. Когда она пробегала мимо меня, я сидел с краю и зашипел ей в самое ухо: «Люда, не жмите, Фомы нет!» Потом она призналась, что даже текст забыла от неожиданности. Но все вдруг пошло: слетел зажим ответственности, открылся слух, прозрели очи, и в абсолютной свободе и легкости артисты-партнеры обрели главное – друг друга. Зал визжал, вызывали пять раз, не давали уйти, вереница особ приближенных стояла в библиотеке в очередь к телефону с докладом режиссеру о своих восторгах.
Лучшее, что мог сделать Фома как режиссер, чтобы помочь актрисе сыграть сложнейший бенефисный спектакль, – это после первого прогона не прийти на второй.
На осень назначили премьеру.
Поздняя свадьба
Человек счастлив, пока любит
Навещали Леонида Зорина. О новом театре, построенном для Петра Наумовича, Леонид Генрихович сказал:
– Какое горькое насмешливое положение, когда получаешь все, о чем мечтал, а сил уже нет. Такой театр – семидесятипятилетнему режиссеру, как у Пушкина: «Печальной ветхости картина. Ах, витязь, то была Наина!» А тут еще хуже; он состарился, и вот ему – юную, прекрасную, о которой мечтал. Печальная поздняя свадьба.
Позвонил Хороший. Как признался сам – изрядно приняв накануне. Интересовался числом и месяцем: «Какое, милые, у нас тысячелетье…» – но нет, тысячелетием он не интересуется вовсе. Как всегда, не разговор, а игра в слова: цитаты, полуцитаты, намеки на цитаты, намеки на намеки…
– Вшили «обновленный» дифлибиратор…
Всерьез грустил, что я не интересуюсь спектаклем, что Людмила Васильевна играет его сиротски без нашего глаза, уха, сердца, слова. Осенью я не смог быть на премьере – снимали кино с Ириной. Финальная сцена фильма игралась на заливе под проливным дождем возле пансионата «Черная речка». Залив в чересполосицу туч и солнца, короткий ливень и двойная радуга. Утки качались на серых волнах, чаек сносило ветром, и все было так не похоже на то лето, когда мы здесь гуляли с Фомой.
– Петр Наумович, мне ужасно стыдно, я как раз собрался, глянул в репертуар – вчера только играли, а следующий спектакль – в конце месяца.
– А ты не смотри в расписание, просто приходи и живи в театре. У меня в библиотеке и диван, и водочка в шкафу…
– Когда вы в театр?
– Никогда, сил не хватает даже на дорогу туда-обратно, только на обратно… Мне снился страшный сон, ужасный и прекрасный: снилась Иринушка, и с ней еще пять величайших женщин мира пели под гитару пошлейшие и прекрасные жестокие романсы, я слушал и страдал – болело сердце; привет ей… как она пела…
– А кто остальные-то пять?
– Остальных я не запомнил, только Ирину. Вот если бы она играла на гитаре и подпевала в «Бесприданнице»… впрочем, на «Бесприданнице» я поставил крест…
– Прям уж крест, что вдруг?
– Поставил, и он не стоит, уже ничего не стоит и не держится. Ни достойных провалов, ни позорных побед. А еще я вспоминаю «Черную речку», что-то же хорошее было тогда. Ну а ты, Алёша, как?
– Да никак. Сижу и жду.
– Что сидишь, чего ждешь?
– Сижу без работы, жду работы…
– И я не репетирую. В последнее время все реже удается доползать до театра. Последнее время… звучит провидчески, почти как «предпоследние известия…»
– Надо повидаться, Петр Наумович…
– Не надо… Пока, звони…
У нас наездами итальянка Моника, она поступает в Мастерскую на стажировку. Из Питера, как улитка, с чемоданом реквизита, кофром с трубой, мешком апельсинов и длинным черным с загнутой ручкой зонтом. С порога затевает беседу по-итальянски с нашими котами, а я и не знал, что они по-итальянски понимают. На огромном ночном балконе Моника глубоко и восторженно вдыхает: «Москва! какая огромная – смотри, вот я пришла!» И утром рано со всем скарбом отправляется в Мастерскую на показ. Там же и Митя Смирнов, ангел, с красавицей француженкой Наджой. Сколько мы не виделись! Интересно, помнит Фоменко об их первой встрече на заснеженном энском перекрестке?
Я застал хвост показа. Лица комиссии натянуты вселенской ответственностью перед будущим искусства. Слушаю мнения и время от времени чихаю, чтобы не засмеяться. Фома оглядывается и подмигивает:
– Ты гляди, схватишь грех на душу!
Его все это забавляет. Объявляют обед. Свои идут в буфет, а соискатели-состязатели – в фойе: к чаю и бутербродам в окружении фотогалереи актеров театра – их вожделенное будущее висеть на этих стенах. Фойе и буфет разделяет лист фанеры – оттуда несутся к голодным и дерзновенным сытные запахи. Как символично: им просто нужно перейти эту тонкую стену, как Буратино сунуть нос в дыру котла, нарисованного на ковре.
Небо свесило облака ниже нашего балкона, и все внизу заливает дождем, всю начинающую желтеть листву и сошедший с ума каштан у магазина. Он неделю назад принял внезапную краткосрочную жару за весну и расцвел повторно. Уже рядом в пожухлых пятипалых листьях литые колючие шары плодов, а на трех ветках – майские свечи в нежной листве.
Звонит Максакова:
– В Риге тучи и хмуро. Все лето ходила по пляжу впавшего в маразм курорта. Потом уехала в Мюнхен. А ты как? Скучаешь. Слышу. Надо сходить куда-нибудь. Ну, звони, мальчик, звони, не пропадай.
Еще не стемнело, и в тусклое осеннее небо недоуменно глядится расцветший каштан. К чему все это?
Пошли на прогон «Бесприданницы». В зале битком и пышно. Дождался Петр Наумович своего большого театра, нового дома. После четырех занавесов и решительных оваций повалили за кулисы. А в старом здании в зеленом зале зеленые от усталости стажеры репетируют завтрашний показ. Как мудро придумал Фома набрать стажеров – бьется-бурлит в театре новая жизнь. Заглянули к нему в библиотеку: сидит тихий в кресле, собирается ехать в университет – остатки юности сойдутся свое былое поминать.
– Присядьте хоть, Алёша, Иринушка…
Вздыхает: чудовищная загруженность. В феврале один едет в Псков на Пушкинские дни, театр отказался. Ирина обняла Хорошего, подарила ему медное елочное сердце – улыбнулся.
Зову Петра Наумовича на нашу премьеру по Бродскому.
– Прости… болею, в театр не хожу, и к вам, когда приду, не знаю, поди же у вас спектакль сырой еще?
– Лучше не будет.
– Ну все равно, приду, когда подсохнет… Романс, нет легкий марш в духе Булата: когда оно совсем подсохнет, тогда я, может быть, приду… Вот мы и развеселились, не долго нас беспокоят мертвецы. Я сегодня в Нижний не поехал на похороны: там хорошую, светлую женщину убили. Пошел на почту отправить телеграмму, написал, чтобы до десяти утра успели, а они: «В течение дня». Ну, говорю, я доплачу за срочность, но, может быть, есть кто-то, кто рукой, блядь, рукой возьмет и отнесет эту телеграмму в Дом актера?! Хотя кому там ее нести… вместе убивали, теперь вместе хоронят.
– А я дневники перечитываю, о нашей работе над Маркесом.
– Очень рекомендую издать – сожрут живьем. Впрочем, это полезно, яд в гомеопатических дозах развивает ядонезависимость. Но дозы подчас негомеопатические.
Фома часто говорит, что режиссура – профессия смертников. То, что всерьез потрясает, вызывает страх, тревогу, подлинное сострадание или ужас, – отторгается. Режиссеры – антитела. Отторжение миром. Ставка высокая, всегда конечная… И большей частью – игра на поражение.
Черная речка в Ленинграде, туда мы с папой ходили гулять.
Зима, меня, завернутого в шубку, отец везет на санках к месту дуэли Пушкина. Слева стела и справа стела – проход к мемориалу. Папа сказал, что стрелялись с этого расстояния – 6 шагов. Вряд ли так было, но смертельное расстояние впечатляло и на стеле выбиты лермонтовские стихи: «Погиб поэт, невольник чести…»
Это первое, что я выучил наизусть, еще будучи трехлеткой, и плакал взахлеб. Мой Пушкин – сосед, прогулки с папой, детская зима, лермонтовские безутешные слезы и счастье, счастье, счастье. От слов, от их райского звучания.
Середина Масленицы, с вечера начнут читать великопостную молитву Ефрема Сирина, пушкинское «Отцы пустынники и жены непорочны…»
И вечерняя метель навстречу.
Каким же даром, каким спасением дана нам поэзия.
После долгого перерыва пили с Фомой двадцатилетний шотландский виски, знакомили Петра Наумовича с грузинской куклой Варварой Петровной, которую я привез со съемок из Тбилиси. Как раз Варварин день, годовщина нашей с Ирой свадьбы. А Петровна она потому, что Фома нас с Ирой подружил. Ира предложила Петру Наумовичу почитать на ее новый диск стихотворения, попеть немного – будет замечательная совместная пластинка.
27 марта 2012 г. День театра.
– Ирина, Алёша, приходите на «Театральный роман» – прогон для своих.
Купили гиацинты в горшке, поехали. Новое здание театра – огромный лабиринт, уходящий под воду Москвы-реки, весь из бетона и стекла. За полукруглой надписью на фронтоне «Мастерская Петра Фоменко» торчат помпезные билдинги. Километровая очередь, секьюрити, рамки металлоискателей, машины с министерскими номерами, к окошку администратора не пробиться.
Кручу башкой в зале – весь театральный бомонд, а Максаковой нет. К середине первого акта взрыв аплодисментов: «Максакова, Максакова!»
А я и не знал, что она занята в этой работе. Потом в ночи долго по телефону, как в старые добрые времена, обсуждали с ней в деталях спектакль, грустно заканчивающийся «тенью, павшей на Иерусалим»:
– Фому-то видел?
– Прорвались с Ирой через охрану, он от зрителей сбежал. Заперся один в библиотеке в старом здании и тихонько сидел в кресле из нашего «Маркеса».
– Знаешь, Лёшка, у Булгакова «Театральный роман, или Записки покойника», а у нас – что?
– Роман, конечно, Людмила Васильевна. Долгий прекрасный роман.
Середина июня, звонок:
– Я спектакли ставлю, ставлю – а они не стоят. И сезон не то что идет – доходит. Я все хочу и не могу посмотреть вашего Бродского. Ирина ведь одна его играет?
– Да, моноспектакль.
– Скажи, а может она сыграть у нас?
– Конечно, с радостью.
– Тогда – до осени.
1 августа.
Сообщение от Ирины: «Звонил Хороший из деревни, тебе привет!»
9 августа.
Утро. Вильнюс. Вышел из поезда. До автобуса еще час. Пошел в кафе на улицу Гедеминаса, где с Ирой не раз коротали время в гастрольных вояжах. Там в витрине за стеклом сыры, вяленые томаты, маслины, литовские десерты – вот сейчас закажу всего и мысленно позавтракаю с Ириной. Она готовится к фестивальной премьере в Друскининкае.
Раздается звонок из Питера – мама: «Лёша, по радио только что сообщили…»
Вот и кафе. Стою перед прилавком и не могу вспомнить, зачем пришел.
– Может быть, кофе? – улыбнулась официантка.
– Может быть… спасибо.
Спешит автобус в Друскининкай: «Только бы Ира не узнала, только бы не узнала, ведь надо как-то играть спектакль, сольный, оперный! А от слез ведь связки опухнут, невозможно!»
…Не ставьте точки и не играйте в пол! К земле, что ли, привыкаете? Успеется! А точек вообще не должно быть, фраза стремится, летит, живая, как моль, – до аплодисментов, когда ее захлопают насмерть!