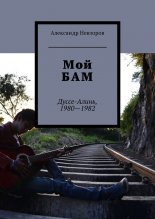Страдания юного Вертера. Фауст (сборник) Гете Иоганн
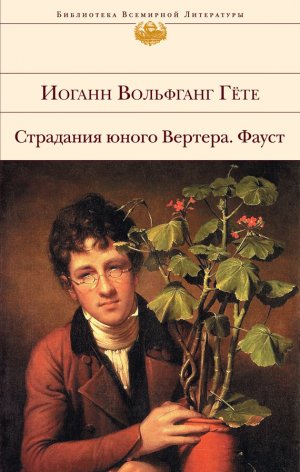
Бесспорно, лучше Альберта нет никого на свете. Вчера у нас с ним произошла удивительная сцена. Я пришел к нему проститься, потому что мне взбрело на ум отправиться верхом в горы, откуда я и пишу тебе сейчас; и вот, когда я шагал взад и вперед по комнате, мне попались на глаза его пистолеты. «Одолжи мне на дорогу пистолеты», – попросил я. «Сделай милость, – отвечал он. – Но потрудись сам зарядить их; у меня они висят только для украшения». Я снял один из пистолетов, а он продолжал: «С тех пор как предусмотрительность моя сыграла со мной злую шутку, я их и в руки не беру». Я полюбопытствовал узнать, как было дело, и вот что он рассказал: «Около трех месяцев жил я в деревне у приятеля, держал при себе пару незаряженных карманных пистолетов и спал спокойно. Однажды в дождливый день сижу я, скучаю, и бог весть почему мне приходит в голову: а вдруг на нас нападут, вдруг нам понадобятся пистолеты, вдруг… словом, ты знаешь, как это бывает. Я сейчас же велел слуге почистить и зарядить их; а он давай балагурить с девушками, пугать их, а шомпол еще не был вынут, пистолет выстрелил невзначай, шомпол угодил одной девушке в правую руку и раздробил большой палец. Мне пришлось выслушать немало нареканий и вдобавок заплатить за лечение. С тех пор я воздерживаюсь заряжать оружие. Вот она – предусмотрительность! Опасности не предугадаешь, сердечный друг! Впрочем…» Надо тебе сказать, что я очень люблю его, пока он не примется за свои «впрочем». Само собой понятно, что из каждого правила есть исключения. Но он до того добросовестен, что, высказав какое-нибудь, на его взгляд, опрометчивое, непроверенное общее суждение, тут же засыплет тебя оговорками, сомнениями, возражениями, пока от сути дела ничего не останется. На этот раз он тоже залез в какие-то дебри; под конец я совсем перестал слушать и шутки ради внезапным жестом прижал дуло пистолета ко лбу над правым глазом.
«Фу! К чему это?» – сказал Альберт, отнимая у меня пистолет. «Да ведь он не заряжен», – возразил я. «Все равно, это ни к чему, – сердито перебил он. – Даже представить себе не могу, как это человек способен дойти до такого безумия, чтобы застрелиться; самая мысль противна мне». – «Странный вы народ, – вырвалось у меня. – Для всего у вас готовы определения: то безумно, то умно, это хорошо, то плохо! А какой во всем этом смысл? Разве вы вникли во внутренние причины данного поступка? Можете вы с точностью проследить ход событий, которые привели, должны были привести к нему? Если бы вы взяли на себя этот труд, ваши суждения не были бы так опрометчивы».
«Согласись, – заметил Альберт, – что некоторые поступки всегда безнравственны, из каких бы побуждений они ни были совершены».
Пожав плечами, я согласился с ним. «Однако, друг мой, – продолжал я, – здесь тоже возможны исключения. Конечно, воровство всегда безнравственно; однако же человек, идущий на грабеж, чтобы спасти себя и свою семью от неминуемой голодной смерти, пожалуй, заслуживает скорее жалости, нежели кары. А кто бросит камень в супруга, в справедливом гневе казнящего неверную жену и ее недостойного соблазнителя? Или в девушку, которая губит себя, в безудержном порыве предавшись минутному упоению любви. Даже законники наши, хладнокровные педанты, смягчаются при этом и воздерживаются от наказания».
«Это другое дело, – возразил Альберт. – Ибо человек, увлекаемый страстями, теряет способность рассуждать, и на него смотрят как на пьяного или помешанного».
«Ах вы, разумники! – с улыбкой произнес я. – Страсть! Опьянение! Помешательство! А вы, благонравные люди, стоите невозмутимо и безучастно в сторонке и хулите пьяниц, презираете безумцев и проходите мимо, подобно священнику, и, подобно фарисею, благодарите господа, что он не создал вас подобными одному из них. Я не раз бывал пьян, в страстях своих всегда доходил до грани безумия и не раскаиваюсь ни в том, ни в другом, ибо в меру своего разумения я постиг, почему всех выдающихся людей, совершивших нечто великое, нечто с виду недостижимое, издавна объявляют пьяными и помешанными. Но и в обыденной жизни несносно слышать, как вслед всякому, кто отважился на мало-мальски смелый, честный, непредусмотрительный поступок, непременно кричат: «Да он пьян! Да он рехнулся!» Стыдитесь, вы, трезвые люди, стыдитесь, мудрецы!»
«Очередная твоя блажь, – сказал Альберт. – Вечно ты перехватываешь через край, а тут уж ты кругом не прав, – речь ведь идет о самоубийстве, и ты сравниваешь его с великими деяниями, когда на самом деле это несомненная слабость: куда легче умереть, чем стойко сносить мученическую жизнь».
Я готов был оборвать разговор, потому что мне несноснее всего слушать ничтожные прописные истины, когда сам я говорю от полноты сердца. Однако я сдержался, ибо не раз уж слышал их и возмущался ими, и с живостью возразил ему: «Ты это именуешь слабостью? Сделай одолжение, не суди по внешним обстоятельствам. Если народ, стонущий под нестерпимым игом тирана, наконец взбунтуется и разорвет свои цепи – неужто ты назовешь его слабым? А если у человека пожар в доме и он под влиянием испуга напряжет все силы и с легкостью будет таскать тяжести, которые в обычном состоянии и с места бы не сдвинул; и если другой, возмущенный обидой, схватится с шестерыми и одолеет их – что ж, по-твоему, оба они слабые люди? А раз напряжение – сила, почему же, добрейший друг, перенапряжение должно быть ее противоположностью?» Альберт посмотрел на меня и сказал:
«Не сердись, но твои примеры, по-моему, тут ни при чем».
«Допустим, – согласился я. – Мне уж не раз ставили на вид, что мои рассуждения часто граничат с нелепицей. Попробуем как-нибудь иначе представить себе, каково должно быть на душе у человека, который решился сбросить обычно столь приятное бремя жизни; ибо мы имеем право по совести судить лишь о том, что прочувствовали сами. Человеческой природе положен определенный предел, – продолжал я. – Человек может сносить радость, горе, боль лишь до известной степени, а когда эта степень превышена, он гибнет. Значит, вопрос не в том, силен ли он или слаб, а может ли он претерпеть меру своих страданий, все равно душевных или физических, и, по-моему, так же дико говорить: тот трус, кто лишает себя жизни, – как называть трусом человека, умирающего от злокачественной лихорадки».
«Это парадоксально. До крайности парадоксально!» – вскричал Альберт. «Не в такой мере, как тебе кажется, – возразил я. – Ведь ты согласен, что мы считаем смертельной болезнью такое состояние, когда силы человеческой природы отчасти истощены, отчасти настолько подорваны, что поднять их и какой-нибудь благодетельной встряской восстановить нормальное течение жизни нет возможности. А теперь, мой друг, перенесем это в духовную сферу. Посмотри на человека с его замкнутым внутренним миром: как действуют на него впечатления, как навязчивые мысли пускают в нем корни, пока все растущая страсть не лишит его всякого самообладания и не доведет до погибели.
Тщетно будет хладнокровный, разумный приятель анализировать состояние несчастного, тщетно будет увещевать его! Так человек здоровый, стоящий у постели больного, не вольет в него ни капли своих сил».
Для Альберта это были слишком отвлеченные разговоры. Тогда я напомнил ему о девушке, которую недавно вытащили мертвой из воды, и вновь рассказал ее историю:
«Милое юное создание, выросшее в тесном кругу домашних обязанностей, повседневных будничных трудов, не знавшее других развлечений, как только надеть исподволь приобретенный воскресный наряд и пойти погулять по городу с подругами, да еще в большой праздник поплясать немножко, а главное, с живейшим интересом посудачить часок-другой с соседкой о какой-нибудь ссоре или сплетне; но вот в пылкой душе ее пробуждаются иные, затаенные желания, а лесть мужчин только поощряет их, прежние радости становятся для нее пресны, и, наконец, она встречает человека, к которому ее неудержимо влечет неизведанное чувство; все ее надежды устремляются к нему, она забывает окружающий мир, ничего не слышит, не видит, не чувствует, кроме него, и рвется к нему, единственному. Не искушенная пустыми утехами суетного тщеславия, она прямо стремится к цели: принадлежать ему, в нерушимом союзе обрести то счастье, которого ей недостает, вкусить сразу все радости, по которым она томилась. Многократные обещания подкрепляют ее надежды, дерзкие ласки разжигают ее страсть, подчиняют ее душу; она ходит как в чаду, предвкушая все земные радости, она возбуждена до предела, наконец она раскрывает объятия навстречу своим желаниям, и… возлюбленный бросает ее. В оцепенении, в беспамятстве стоит она над пропастью; вокруг сплошной мрак; ни надежды, ни утешения, ни проблеска! Ведь она покинута любимым, а в нем была вся ее жизнь. Она не видит ни божьего мира вокруг, ни тех, кто может заменить ей утрату, она чувствует себя одинокой, покинутой всем миром и, задыхаясь в ужасной сердечной муке, очертя голову бросается вниз, чтобы потопить свои страдания в обступившей ее со всех сторон смерти. Видишь ли, Альберт, это история многих людей. И скажи, разве нет в ней сходства с болезнью? Природа не может найти выход из запутанного лабиринта противоречивых сил, и человек умирает. Горе тому, кто будет смотреть на все это и скажет: «Глупая! Стоило ей выждать, чтобы время оказало свое действие, и отчаяние бы улеглось, нашелся бы другой, который бы ее утешил». Это все равно, что сказать: «Глупец! Умирает от горячки. Стоило ему подождать, чтобы силы его восстановились, соки в организме очистились, волнение в крови улеглось: все бы тогда наладилось, он жил бы и по сей день».
Альберту и это сравнение показалось недостаточно убедительным, он начал что-то возражать, между прочим, что я привел в пример глупую девчонку; а как можно оправдать человека разумного, не столь ограниченного, с широким кругозором, это ему непонятно. «Друг мой! – вскричал я. – Человек всегда останется человеком, и та крупица разума, которой он, быть может, владеет, почти или вовсе не имеет значения, когда свирепствует страсть и ему становится тесно в рамках человеческой природы. Тем более… Ну, об этом в другой раз», – сказал я и схватился за шляпу. Сердце у меня было переполнено! И мы разошлись, так и не поняв друг друга. На этом свете люди редко понимают друг друга.
15 августа
Ясно одно: на свете лишь сила любви делает человека желанным. Я вижу это по Лотте, ей жалко было бы потерять меня, а дети только и ждут, чтобы я приходил всякий день. Сегодня отправился туда настраивать Лотте фортепьяно, но так и не выбрал для этого времени, потому что дети неотступно требовали от меня сказки и Лотта сама пожелала, чтобы я исполнил их просьбу. Я покормил их ужином, от меня они принимают его почти так же охотно, как от Лотты, а потом рассказал любимую их сказочку о принцессе, которой прислуживали руки. Уверяю тебя, я сам при этом многому учусь: их впечатления поражают меня неожиданностью. Зачастую мне приходится выдумывать какую-нибудь подробность, и если в следующий раз я забываю ее, они сейчас же говорят, что в прошлый раз было иначе, и теперь уж я стараюсь без малейшего изменения бубнить все подряд нараспев. Из этого я вынес урок, что вторым, даже улучшенным в художественном смысле, изданием своего произведения писатель неизбежно вредит книге. Мы очень податливы на первое впечатление и готовы поверить всему самому неправдоподобному, оно сразу же прочно внедряется в нас, и горе тому, кто сделает попытку вытравить или искоренить его!
18 августа
Почему то, что составляет счастье человека, должно вместе с тем быть источником его страданий?
Могучая и горячая любовь моя к живой природе, наполнявшая меня таким блаженством, превращая для меня в рай весь окружающий мир, теперь стала моим мучением и, точно жестокий демон, преследует меня на всех путях. Бывало, я со скалы оглядывал всю цветущую долину, от реки до дальних холмов, и видел, как все вокруг растет, как жизнь там бьет ключом; бывало, я смотрел на горы, от подножия до вершины одетые высокими, густыми деревьями, и на многообразные извивы долин под сенью чудесных лесов и видел, как тихая река струится меж шуршащих камышей и отражает легкие облака, гонимые по небу слабым вечерним ветерком; бывало, я слышал птичий гомон, оживлявший лес, и миллионные рои мошек весело плясали в алом луче заходящего солнца, и последний зыбкий блик выманивал из травы гудящего жука; а стрекотание и возня вокруг привлекали мои взоры к земле, и мох, добывающий себе пищу в голой скале подо мной, и кустарник, растущий по сухому, песчаному косогору, открывали мне кипучую, сокровенную священную жизнь природы; все, все заключал я тогда в мое трепетное сердце, чувствовал себя словно божеством посреди этого буйного изобилия, и величественные образы безбрежного мира жили, все одушевляя во мне! Исполинские горы обступали меня, пропасти открывались подо мною, потоки свергались вниз, у ног моих бежали реки, и слышны были голоса лесов и гор! И я видел их, все эти непостижимые силы, взаимодействующие и созидающие в недрах земли, а на земле и в поднебесье копошатся бессчетные племена разнородных созданий, все, все населено многоликими существами, а люди прячутся, сбившись в кучу, по своим домишкам и воображают, будто они царят над всем миром! Жалкий глупец, ты все умаляешь, потому что сам ты так мал! От неприступных вершин, через пустыни, где не ступала ничья нога, до краев неведомого океана веет дух извечного творца и радуется каждой песчинке, которая внемлет ему и живет. Ах, как часто в то время стремился я унестись на крыльях журавля, пролетавшего мимо, к берегам необозримого моря, из пенистой чаши вездесущего испить головокружительное счастье жизни и на миг один приобщиться в меру ограниченных сил моей души к блаженству того, кто все созидает в себе и из себя!
Знаешь, брат, одно воспоминание о таких часах отрадно мне. Даже старание воскресить те невыразимые чувства и высказать их возвышает мою душу, чтобы вслед за тем я вдвойне ощутил весь ужас моего положения.
Передо мной словно поднялась завеса, и зрелище бесконечной жизни превратилось для меня в бездну вечно отверстой могилы. Можешь ли ты сказать: «Это есть», – когда все проходит, когда все проносится с быстротой урагана, почти никогда не исчерпав все силы своего бытия, смывается потоком и гибнет, увы, разбившись о скалы? Нет мгновения, которое не пожирало бы тебя и твоих близких, нет мгновения, когда бы ты не был, пусть против воли, разрушителем! Безобиднейшая прогулка стоит жизни тысячам жалких червячков; один шаг сокрушает постройки, кропотливо возведенные муравьями, и топчет в прах целый мирок. О нет, не великие, исключительные всемирные бедствия трогают меня, не потопы, смывающие ваши деревни, не землетрясения, поглощающие ваши города: я не могу примириться с разрушительной силой, сокрытой во всей природе и ничего не создавшей такого, что не истребляло бы своего соседа или самого себя. И я мечусь в страхе. Вокруг меня животворящие силы неба и земли. А я не вижу ничего, кроме всепожирающего и все перемалывающего чудовища.
21 августа
Напрасно простираю я к ней объятия, очнувшись утром от тяжких снов, напрасно ищу ее ночью в своей постели, когда в счастливом и невинном сновидении мне пригрезится, будто я сижу возле нее на лугу и осыпаю поцелуями ее руку. Когда же я тянусь к ней, еще одурманенный дремотой, и вдруг просыпаюсь, – поток слез исторгается из моего стесненного сердца, и я плачу безутешно, предчувствуя мрачное будущее.
22 августа
Это поистине несчастье, Вильгельм! Мои деятельные силы разладились, и я пребываю в какой-то тревожной апатии, не могу сидеть сложа руки, но и делать ничего не могу. У меня больше нет ни творческого воображения, ни любви к природе, и книги противны мне. Когда мы потеряли себя, все для нас потеряно… Право же, иногда мне хочется быть поденщиком, чтобы, проснувшись утром, иметь на предстоящий день хоть какую-то цель, стремление, надежду. Часто, глядя, как Альберт сидит, зарывшись по уши в деловые бумаги, я завидую ему и, кажется, был бы рад поменяться с ним. Сколько раз уж было у меня поползновение написать тебе и министру и ходатайствовать о месте при посольстве, в чем, по твоим уверениям, мне не было бы отказано. Я и сам в этом уверен: министр с давних пор ко мне расположен и давно уже настаивал, чтобы я занимался каким-нибудь делом! Я ношусь с этой мыслью некоторое время. А потом, как подумаю хорошенько да вспомню басню о коне, который, прискучив свободой, добровольно дал себя оседлать и загнать до полусмерти, – тут уж я совсем не знаю, как быть! Милый друг, что, если только тягостная душевная тревога вынуждает меня жаждать перемен и все равно повсюду будет преследовать меня?
28 августа
Без сомнения, будь моя болезнь исцелима, только эти люди могли бы вылечить ее. Сегодня день моего рождения. Рано утром я получаю сверточек от Альберта. Раскрываю его и прежде всего нахожу один из розовых бантов, которые были на Лотте, когда мы познакомились, и которые я не раз просил у нее. К этому были приложены две книжечки в двенадцатую долю листа – маленький Гомер в ветштейновском издании[14], которое я давно искал, чтобы не таскать с собой на прогулку эрнестовские фолианты. Видишь, как они угадывают мои желания и спешат оказать мелкие дружеские услуги, в тысячу раз более ценные, нежели пышные дары, которые тешат тщеславие даятеля и унижают нас. Я без конца целую этот бант, вдыхая воспоминание о счастье, которым наполнили меня те недолгие, блаженные, невозвратимые дни. Так уж водится, Вильгельм, и я не ропщу; цветы жизни одна лишь видимость. Сколько из них облетает, не оставив следа! Плоды дают лишь немногие, и еще меньше созревает этих плодов! А все-таки их бывает достаточно, и что же… брат мой, неужто мы презрим, оставим без внимания зрелые плоды, дадим им сгнить, не вкусив их!
Прощай! Лето великолепное! Часто я взбираюсь на деревья в плодовом саду у Лотты и длинным шестом снимаю с верхушки спелые груши, а Лотта стоит внизу и принимает их у меня.
30 августа
Несчастный! Ужели я так глуп? Ужели продолжаю обманывать себя? К чему приведет эта буйная, буйная страсть? Я молюсь ей одной, воображение вызывает передо мной лишь ее образ, все на свете существует для меня лишь в соединении с ней. Сколько счастливых минут при этом переживаю я, но в конце концов мне приходится покидать ее! Ах, Вильгельм! Если бы ты знал, куда порой влечет меня сердце!
Когда я посижу у нее часа два-три, наслаждаясь ее красотой, грацией, чудесным смыслом ее слов, чувства мои мало-помалу достигают высшего напряжения, в глазах темнеет, я почти не слышу, что-то сжимает мне горло убийственной хваткой, а сердце болезненными ударами стремится дать выход чувствам и лишь усиливает их смятение, – Вильгельм, в такие минуты я не помню себя. И если порой грусть не берет верх и Лотта не отказывает мне в скудном утешении выплакать мою тоску, склонясь над ее рукой, – тогда я рвусь прочь на простор. Тогда я бегаю по полям, и лучшая моя отрада – одолеть крутой подъем, проложить тропинку в непроходимой чаще, продираясь сквозь терновник, напарываясь на шипы. После этого мне становится легче, чуть-чуть легче. Иногда от усталости и жажды я падаю в пути, иногда глубокой ночью при свете полной луны я сажусь в глухом лесу на согнувшийся сук, чтобы дать немножко отдыха израненным ногам, а потом перед рассветом забываюсь томительным полусном! – Ах, Вильгельм, пойми, что одинокая келья, власяница и вериги были бы теперь блаженством для моей души. Прощай! Я не вижу иного конца этим терзаниям, кроме могилы!
3 сентября
Мне надо уехать! Благодарю тебя, Вильгельм, за то, что ты принял за меня решение и положил конец моим колебаниям. Две недели ношусь я с мыслью, что мне надо ее покинуть. Надо уехать. Она опять гостит в городе у подруги. И Альберт… и… мне надо уехать!
10 сентября
Что это была за ночь! Теперь я все способен снести, Вильгельм. Я никогда больше ее не увижу! Ах, если бы мог я броситься тебе на шею, друг мой, чтобы в слезах умиления излить все чувства, теснящие грудь! А вместо этого я сижу тут, с трудом переводя дух, стараюсь успокоиться и жду утра, – лошадей подадут на рассвете.
Ах, она спит спокойно и не подозревает, что никогда больше не увидится со мной. У меня хватило силы оторваться от нее, не выдав своих намерений в двухчасовой беседе. И какой беседе, боже правый!
Альберт обещал мне сейчас же после ужина сойти в сад вместе с Лоттой. Я стоял на террасе под большими каштанами и провожал взглядом солнце, в последний раз на моих глазах заходившее над милой долиной, над тихой рекой.
Сколько раз стоял я здесь с нею, созерцая то же чудесное зрелище, а теперь… Я шагал взад и вперед по моей любимой аллее. Таинственная симпатическая сила часто привлекала меня сюда еще до встречи с Лоттой, и как же мы обрадовались, когда в начале знакомства обнаружили обоюдное влечение к этому уголку, поистине одному из самых романтических, какие когда-либо были созданы рукой человека.
Вообрази себе: сперва между каштановыми деревьями открывается широкая перспектива. Впрочем, я, кажется, уже не раз описывал тебе, как высокие стены буков мало-помалу сдвигаются и как аллея от примыкающего к ней боскета становится еще темнее и заканчивается замкнутым со всех сторон уголком, в котором всегда веет ужасом одиночества. Помню как сейчас, какой трепет охватил меня, когда я впервые попал сюда в летний полдень: тайное предчувствие подсказывало мне, сколько блаженства и боли будет здесь пережито.
С полчаса предавался я мучительным и сладостным думам о разлуке и грядущей встрече, когда услышал, что они поднимаются на террасу. Я бросился им навстречу, весь дрожа, схватил руку Лотты и прильнул к ней губами. Едва мы очутились наверху, как из-за поросшего кустарником холма взошла луна; болтая о том, о сем, мы незаметно приблизились к сумрачной беседке. Лотта вошла и села на скамью, Альберт сел рядом, я тоже, но от внутренней тревоги не мог усидеть на месте, вскочил, постоял перед ними, прошелся взад и вперед, сел снова; состояние было тягостное. Она обратила наше внимание на залитую лунным светом террасу в конце буковой аллеи – великолепное зрелище, тем более поразительное, что нас обступала полная тьма. Мы помолчали, а немного погодя она заговорила снова: