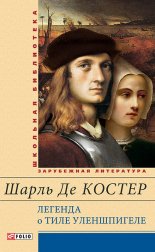Под стеклянным колпаком Плат Сильвия

Я научилась этому в тот день, когда Джей Си взяла меня на обед с известным поэтом. На нем был жуткий, мешковатый, весь в пятнах коричневый твидовый пиджак, серые брюки и пуловер в красно-синюю клетку, а обед происходил в фешенебельном ресторане с фонтанами и хрустальными люстрами, где остальные мужчины были одеты в темные костюмы и ослепительно-белые рубашки.
Сей поэт ел салат руками, выуживая из тарелки листик за листиком, пока говорил со мной об антитезе природы и искусства. Я не могла отвести глаз от его бледных, узловатых пальцев, сновавших от тарелки ко рту, один за другим перемещая туда листья салата, с которых капал соус. Никто не хихикал и не делал укоризненных замечаний. Поэт вел себя так, что поедание салата руками казалось донельзя естественным и рациональным.
Поблизости не наблюдалось ни редакторов из нашего журнала, ни кого-то из сотрудников «Дамского дня», и Бетси выглядела милой и дружелюбной. Казалось даже, что она не любит икру, так что я чувствовала себя все увереннее и увереннее. Опустошив первую тарелку с холодной курятиной и икрой, я положила себе еще. Затем с усердием принялась за авокадо и салат из крабов.
Авокадо – мой любимый фрукт. Каждое воскресенье дедушка приносил мне одно авокадо, спрятанное на дне чемоданчика под шестью грязными рубашками и воскресными комиксами. Он научил меня, как нужно есть авокадо: развести в кастрюле виноградное желе и салатную заправку из уксуса и растительного масла и заполнить половинки плода соусом темно-красного цвета. Мне захотелось домой, к этому соусу. По сравнению с ним у крабов был пресный вкус.
– Как прошел показ мехов? – спросила я Бетси, когда окончательно перестала опасаться конкуренции насчет моей икры. Я собрала с тарелки последние черные солоноватые икринки ложкой для супа и тщательно облизала ее.
– Просто чудесно, – улыбнулась Бетси. – Нам показали, как сделать универсальный шарфик из норковых хвостов и золотой цепочки, ну, такой, точную копию которого можно купить в «Вулворте» за доллар девяносто восемь центов. А сразу после этого Хильда бросилась на оптовые меховые склады и купила целый ворох норковых хвостов с большой скидкой. Потом забежала в «Вулворт» и сделала себе шарф, пока мы ехали в автобусе.
Я перевела взгляд на Хильду, сидевшую по другую сторону от Бетси. И вправду, на ней был дорого смотревшийся шарф из меховых хвостов, скрепленных свисавшей вниз позолоченной цепочкой.
Я никогда до конца не понимала Хильду. Она была ростом метр восемьдесят, с огромными, чуть раскосыми глазами, пухлыми алыми губами и каким-то отрешенным выражением лица, как у славянки. Она делала шляпки. Ее прикрепили к редактору отдела моды, что ставило ее особняком среди девушек с более заметными литературными наклонностями, вроде Дорин, Бетси и меня, которые писали колонки, даже если некоторые из них касались лишь красоты и здоровья. Не знаю, умела ли Хильда читать, но шляпки она делала потрясающие. В Нью-Йорке она посещала специальные курсы шляпных мастеров, и каждый день надевала на работу новую шляпку, сделанную собственными руками из соломки, меха, лент или вуалевой ткани в различных сочетаниях и цветовых гаммах.
– Это удивительно, – сказала я. – Просто удивительно.
Мне не хватало Дорин. Та отпустила бы какое-нибудь тонкое язвительное замечание по поводу мехового украшения Хильды, чтобы рассмешить и взбодрить меня.
Я пребывала в унынии. Ведь в то самое утро сама Джей Си «расколола» меня, и теперь мне казалось, что мои мрачные подозрения касательно себя самой начинают сбываться и я больше не смогу долго скрывать правду. После девятнадцати лет беготни за отличными оценками, всевозможными призами и грантами я начала давать слабину и тормозить, явно сходя с дистанции.
– А почему ты не пошла с нами на показ мехов? – спросила Бетси. У меня создалось впечатление, что она повторяется и уже задавала мне тот же вопрос минуту назад, только я, наверное, не слышала. – Ты куда-то отправилась с Дорин?
– Нет, – ответила я. – Мне хотелось попасть на показ мехов, но позвонила Джей Си и велела мне явиться в офис.
Насчет своего желания пойти на показ мехов я немного покривила душой, но попыталась убедить себя, что так оно и было, чтобы почувствовать себя по-настоящему уязвленной тем, что сделала Джей Си.
Я рассказала Бетси, как утром, лежа в постели, планировала пойти на показ мехов. Чего я ей не рассказала, так это того, что чуть раньше ко мне в номер зашла Дорин и предложила:
– Зачем тебе идти на этот идиотский показ? Мы с Ленни собираемся на Кони-Айленд, поехали с нами, а? Ленни найдет тебе хорошего кавалера, а то день так и пропадет к чертовой матери с этим званым обедом, а потом еще кинопремьерой. Нашего отсутствия никто и не заметит.
Какую-то минуту я колебалась. Показ представлялся мне и вправду идиотским. Я никогда не интересовалась мехами. В конечном итоге я решила всласть поваляться в постели, а потом отправиться в Центральный парк и целый день пролежать на траве, самой высокой, какую только найду в этой выстриженной, усеянной прудами с уточками пустыне.
Я ответила Дорин, что не пойду ни на показ, ни на званый обед, ни на премьеру, но на Кони-Айленд тоже не поеду, а лучше полежу. После ухода Дорин я вдруг подумала: почему я больше не могу делать то, что должно делать? От этих мыслей меня охватили тоска и уныние. Потом я подумала: почему я больше не могу делать все, что мне заблагорассудится, как Дорин? И от этого мне сделалось еще тоскливее.
Я не знала, который час, но слышала, как в коридоре шумели и щебетали наши девушки, собираясь на показ мехов, а потом все стихло. Лежа на кровати, я откинулась на спину и уставилась в безликий белый потолок, и воцарившиеся тишина и неподвижность, казалось, все росли и росли, пока я не почувствовала, что у меня вот-вот лопнут барабанные перепонки. И тут зазвонил телефон.
Несколько мгновений я пристально смотрела на него. Трубка чуть подрагивала на фарфорово-белом рычаге, и я убедилась, что телефон действительно звонит. Я подумала, что могла дать свой номер кому-нибудь на танцах или на приеме, а потом забыла об этом. Я подняла трубку и произнесла чуть хрипловатым, приветливым голосом:
– Алло?
– Это Джей Си, – грубовато, но отчетливо затараторила Джей Си. – Я тут подумала: не планируешь ли ты сегодня появиться в офисе?
Я вжалась в матрас. Я понятия не имела, почему Джей Си вдруг решила, что я собираюсь в офис. Нам всем раздали отпечатанные на ксероксе карточки с расписанием, чтобы мы могли отслеживать все занятия, и очень часто утром и днем мы не появлялись в офисе, а выезжали в город на какие-то мероприятия. Разумеется, кое-какие из них не являлись обязательными.
В воздухе повисла долгая пауза. Затем я кротким тоном ответила:
– Я думала отправиться на показ мехов.
Конечно, у меня и в мыслях этого не было, но ничего лучше мне придумать на ходу не удалось.
– Я ответила ей, что думала отправиться на показ мехов, – сказала я Бетси. – Но она велела мне приехать в офис, у нее ко мне был небольшой разговор, да еще меня ждала какая-то работа.
– Ой-ой-ой! – сочувственно воскликнула Бетси.
Наверное, она заметила слезы, капавшие в мою десертную тарелку с безе и мороженым с коньяком, потому что придвинула ко мне свой нетронутый десерт, и я рассеянно принялась за него, после того как доела свой. Мне стало неудобно за то, что я не смогла сдержать слез, но тому имелись реальные причины. Джей Си наговорила мне ужасных вещей.
Когда примерно в десять часов я робко проскользнула в офис, Джей Си встала, обошла свой стол и закрыла дверь. Я села напротив нее, на вращающийся стул за свой столик с пишущей машинкой, а она опустилась на вращающийся стул у себя за столом и повернулась лицом ко мне. На окне одна над другой возвышались полки с цветочными горшками, и растения у нее за спиной казались тропическим садом.
– Разве тебя не интересует твоя работа, Эстер?
– Ой, интересует, интересует, – торопливо ответила я. – Очень интересует.
Мне хотелось прокричать эти слова, как будто от этого они сделаются убедительнее, но я сдержалась.
Всю жизнь я твердила себе, что очень хочу учиться, читать, писать и работать как сумасшедшая. И это действительно казалось правдой. У меня все получалось, и я училась на круглые пятерки, и к тому времени, как поступила в колледж, меня уже никто не мог остановить.
Я была студенческим корреспондентом городской газеты, редактором литературного журнала и секретарем студенческого совета, в ведении которого, в частности, были академические и общественные проступки, правонарушения и наказания за них, – престижное место. А на факультете одна знаменитая поэтесса и профессор прочила мне магистратуру в лучших университетах Восточного побережья. Мне всюду обещали высокие стипендии, а сейчас я стажировалась под началом лучшего редактора интеллектуального журнала мод. И после всего этого я могла лишь упираться, как усталая ломовая лошадь?
– Мне очень интересно все на свете. – Мои слова падали на стол Джей Си с глухим бряканьем, словно деревянные монетки.
– Рада слышать, – несколько ядовито ответила Джей Си. – Ты сама знаешь, что можешь многому научиться за месяц работы в нашем журнале, если засучишь рукава. Стажировавшаяся здесь до тебя девушка не отвлекалась на всякие там показы мод. Отсюда ее взяли прямиком в журнал «Тайм».
– Ух ты! – отозвалась я тем же замогильным голосом. – Вот это взлет!
– Конечно, тебе еще год учиться в колледже, – чуть смягчившись, продолжила Джей Си. – А чем ты думаешь заняться после выпуска?
Мне всегда казалось, что я получу какую-нибудь большую стипендию в магистратуре или грант на учебу с поездками по всей Европе. А потом я виделась себе профессором, издающим сборники стихов. Или же поэтессой, издающей сборники стихов и совмещающей это с какой-то редакторской деятельностью. Обычно я долго не раздумывала, сообщая об этих планах.
– Пока точно не знаю, – услышала я собственный голос.
Я испытала глубокое потрясение от этих своих слов, потому что, как только их произнесла, поняла, что так оно и есть.
Это прозвучало искренне, и я осознала это примерно так же, как осознаешь, что некий невзрачный субъект, который годами ошивался у твоего дома, а потом вдруг явился и представился твоим настоящим отцом, и есть твой настоящий отец, да вы с ним и похожи, как две капли воды, а тот, которого ты всю жизнь считала своим отцом, – просто мошенник.
– Пока точно не знаю.
– Так ты ничего не добьешься. – Джей Си ненадолго умолкла. – Как у тебя с языками?
– Ну, я немного читаю по-французски, и, по-моему, мне всегда хотелось выучить немецкий. – Я лет пять всем говорила, что мне всегда хотелось выучить немецкий.
Моя мама в детстве, проведенном в Америке, говорила по-немецки, и за это во время Первой мировой войны ее в школе забросали камнями. Мой немецкоговорящий отец, умерший, когда мне было девять лет, был родом из забытой Богом деревушки в самом центре мрачной Пруссии. Мой младший брат в тот момент отправился в Берлин по программе международного школьного обмена и говорил по-немецки, как на родном языке.
Чего я не сказала, так это того, что каждый раз, когда я брала в руки немецко-английский словарь или немецкую книгу, при одном лишь виде этих плотно стоящих, черных, словно свитых из колючей проволоки букв, мое сознание захлопывалось, как раковина двустворчатого моллюска.
– Я всегда думала, что мне понравится работать в издательской отрасли. – Я пыталась вновь ухватиться за ниточку, которая, возможно, вернет меня к прежнему блестящему умению подать себя. – Мне кажется, что я постараюсь устроиться в какое-нибудь издательство.
– Тебе нужно уметь читать по-французски и по-немецки, – безжалостно заключила Джей Си, – и, возможно, еще на каких-то языках. На испанском, итальянском, а еще лучше – и на русском. Каждый год в июне Нью-Йорк наводняют тысячи девушек, надеющихся выбиться в редакторы. Тебе нужно обладать чем-то большим, нежели банальной добросовестностью и исполнительностью. Необходимо выучить языки.
У меня не хватило духу сказать Джей Си, что мой учебный план на выпускной курс был настолько плотным, что втиснуть туда еще и языки представлялось совершенно невозможным. Я занималась по одной из программ для студентов-отличников, развивавших независимое мышление, и помимо курса по Толстому и Достоевскому вкупе с семинаром по углубленному изучению поэтической композиции мне предстояло посвятить все оставшееся время написанию работы по какой-то невразумительной теме в творчестве Джеймса Джойса. Тему я еще не выбрала, потому что не успела прочесть «Поминки по Финнегану», но моего научного руководителя очень воодушевила моя будущая работа, и он обещал дать мне кое-какие наметки по теме близнецов, двойников и антиподов.
– Я посмотрю, что смогу сделать, – ответила я Джей Си. – Возможно, у меня получится попасть на какие-нибудь ускоренные курсы начального уровня немецкого, которых сейчас полным-полно.
В тот момент мне показалось, что я и вправду могу на них поступить. Мне удавалось уговорить кураторшу курса разрешать мне делать что-то за рамками программы. Она рассматривала меня как объект интересного методического эксперимента.
В колледже мне пришлось пройти обязательный курс физики и химии. Я уже закончила курс ботаники и получила прекрасный результат. За весь год я ни разу не ошиблась в ответах на тестовые вопросы и какое-то время подумывала о том, чтобы стать ботаником и изучать дикие травы в Африке или тропические леса в Южной Америке, потому что гораздо легче получить большой грант на изучение чего-нибудь необычного в экзотических местах, нежели искусства в Италии или английской филологии в Англии. Тут гораздо меньше конкурентов.
Я полюбила ботанику, потому что мне нравилось обрезать листья и помещать их под микроскоп, рисовать диаграммы роста хлебной плесени и странные, в форме сердца, листья папоротника во время его полового размножения. И все это казалось мне ощутимым и реальным.
Когда я явилась на первое занятие по физике, то поняла, что пришла моя смерть. Низкорослый смуглый мужчина с высоким шепелявым голосом в облегающем синем костюме стоял перед студентами, держа в руке небольшой деревянный шар. Звали его мистер Манци. Он положил шар на край установленного под острым углом желоба, потом отпустил шар, и тот скатился вниз. Потом он начал говорить о допустимом равном ускорении «а» в допустимом равном отрезке времени «t» и вдруг принялся так быстро покрывать доску буквами, цифрами и знаками равенства, что я тотчас же отупела.
Я принесла учебник физики к себе в общежитие. Он представлял собой огромную брошюру, отпечатанную на ротаторе, в четыреста страниц без рисунков и фотографий, испещренных сплошь диаграммами, графиками и формулами, на шершавой бумаге и в обложке из кирпично-красного картона. Мистер Манци написал ее с целью объяснить физику студенткам колледжей, и если все пройдет успешно на нашем курсе, он постарается опубликовать свой учебник.
Ну вот, я изучала формулы, ходила на занятия, смотрела на катившиеся по желобам шары, слушала звонки на перемены, а когда в конце семестра большинство девочек завалили экзамен, получила твердую пятерку. Я слышала, как мистер Манци говорил нескольким студенткам, жаловавшимся, что курс оказался слишком трудным:
– Нет, он не слишком труден, поскольку одна из вас получила твердую пятерку.
– Скажите, кто это? – спросили они.
Но он лишь молча покачал головой и улыбнулся мне чуть заметной заговорщической улыбкой.
Это навело меня на мысль о том, как бы мне в следующем семестре увильнуть от химии. Может, я и получила твердую пятерку по физике, но меня охватила страшная паника. Меня тошнило от физики все время, что я ее учила. Я не могла вынести того, что все сжималось в буквы и цифры. Вместо контуров листьев, увеличенных снимков пор, через которые эти листья дышат, и завораживающих слов вроде «каротин» и «ксантофилл», написанных на доске, там красовались жуткие, сдавленные, похожие на скорпионов формулы, которые мистер Манци специально писал красным мелом.
Я знала, что с химией будет еще хуже, потому что видела висевшую в химическом кабинете огромную таблицу из девяноста с чем-то элементов, где все совершенно нормальные слова вроде «золото», «серебро», «кобальт» и «алюминий» усекались до жутких сокращений с двузначными числами под ними. Если я еще раз нагружу свой мозг чем-то подобным, то просто сойду с ума и сразу же все завалю. Только страшным усилием воли я протащила себя через первое полугодие.
Так что я отправилась к кураторше курса, имея в запасе хитроумный план. Он состоял в том, что мне было нужно время на курс по творчеству Шекспира, поскольку я, в конечном-то итоге, специализировалась на английском языке и литературе. Мы с ней обе прекрасно знали, что по химии я снова получу твердую пятерку, так зачем мне вообще сдавать экзамен? Почему бы просто не походить на занятия, послушать и постараться вникнуть, забыв об оценках и отличиях? Это было делом чести между людьми чести, и содержание значило гораздо больше, нежели форма, а сами оценки выглядят глуповато, не так ли, когда знаешь, что все равно получишь пятерку? Мой план подкреплялся еще и тем фактом, что колледж только что отказался от второго года обязательных естественно-научных дисциплин, так что моему курсу выпало последнему страдать по старой программе.
Мистер Манци был полностью согласен с моим планом. По-моему, ему льстило, что мне так нравились его занятия, что я стану посещать их не из корыстных побуждений вроде отличий и пятерки, а только из-за изящества самой химии. Мне казалось, я повела себя очень изобретательно, предложив высидеть курс химии даже после того, как переключилась на Шекспира. Это было избыточным проявлением рвения, но все выглядело так, будто бы я оказалась просто не в силах бросить химию.
Конечно, моя задумка ни за что бы не удалась, если бы я в самом начале не получила пятерку. Если бы кураторша курса знала, как я напугана и подавлена и что я вполне серьезно рассматривала крайние меры вроде получения справки от врача о том, что мне противопоказано заниматься химией, что от формул у меня начинается головокружение и все прочее, она бы точно не стала меня слушать и, несмотря ни на что, заставила бы взять этот курс.
Так уж получилось, что ученый совет удовлетворил мое «прошение», и позже кураторша курса сказала мне, что оно глубоко тронуло нескольких профессоров. Они восприняли его как реальное проявление интеллектуальной зрелости.
Меня распирало от смеха, когда я думала об окончании того учебного года. Я пять дней в неделю ходила на занятия по химии и не пропустила ни одного. Мистер Манци стоял в самом низу большого, ветхого от старости амфитеатра и выливал содержимое одной пробирки в другую, зажигая голубое пламя, вызывая красные вспышки и пуская клубы желтого дыма. Я же отключала его голос, внушая себе, что это комар пищит где-то вдалеке, и сидела, любуясь яркими огнями и цветастыми язычками пламени, исписывая при этом страницу за страницей пасторальными стишками и сонетами.
Мистер Манци время от времени поглядывал на меня и, видя, что я что-то пишу, улыбался мне чуть заметной одобрительной улыбкой. По-моему, он думал, что я записываю все эти формулы не для экзамена, как остальные девочки, а потому, что егоизложение меня увлекает и я не могу отказать себе в этом удовольствии.
Глава четвертая
Сама не знаю почему, сидя в кабинете Джей Си, я вдруг вспомнила, как успешно увиливала от химии. Все время, пока она со мной говорила, я видела стоявшего у нее за спиной мистера Манци, появившегося там, словно из цилиндра фокусника. В руках он держал небольшой деревянный шар и лабораторную пробирку, из которой за день до пасхальных каникул вырвался огромный клуб желтого дыма, вонявший тухлыми яйцами, отчего все девочки и мистер Манци весело рассмеялись.
Мне стало жаль мистера Манци. Мне захотелось подползти к нему на четвереньках и попросить прощения за то, что я его так подло обманула.
Джей Си подала мне стопку рукописей рассказов и заговорила куда более благожелательным тоном. Остаток утра я занималась тем, что читала рассказы и печатала свои отзывы на них на специальной розовой бумаге, после чего отсылала все это в кабинет редактора, у которого стажировалась Бетси, чтобы Бетси прочла их на следующий день. Джей Си иногда прерывала меня, чтобы сказать что-нибудь полезное или просто поделиться очередной сплетней.
В полдень Джей Си предстоял обед с известными писателем и писательницей. Писатель только что продал шесть рассказов журналу «Нью-Йоркер» и еще шесть – Джей Си. Это меня удивило, потому что я не знала, что журналы покупают рассказы пакетами по шесть штук, и пришла в ступор от одной мысли о том, сколько денег принесут автору эти шесть рассказов. Джей Си сказала, что на этом обеде ей нужно будет вести себя очень осторожно, поскольку писательница тоже сочиняла рассказы, но в «Нью-Йоркере» никогда не публиковалась, а сама Джей Си взяла у нее за пять лет всего один рассказ. Джей Си придется льстить более известному писателю и в то же время постараться не задеть менее знаменитую литераторшу.
Когда херувимы на настенных часах Джей Си в стиле Людовика XIV замахали крылышками, поднесли трубы к своим пухлым губкам и один за другим проиграли двенадцать тактов, Джей Си сказала мне, что на сегодня достаточно и что я могу отправляться в «Дамский день» на экскурсию и банкет, после чего – на кинопремьеру, а завтра с утра пораньше она ждет меня свежей и отдохнувшей. Затем она накинула жакет поверх сиреневой блузки, нацепила на голову шляпку с искусственными веточками сирени, быстренько припудрила нос и поправила очки с толстыми линзами. Выглядела она ужасно, но чрезвычайно интеллигентно. Выходя из кабинета, потрепала меня по плечу рукой в сиреневой перчатке.
– Не позволяй этому жуткому городу сломать себя.
Несколько минут я тихонько сидела на своем вращающемся стуле и думала о Джей Си. Я представила, каково это будет сделаться Э Гэ, известным редактором, сидящим в кабинете, полном горшков с искусственными цветами и сенполиями, которые каждое утро должна поливать моя секретарша. Я пожалела, что моя мама не походила на Джей Си. Тогда бы я точно знала, что мне делать.
Моя родная мать в этом отношении была мне не помощница. Она преподавала стенографию и машинопись с той самой поры, как умер папа, и втайне ненавидела и это занятие, и отца – за то, что он умер и оставил нас без денег, потому что не доверял агентам по страхованию жизни. Она всегда внушала мне, чтобы я после колледжа обучилась стенографии, ведь тогда у меня были бы и практические навыки, и диплом об окончании колледжа.
– Даже апостолам приходилось плотничать, – твердила она. – Надо было добывать хлеб насущный, как и нам.
Я опустила пальцы в небольшую чашу с теплой водой, которой официантка из «Дамского дня» заменила две пустые вазочки из-под мороженого. Затем я аккуратно вытерла каждый палец совсем еще чистой полотняной салфеткой. Потом свернула салфетку, пропустила ее между губами и точно рассчитанным движением сжала их. Когда я положила салфетку на стол, на ней посередине розовело сердечко с чуть размытыми краями.
Я подумала о том, какой долгий путь я прошла. Впервые я увидела чашу для омовения пальцев в доме моей благотворительницы. В нашем колледже было заведено, как сказала мне хрупкая веснушчатая дама из отдела стипендиатов, писать благодарственное письмо человеку, чью именную стипендию ты получаешь, если он еще жив.
Я получала стипендию Филомены Гини, богатой романистки, учившейся в нашем колледже в начале XX века. Ее первый роман был экранизирован в немом кино с Бетт Дэвис в главной роли, а потом переделан в сериал, до сих пор звучавший по радио. Оказалось, что она жива и обитает в огромном особняке неподалеку от загородного клуба, где работал мой дедушка.
Так вот, я написала Филомене Гини длинное письмо черными, как ночь, чернилами на сероватой бумаге с тисненым красным названием колледжа наверху. Я писала о том, как выглядят осенние листья, когда я еду на велосипеде меж холмов, как прекрасно жить в общежитии, а не возвращаться каждый день из колледжа домой, как передо мной открывается вся сокровищница знаний и как когда-нибудь я, наверное, смогу писать такие же великие романы, как она.
Я прочла одну из книг миссис Гини в читалке городской библиотеки – в библиотеке колледжа они по какой-то причине отсутствовали, – она от начала до конца кишела длинными интригующими вопросами вроде: «Догадается ли Эвелин, что Глэдис когда-то давно была знакома с Роджером?» – лихорадочно ломал голову Гектор». Или: «Как Дональд мог жениться на ней, когда узнал о малютке Элси, спрятанной миссис Роллмоп на отдаленной ферме?» – задала Гризельда немой вопрос своей холодной, залитой лунным светом подушке». Эти книги принесли Филомене Гини, впоследствии рассказавшей мне, что в колледже она перебивалась с двойки на тройку, миллионы и миллионы долларов.
Миссис Гини ответила на мое письмо и пригласила меня к себе домой отобедать. Вот там-то я впервые и увидела чашу для омовения пальцев.
В воде плавали несколько лепестков вишни, и я решила, что это, наверное, какой-то прозрачный японский послеобеденный бульон, и проглотила содержимое чаши целиком, включая маленькие жесткие лепестки. Миссис Гини не произнесла ни слова, и лишь гораздо позже, когда я рассказала об обеде одной знакомой первокурснице, я узнала, что на самом деле натворила.
Выйдя из ярко освещенной редакции «Дамского дня», мы оказались на серых улицах, источавших запах дождя. Это был не приятный освежающий дождик, а скорее ливень, какой, по-моему, бывает в Бразилии. Он отвесно падал с неба каплями размером с блюдце и обрушивался на раскаленные тротуары с шипением, после чего на блестящем сером бетоне вздымались крохотные облачка пара.
Моя сокровенная мечта провести остаток дня одной в Центральном парке сгинула в напоминающих венчик для взбивания яиц вращающихся дверях «Дамского дня». Я почувствовала, как меня выбросило через теплую стену дождя в полумрак подрагивающего чрева такси, где я оказалась вместе с Бетси, Хильдой, Эмили Энн Оффенбах и чопорной молодой низкорослой женщиной с пучком рыжих волос, которую в Тинеке, штат Нью-Джерси, дожидались муж и трое детей.
Фильм оказался из рук вон слабым. Главные роли в нем играли миловидная блондинка, похожая на Джун Эллисон, но не сама Джун, сексуальная брюнетка, похожая на Элизабет Тейлор, но тоже не сама Лиззи, и два здоровенных широкоплечих болвана с именами вроде Рика и Джиля.
Это была любовная история из жизни футболистов, снятая на цветную пленку. Ненавижу подобные картины. Похоже, все снимающиеся в гламурно-цветных лентах просто обязаны в каждой новой сцене появляться в ярко-кричащих костюмах и красоваться, словно на показе мод, на фоне ярко-зеленых деревьев, ярко-желтой пшеницы или лазурного океана, простирающихся на многие километры во всех направлениях.
Действие картины по большей части происходило на футбольных трибунах, где девушки в шикарных нарядах с приколотыми к ним оранжевыми хризантемами размером с кочан капусты размахивали руками и кричали. Или в танцевальном зале, где они с кавалерами кружились по паркету в платьях, похоже, позаимствованных из реквизита к «Унесенным ветром», а потом исчезали «попудрить носик» с целью обрушить друг на друга град всяких колкостей.
Наконец я начала понимать, что миловидная девушка останется с героем-футболистом, а сексуальная особа – ни с кем, поскольку парню по имени Джиль всегда хотелось иметь любовницу, а не жену, и теперь он собирался в Европу с билетом только для себя.
В этот момент меня охватило странное ощущение. Я оглянулась на ряды сосредоточенных на действии лиц, озаренных одинаковым серебристым сиянием спереди и погруженных в одинаковую темноту сзади, и они показались мне какими-то тупыми лунатиками.
Меня охватил жуткий страх, что меня вот-вот вырвет. Я не знаю, от чего у меня разболелся живот: от этой дурацкой картины или от икры, которую я съела на приеме.
– Я возвращаюсь в гостиницу, – прошептала я Бетси сквозь полумрак.
Бетси с необычайной сосредоточенностью пристально смотрела на экран.
– Тебе нехорошо? – шепотом спросила она, едва шевеля губами.
– Да, – ответила я. – Мне ужас как плохо.
– Мне тоже. Я с тобой.
Мы выскользнули из кресел и с бесконечными «простите-извините» прошли вдоль ряда, а люди ворчали и шипели на нас, шурша калошами и зонтами, чтобы дать нам пройти. Я наступила на все ноги, на какие только могла, поскольку это отвлекало меня от страшного позыва на рвоту, который охватывал меня так быстро, что у меня темнело в глазах.
Когда мы вышли на улицу, дождь уже кончался. Бетси выглядела ужасающе. Румянец сполз у нее со щек, и ее внезапно осунувшееся лицо, позеленевшее и покрытое потом, плыло у меня перед глазами. Мы буквально рухнули в одно из желтых такси с шашечками, которые всегда ждут у тротуара, когда ты решаешь, нужно тебе такси или нет, и, пока доехали до гостиницы, меня вырвало один раз, а Бетси – два.
Таксист закладывал повороты с такой лихостью, что нас на заднем сиденье швыряло из стороны в сторону. Каждый раз, когда кого-то из нас тошнило, одна тихонько наклонялась вперед, словно что-то уронила и пытается поднять это с пола, другая же принималась мурлыкать какую-нибудь мелодию, делая вид, что смотрит в окно.
Но даже при такой «маскировке» шофер, похоже, догадался, чем мы там занимаемся.
– Эй, – возмутился он, проскакивая на красный, – моя машина не для этого, вылезайте и делайте на улице, что захотите!
Но мы ничего не ответили, и, по-моему, он догадался, что мы почти у гостиницы, так что не стал нас выгонять, пока мы не затормозили у главного входа.
Мы решили не ждать, пока таксист накрутит нам плату за ущерб, сунули ему в руку пригоршню серебряных монет, бросили на пол пару салфеток, чтобы прикрыть безобразие, вбежали в вестибюль и рванулись к пустому лифту. К счастью для нас, в это время в отеле стояло затишье. В лифте Бетси вырвало еще раз, и я придерживала ее голову, а когда вырвало меня, она придерживала мою.
Обычно после того, как тебя хорошенько прочистит, ты сразу же чувствуешь себя лучше. Мы обнялись, попрощались и разошлись в разные концы коридора, чтобы прилечь каждая у себя в номере. Нет лучше способа с кем-то подружиться, как вместе проблеваться.
Но едва я закрыла за собой дверь, разделась и доползла до кровати, как мне сделалось совсем худо. Мне приспичило в туалет. Я с трудом натянула белый халатик с голубыми васильками и нетвердыми шагами добралась до туалета.
Там уже была Бетси. Через дверь я слышала ее стоны, так что быстренько завернула за угол и поплелась к туалету в другом крыле. Мне казалось, что по дороге я отдам концы – так до него было далеко.
Я села на унитаз, свесила голову через край раковины и подумала, что у меня вынесет все кишки вместе с обедом. Тошнота накатывала гигантскими волнами. После каждого приступа она ослабевала, я обмякала, как мокрый лист, и меня бросало в дрожь. Затем волна вздымалась снова, и блестящий белый кафель, словно в пыточной камере, у меня под ногами, над головой и вокруг меня, казалось, смыкался, чтобы вот-вот раздавить меня в лепешку.
Не помню, сколько я там просидела. Я открыла холодную воду, вытащила затычку, и вода с громким шумом устремилась вниз, так что любой проходивший мимо подумал бы, что я стираю одежду. Чуть позже, ощутив себя в относительной безопасности, я растянулась на полу и замерла.
Казалось, лето внезапно закончилось. Я чувствовала, что от зимней стужи у меня трясутся кости и стучат зубы, а большое белое гостиничное полотенце, которое я подложила под голову, представлялось мне твердым и холодным, как сугроб.
По-моему, в высшей степени невоспитанно колотить в дверь туалета, как это делал кто-то в коридоре. Можно ведь завернуть за угол и найти другой туалет, последовав моему примеру, а меня оставить в покое. Но в дверь по-прежнему молотили, умоляя меня открыть ее. Мне казалось, я смутно различила голос. Очень похоже, что стучалась Эмили Энн Оффенбах.
– Минуточку, – выдавила я. Язык у меня еле ворочался, как будто я набрала полный рот патоки.
Я сосредоточилась, собрав в кулак все силы, медленно поднялась, в десятый раз спустила воду в унитазе, вытерла раковину и свернула полотенце так, чтобы пятна от рвоты не очень бросались в глаза. После чего открыла дверь и шагнула в коридор.
Я знала, что будет смерти подобно взглянуть на Эмили Энн или еще кого-то, так что уставилась остекленевшим взглядом в окно, расплывавшееся в конце коридора, и выставила вперед одну ногу.
Следующим, что я увидела, оказался чей-то ботинок.
Это был добротно сделанный ботинок из черной кожи, уже потрескавшейся, довольно старый, с дырочками для вентиляции, ракушечным узором отходившими от мыска, начищенный матовым кремом и носком указывающий на меня. Похоже, он стоял на жесткой зеленой поверхности, больно царапавшей мою правую щеку.
Я лежала очень тихо в ожидании какой-нибудь зацепки, которая подскажет, что делать дальше. Чуть левее ботинка я заметила какую-то кучку васильков на белом фоне и чуть не расплакалась. Я смотрела на рукав своего халатика, которого касалась моя левая рука, бледная, как мороженая треска.
– Ей уже лучше.
Голос раздался из прохладного и разумного пространства у меня над головой. На какое-то мгновение я не заметила в нем ничего странного, но потом поняла, что звучал он странно. Это был мужской голос, а мужчинам в нашу гостиницу вход был воспрещен в любое время дня и ночи.
– Сколько их там еще? – продолжил голос.
– Кажется, одиннадцать, – ответил женский голос. Я подумала, что он, наверное, принадлежит обладательнице черного ботинка. – По-моему, еще одиннадцать, но одной не хватает, так что всего десять.
– Ладно, уложите эту в постель, а я займусь остальными.
В моем правом ухе раздалось удаляющееся «бум-бум-бум». Потом где-то вдалеке открылась дверь, послышались голоса и стоны, и дверь захлопнулась. Чьи-то руки подхватили меня под мышки, и женский голос произнес:
– Давай, давай, милая, встанем и пойдем.
Я почувствовала, как меня подняли на ноги, и мимо меня медленно, одна за другой, стали проплывать двери, пока мы не подошли к открытой двери и не вошли внутрь.
Одеяло на моей кровати было откинуто, и женщина помогла мне улечься, укрыла меня до подбородка и на несколько мгновений присела отдохнуть в стоявшее рядом с кроватью кресло, обмахиваясь пухлой розовой ладонью. На ней были очки в позолоченной оправе и белая медицинская шапочка.
– Кто вы? – спросила я заплетающимся языком.
– Я здешняя медсестра.
– Что со мной?
– Отравилась, – коротко ответила она. – Вы все отравились. Никогда такого не видела. Там тошнит, тут тошнит, чего это вы, девушки, в себя напихали?
– И все остальные тоже заболели? – с какой-то надеждой спросила я.
– Все до единой, – довольным голосом подтвердила она. – Раскисли, как щенки, и маму зовете.
Комната парила надо мной с необычайной легкостью, словно стулья, столы и стены перестали на меня давить из сострадания перед моей внезапной беззащитностью.
– Доктор сделал тебе укол, – сказала медсестра уже на пороге. – Сейчас ты поспишь.
Ее фигура, словно листом белой бумаги, сменилась дверью, а потом сама дверь сменилась еще большим листом бумаги, я медленно поплыла к нему и заснула с улыбкой на губах.
У моей подушки кто-то стоял, держа в руке белую чашку.
– Выпей-ка, – услшала я.
Я покачала головой. Подушка затрещала, словно набитая соломой.
– Выпей, и тебе полегчает.
Белая фарфоровая чашка с толстыми стенками опустилась к моему носу. В тусклом свете то ли заката, то ли рассвета я рассмотрела прозрачную жидкость янтарного цвета. Сверху плавали капельки жира, и мои ноздри уловили слабый запах вареной курятины.
Я осторожно перевела взгляд на видневшуюся за чашкой юбку.
– Бетси, – выдавила я из себя.
– Какая там Бетси, это я.
Я подняла взгляд и увидела голову Дорин, смутно видневшуюся на фоне белесого окна. По краям ее белокурые волосы светились, словно золотой нимб. Лицо ее скрывала тень, так что я не смогла разглядеть его выражения, однако чувствовала, что кончики ее пальцев буквально лучились нежностью. Она могла быть Бетси, моей мамой или пахнущей папоротником медсестрой.
Я наклонила голову и отхлебнула глоток бульона. Мне показалось, что рот у меня забит сухим песком. Я сделала еще глоток, потом еще и еще, пока чашка не опустела.
Я почувствовала себя очищенной, обновленной и готовой к новой жизни.
Дорин поставила чашку на подоконник и села в кресло. Я заметила, что она не потянулась за сигаретами, и удивилась этому, поскольку она смолила одну за другой.
– Ну что, ты чуть не умерла, – наконец произнесла она.
– По-моему, это икра виновата.
– Какая там икра! Это все из-за крабов. Они взяли пробы на анализ, а те просто кишели птомаином.
Я представила себе уходящие за горизонт ряды хирургически белых кухонь в «Дамском дне». Я видела полчища авокадо, фаршируемые крабовым мясом под майонезом и фотографируемые под яркими лампами. Я видела нежное, с розовыми прожилками мясо, соблазнительно просвечивающее сквозь слой майонеза и бледно-желтую половинку авокадо с ободком цвета кожи крокодила, куда помещалась вся смесь.
Отрава.
– А кто делал анализы?
Я подумала, что врач, наверное, промыл кому-нибудь желудок, а потом исследовал содержимое в лаборатории гостиницы.
– Эти уроды из «Дамского дня». Как только все вы начали тут валиться, как кегли, кто-то позвонил в офис, а оттуда позвонили в «Дамский день». Те взяли на анализ пробы всего, что осталось от званого обеда. Ха-ха!
– Ха-ха! – глухо отозвалась я. Как же здорово, что Дорин снова здесь.
– Они прислали подарки, – добавила она. – В коридоре их целая огромная коробка.
– А как они успели так быстро?
– Особая экспресс-доставка, а ты как думала? Они не могут себе позволить, чтобы все вы тут бегали и орали, что отравились в «Дамском дне». Вы же можете засудить их так, что они останутся голыми, если сумеете найти толкового адвоката.
– А что за подарки? – Я начала думать, что, если подарок мне понравится, я не стану поднимать шума, потому что в конечном-то счете все обошлось.
– Коробку еще не открывали, потому что все так и лежат пластом. Я должна разнести всем бульон, потому что я – единственная, кто стоит на ногах, но начала я с тебя.
– Посмотри, что там за подарки, – взмолилась я. Потом вспомнила и добавила: – У меня для тебя тоже есть подарок.
Дорин вышла в коридор. Я слышала, как она чем-то шуршала, а потом раздался звук разрываемой бумаги. Наконец она вернулась с толстой книгой в глянцевой обложке, исписанной чьими-то именами.
– «Тридцать лучших рассказов года». – Дорин бросила книгу мне на колени. – Там в коробке таких еще одиннадцать штук. По-моему, они считают, что надо дать вам что-то почитать, пока вы болеете. – Она умолкла. – А где мой подарок?
Я порылась у себя в сумочке и протянула Дорин зеркальце с ее именем и маргаритками. Мы с ней переглянулись и расхохотались.
– Можешь выпить мой бульон, если хочешь, – сказала она. – Они по ошибке поставили на тележку двенадцать чашек, а мы с Ленни так наелись сосисок, пока пережидали дождь, что мне ничего в рот не лезет.
– Давай его сюда, – ответила я. – Есть охота – прямо сил нет.
Глава пятая
На следующее утро в семь часов зазвонил телефон.
Я медленно вынырнула из темной пучины сна. Под рамкой зеркала уже висела телефонограмма от Джей Си, в которой говорилось, что на работу мне можно не являться, что нужно денек хорошенько отдохнуть, чтобы полностью поправиться, а также выражались соболезнования по поводу крабов. Так что я представить себе не могла, кто бы это звонил.
Я протянула руку и перетащила трубку на подушку так, что микрофон оказался у меня на ключице, а наушник – на плече.
– Алло?
– Это мисс Эстер Гринвуд? – осведомился мужской голос. По-моему, мне послышался иностранный акцент.
– Конечно, да, – ответила я.
– Это Константин Такой-то.
Я не разобрала его фамилию, но она изобиловала звуками «с» и «к». Я не знала никакого Константина, но у меня не хватило духа признаться в этом.
И тут я вспомнила миссис Уиллард и ее переводчика-синхрониста.
– Конечно, конечно! – воскликнула я, рывком садясь на постели и прижимая трубку к уху обеими руками.
Я никогда не давала миссис Уиллард полномочий знакомить меня с мужчиной по имени Константин. Я коллекционировала мужчин с интересными именами. Я уже была знакома с Сократом. Это был высокий, страшный на лицо интеллектуал, к тому же сын какого-то крупного голливудского продюсера греческого происхождения. Еще он был католиком, что не оставляло нам ни малейшего шанса. В дополнение к Сократу я знала потомка русских белогвардейцев по имени Аттила из Бостонской школы бизнес-администрирования.
Постепенно я поняла, что Константин пытается пригласить меня на свидание днем или вечером.
– Вам бы хотелось посмотреть ООН сегодня днем?
– Я уже и так смотрю на ООН, – ответила я с легким истерическим хихиканьем.
Казалось, он находился в полном замешательстве.
– Я вижу здание из окна. – Мне подумалось, что для него я слишком быстро говорю по-английски.
Молчание. Затем он произнес:
– Возможно, потом мы где-нибудь перекусим.
Я засекла словечко из обихода миссис Уиллард, и у меня упало сердце. Миссис Уиллард всегда приглашала «перекусить». Я вспомнила, что этот мужчина гостил в доме миссис Уиллард, когда впервые приехал в Америку: она участвовала в одной из программ обмена, когда ты принимаешь у себя иностранцев, а если отправляешься в их страну, то они принимают тебя.
Теперь я совершенно четко поняла, что миссис Уиллард поменяла свой прием в России на мой «перекус» в Нью-Йорке.
– Да, я не против перекусить, – ответила я деревянным голосом. – Во сколько вы приедете?
– Я заеду за вами около двух. Вы ведь живете в «Амазоне»?
– Да.
– Ну, я знаю, где это.
На мгновение мне показалось, что в его словах скрыт какой-то особый смысл. Потом я подумала, что, возможно, некоторые из живших в «Амазоне» девушек работали секретаршами в ООН и он, наверное, в свое время приглашал их на свидания. Я дождалась, пока он повесит трубку, потом повесила свою и откинулась на подушки. Мне стало грустно.
Вот опять я строила радужную картину: мужчина страстно влюбится в меня с первого взгляда, и все это складывалось из прозаической мишуры. Дежурная экскурсия по ООН, а потом сэндвич!
Я пыталась поднять свой моральный дух. Возможно, этот переводчик-синхронист миссис Уиллард окажется уродливым коротышкой, и в конечном итоге я стану смотреть на него сверху вниз, как смотрела на Бадди Уилларда. От этой мысли мне немного полегчало. Ведь я действительно смотрела на Бадди Уилларда сверху вниз, и хотя все до сих пор считали, что я выйду за него замуж, когда он выпишется из санатория для туберкулезников, я точно знала, что никогда не выйду за него, даже если, кроме него, на Земле никого не останется.
Бадди Уиллард был лицемером. Конечно же, сначала я этого не знала. Мне казалось, что он самый прекрасный из всех парней, которых я знала. Я обожала его на расстоянии целых пять лет, прежде чем он взглянул на меня, а потом настало дивное время, когда я все еще обожала его, а он начал поглядывать на меня. А затем, когда он все больше заглядывался на меня, я по чистой случайности обнаружила, какой же он жуткий лицемер. Теперь же он хотел, чтобы я вышла за него, а я его ненавидела всей душой.
Самое плохое заключалось в том, что я не могла высказать ему в глаза все, что о нем думаю, поскольку он подхватил туберкулез прежде, чем я на это решилась. Так что теперь мне приходилось потакать ему, пока он не поправится и не сможет воспринять неприкрытую правду.
Я решила не спускаться на завтрак. Это значило, что пришлось бы одеваться, а что толку одеваться, если я решила все утро проваляться в постели? Я могла бы позвонить и заказать завтрак в номер, но тогда пришлось бы давать принесшему его на чай, а я всегда путалась, сколько давать чаевых. В Нью-Йорке с чаевыми я несколько раз попадала в неприятные ситуации.