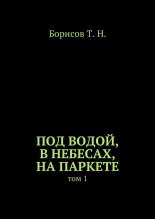Империя. Роман об имперском Риме Сейлор Стивен

– Счастливец!
К ним подошел Веспасиан. С ним была жена Домицилла, несшая младенца Домициана, который успел успокоиться. Паулина отошла от мужа взглянуть на дитя.
– О покойном Калигуле толкуете? – спросил Веспасиан.
Сенека посмотрел на полководца свысока.
– Да, я рассказывал сенатору Пинарию о…
– Кто ж не расскажет чего-нибудь о Калигуле? – отозвался Веспасиан, скорее привыкший говорить, нежели слушать. – Наверное, моя история еще безобидна по сравнению с большинством. Калигула был императором, мне исполнилось не больше тридцати, это точно, потому что мой Тит только народился, а меня как раз избрали эдилом. В числе прочих обязанностей мне вменялось содержать город в чистоте. Я думал, что неплохо справляюсь, пока однажды Калигула не вызвал меня на проселочную дорогу по ту сторону Авентина – не мощеную, учтите, а узкую грязную тропку за какими-то складами. Император спросил, почему улица такая грязная. «Потому что она из грязи?» – предположил я. – Веспасиан расхохотался. – Калигуле смешно не было. Он пришел в бешенство. Клянусь Геркулесом, я чудом не лишился головы на том самом месте! Он приказал своим ликторам набрать полные горсти грязи и натолкать мне в тогу, и я весь покрылся землей, едва не лопался от нее, как винный мех. Калигула смеялся, пока не хлынули слезы, после чего ушел. А потом, знаете ли, гадалка сказала, что это доброе знамение, поскольку самую что ни на есть родную почву положили поближе к телу и под защиту тоги. Ха! Да только предсказатели все выставят в выгодном свете, с них станется – правда? – Он рассмеялся, затем осекся. – Ох, не обидел ли я авгура? – Он снова зашелся хохотом, еще более громким. – А вы, сенатор Пинарий, не знакомы с моим сыном Титом? Он только что был здесь со своим другом Британником – ага, вон они, веселятся с Нероном!
Мальчики и правда были невдалеке, но уже не смеялись. Что-то случилось. Лицо Нерона, обычно красноватое и с нечистой кожей, потемнело и исказилось от внезапной ярости. Он запустил винной чашей в Британника. Тот увернулся, и сосуд пролетел перед самым носом у Веспасиана. Младенец Домициан, испугавшись, снова расплакался.
Британник преувеличенно изобразил потрясение.
– Но, Луций Домиций! – воскликнул он, назвав Нерона именем, которое тот получил при рождении, а не приемным. – Я просто пожелал тебе счастливого дня…
– Называй меня правильно, отродье! – крикнул Нерон. Его звонкий голос разнесся по всему залу. Гости умолкли.
Британник вскинул брови:
– Как можно, брат мой старший? Авгур объяснил сегодня, что имя Нерон означает «сильный и доблестный», а ты, Луций Домиций, слаб и труслив.
Тит, друг Британника, подавил смешок.
– Лжешь, мелкий ублюдок! – рявкнул Нерон. – И что ты вообще здесь делаешь? Разве тебе не положено есть в другой зале, с детьми?
Агриппина подошла к мальчикам, чтобы прекратить скандал. Клавдий остался на ложе и вряд ли обратил внимание на происходящее.
Британник вышел, сопровождаемый небольшой свитой вольноотпущенников и слуг – остатками дворцовой клики Мессалины. Он шествовал с удивительным для девятилетнего достоинством.
Юный Тит взглянул на отца. Веспасиан кивнул, и мальчик удалился вслед за приятелем. Веспасиан покачал головой:
– Британник своенравен и строптив, весь в мать! Придется поговорить с ним. Может, сумею убедить его извиниться перед Нероном. Удалось же мне примирить в Британии кельтские племена! Авось и здесь получится.
Он отбыл с Домициллой и младенцем, заливающимся плачем.
Паулина вернулась на свое место рядом с мужем. К их компании присоединилась Агриппина:
– Что же мне делать с мальчишкой?
– Полагаю, ты говоришь о Британнике, – сказал Сенека. – Важнее другое: что делать с Нероном? Нельзя прилюдно называть императорского сына ублюдком. Так не годится.
Агриппина кивнула, но добавила:
– И тем не менее… о Британнике ползут слухи.
– Слухи? – не поняла Паулина.
Агриппина покосилась на Тита Пинария, словно решая, говорить ли при нем. Затем продолжила:
– Не о том, что он ублюдочное дитя, хотя нам известно, какой шлюхой была Мессалина. Нет: кое-кто считает, что Британник вообще не сын ни Мессалины, ни Клавдия. Будто бы их ребенок родился мертвым и Мессалина подложила в колыбель другого, стремясь дать императору наследника. И вот я спрашиваю вас: похож ли Британник на кого-нибудь из своих предполагаемых родителей?
– Ты хочешь сказать, что он подменыш? – Сенека фыркнул. – Такое бывает только в старых греческих комедиях.
– Когда подобное случается в реальной жизни, последствия далеки от комических. – Агриппина обратилась к Титу: – Сенатор Пинарий, я не скрываю, что ценю астрологию и плохо разбираюсь в авгурстве. Но мне хочется знать, не поможет ли здесь искусство предсказаний?
– Я не вполне тебя понимаю.
– Нельзя ли при помощи ауспиций установить подлинную личность конкретного ребенка? Твой опыт прорицания так велик, а Клавдий настолько уверен в тебе… – Агриппина вперила в него пристальный взор.
Титу сделалось неуютно, и он глянул на Клавдия. Тот обмяк на ложе и с отвисшей челюстью таращился на чашу с вином. Тогда Тит посмотрел на молодого Нерона, который уже оправился от истерики и заигрывал с какой-то юной гостьей. Клавдий олицетворял прошлое, Нерон – будущее. Похоже, Агриппина просит помощи Тита от лица юноши, который почти наверняка станет императором, и скорее раньше, чем позже. Главный и неизменный долг Тита – быть верным призванию авгура и стараться правильно толковать волю богов, но можно ли остаться таковым и одновременно угодить Агриппине?
– В установлении возможной подмены от традиционного авгурства может оказаться мало толку, – осторожно ответил Тит, – но существуют другие виды прорицательства, к которым следует привлечь внимание императора, интересующегося знамениями во всех их формах. Недавно дядя Клавдий поручил мне составить перечень всех знамений и чудес, что известны в Италии, и мы с ним регулярно обновляем список. Только вчера в Остии родился поросенок с ястребиными когтями. Такое событие наверняка является посланием богов. Изменчивая погода, пчелиные рои, подземный рокот, странные огни в небесах – каждый случай требует вдумчивого истолкования. У меня есть секретарь, который внимательно изучает записи о смертях в поисках необычной системы: например, в какой-нибудь день все умершие в Риме носят одинаковое первое имя. Обилие связей, которые начинаешь видеть, если ищешь, решительно поражает.
– Замечательно! – одобрила Агриппина. – Но как же без ошибки расшифровать все эти знаки?
Тит улыбнулся:
– Авгур начинает оценивать события в ходе учения, но здравость его суждений возрастает с опытом. Я много лет изучал проявления божественной воли. – Он посмотрел на Нерона, отмечая большую голову юноши и выпуклый лоб. – Скажи, осматривал ли Британника физиономист?
– Насколько я знаю – нет, – ответила Агриппина.
– Мне тоже об этом ничего не известно, – вторил ей Сенека.
– Это очень специализированная отрасль науки. Опираясь на принципы, изложенные Аристотелем и Пифагором, физиономисты изучают лицо и форму черепа на предмет особенностей, указывающих судьбу человека. Они занимаются в основном будущим, но не исключено, что могут узнать и прошлое. Если, как ты подозреваешь, в происхождении Британника есть нечто… предосудительное, то правду все-таки лучше донести до императора. Да, я полагаю, что первый шаг к установлению истины – пригласить физиономиста. Я знаю одного египтянина… ага, вот идет твой сын.
Нерон, достаточно очаровав юную гостью, подобрал складки своей пурпурно-золотой тоги и приблизился к ним.
– Братья! – небрежно бросил он, закатывая глаза и словно объясняя свою ссору с Британником. – Ведь у тебя есть брат? – осведомился он у Тита. – Сенека говорил мне, вы близнецы.
– Да, – вздохнул Тит. Опять ему напомнили о Кезоне.
– И совершенно одинаковые близнецы? – спросил Нерон. Любопытство юноши выглядело абсолютно невинным, но Тит все равно испытал раздражение.
– Внешне – да, по крайней мере, когда были моложе. В остальном мы настолько отличаемся, что впору счесть его… подменышем. – Тит глянул на Агриппину.
– А почему мы его никогда не видим? – не унимался Нерон. – Ты постоянно приходишь к императору в кабинет, а близнеца не видать.
– Мой брат… – Сомнительное поведение Кезона не впервые явилось причиной замешательства Тита, однако ему ни разу не удалось придумать достойное объяснение полному отходу брата не только от общественной жизни, но и от круга приличных людей. Кто в императорском доме поймет дикие верования и действия Кезона? Чем Титу оправдать его на сей раз? Объявить безумным? Пьянчугой? Калекой вследствие болезни?
– Мой брат…
– Христианин, – закончил за него Сенека.
Тит побледнел:
– Откуда ты знаешь?
– Наставнику императорского сына ведомо многое, сенатор Пинарий.
Агриппина нахмурилась:
– Как может римский патриций быть христианином? Я думала, это еврейская секта.
– Так оно и есть, – подтвердил Сенека. – Но здесь, в Риме, как и во многих других городах, иудеи склонили к своему культу и других. Преимущественно рабов, судя по всему. Христиане едва ли не чествуют их, и нетрудно понять привлекательность подобного культа для рабов низшего сорта: служение Христу становится очередным делом, которым они тайно занимаются за спинами хозяев. Но не все сектанты рабы. Как мне сказали, среди христиан есть и римские граждане. Они учат, что этот мир – ужасное место, в котором правят нечестивые; они вообще считают Рим и все, что с ним связано, воплощением зла, но также полагают, будто нашему миру скоро придет конец и он сменится другим, в котором оживет и будет вечно царствовать их мертвый бог. Если можно назвать подобные воззрения религией, то они идеально подходят обделенным и обиженным рабам, но вряд ли годятся для граждан города, призвание которых – сохранение мирового порядка и почитание богов.
– Попахивает бунтом, – заметил Нерон. – Если христиане так ненавидят Рим, пусть убираются в свою грязную Иудею и ждут конца света там. Разве Клавдий не выгнал евреев?
– Тот указ толком не выполнили, – ответил Сенека. – Он действовал недолго и применялся от случая к случаю, но стал предупреждением еврейским сектам: пусть живут мирно. Они больше не побивают друг друга камнями на людях, гораздо реже баламутят улицы. Они научились держать обиды при себе – по крайней мере, в городе. Поэтому сейчас о христианах почти не слышно.
– Как и о загадочном христианине – брате сенатора Пинария, – сказал Нерон. – Но Тита Пинария, сдается мне, мы будем видеть в ближайшие годы намного чаще. – Он наградил авгура милейшей улыбкой.
59 год от Р. Х.
Когда в конце мартия Рима достигло известие о смерти матери молодого императора, Тит Пинарий зажег у себя в вестибуле свечи и шепотом помолился перед всеми восковыми масками, благодаря предков за добрую удачу.
Давным-давно его покойный дядя Клавдий пенял ему за малую осведомленность в семейном прошлом. «Человек должен чтить предков, – сказал Клавдий. – А иначе как мы пришли бы в наш мир и как существовали?» С тех пор Тит посвятил себя изучению жизни сородичей, выясняя о них все возможное, учась на их примерах и выражая пиетет, как послушный долгу римлянин, старающийся сделать собственное существование предметом гордости пращуров и потомков.
В сорок один год Тит преуспевал, как никогда, – и радовался, что все еще жив. В течение шести лет после смерти Клавдия было трудно лавировать при дворе между безжалостной царственной матерью и молодым императором, стремящимся избавиться от нее.
Но теперь Агриппина мертва. В известном смысле ее смерть явилась более значимым событием, чем кончина Клавдия, ибо тот медленно угасал, а Агриппина находилась в здравом уме и все еще могла восстановить власть над Нероном и двором. Какая женщина! Как мало она позволяла своему женскому естеству воспрепятствовать честолюбию! Тит вспомнил случай с армянскими посланниками, которые излагали свое дело Нерону, и тут Агриппина вышла из-за ширмы, где обычно скрывалась, и явно была настроена вершить суд наравне с императором. Весь двор оцепенел; Сенека шикнул на Нерона, чтобы остановил мать, и только так удалось избежать скандала.
Агриппина! Мир без нее уже не будет прежним. Начнется новая эпоха.
Новость так огорошила Тита, что он утратил способность обдумывать обыденные дела. Столь странному дню подобали действия незапланированные и необычные. Повинуясь порыву, он решил разобраться с давно обременявшей его тяжкой обязанностью. Сегодня он навестит брата.
Каждые год-два он заставлял себя появляться у Кезона и предлагать брату очередной шанс вернуться к нормальной благопристойной жизни. Тит видел в этом долг скорее перед тенью отца, чем перед братом, который неизменно отвечал ему отказом.
Тит вышел из дома с небольшой свитой, как полагалось сенатору его уровня. В сопровождении состоял писец с восковой табличкой для памятных заметок. Был раб, который знал все улицы и обходные пути, так что Титу никогда не приходилось искать ближайшую таверну, ювелирную лавку или харчевню. Второй раб помнил поименно не только всех городских сенаторов и магистратов, но и каждого возможного встречного, вне зависимости от его важности, благодаря чему Тит никогда не рылся в памяти, тщетно пытаясь отыскать нужное имя или титул. И разумеется, присутствовало несколько крепких телохранителей, вышколенных ребят, одни габариты которых наводили такой страх, что им редко приходилось применять силу для защиты господина или расчистки дороги сквозь толпу.
День выдался обычный для конца мартия: сейчас теплый и ясный, через минуту – ветреный и пасмурный. Тит счел переменчивую погоду бодрящей и шел, пружиня шаг. Агриппина мертва! Новость не стала для него полной неожиданностью. Недавно Нерон вызвал Тита для консультаций по поводу знамений, касавшихся их с матерью ближайшего будущего; молодой император не поделился тайными мыслями, но было очевидно, что он отчаянно стремится избавиться наконец от Агриппины. Хвала богам, что на этой рискованной стадии борьбы за власть Титу доверился Нерон, а не Агриппина! Тит, как многие при дворе, годами ходил по краю пропасти между сыном и матерью, боясь прогневать обе стороны или необратимо связать себя с одной из них.
Кончина Агриппины приуготавливалась как комедия ошибок. Нерон, по слухам, не раз пытался отравить мать, но ее то ли предупреждали, то ли она заблаговременно принимала противоядие. Однажды над ее постелью обрушился потолок – разумеется, не случайно, и Агриппина спаслась только благодаря тому, что лежала у передней спинки.
Затем Нерон заявил, что хочет помириться с матушкой, и пригласил ее на свою приморскую виллу в Байи на праздник Минервы. Там он подарил ей великолепную барку и уговорил совершить круиз по заливу, несмотря на ветреную погоду. Судно, однако, было с секретом: механик Нерона устроил так, чтобы оно бесследно затонуло, – и происшествие можно было списать на неспокойное море или внезапный шквал, но не на юного императора. Барка и затонула, но Агриппина, некогда нырявшая за губками пропитания ради, оказалась настолько хорошей пловчихой, что добралась до берега. Нерон решил, что его отчаянную мать нужно добить не таясь, как раненую тигрицу. В дом на берегу, где укрылась промокшая и растрепанная Агриппина, прибыли убийцы, которые покончили с ней раз и навсегда.
В свое время астролог предсказал Агриппине, что ее сын станет императором, но ей придется заплатить за его величие собственной жизнью. Агриппина легкомысленно ответила: «Коль скоро он будет императором – пусть убьет мать». Так и случилось.
Шагая по берегу и через Форум, Тит позволил себе отвлечься на городские виды и звуки. Несмотря на постоянные бури и напряжение при дворе, последние годы оказались для империи и Рима золотым веком. Руководил фактически Сенека, отлично справлявшийся с задачей. Налоги уменьшились, тогда как государственные услуги расширились. Любовь Нерона к музыке и поэзии, его юношеский пыл, актерская натура и страсть к зрелищам послужили расцвету культуры. Он создал небывалые увеселения для публики, тем более экстраординарные, что бескровные; хотя гладиаторские бои остались составной частью многих праздников и торжеств, Нерон издал указ, запрещавший убивать на арене даже преступников.
Рим процветал. Титу казалось, что мир не знал императора лучше. А теперь, когда со смертью Агриппины раздоры при дворе закончились, кто мог предугадать, каких блистательных высот достигнет Нерон?
Тит миновал сверкающие мраморные и травертиновые монументы Форума и вступил в Субуру с ее узкими грязными улочками. Он был рад присутствию свиты, особенно телохранителей. В молодости он отваживался часами ходить здесь в одиночку и без оружия, но те дни давно миновали. Однако, подумал он, даже здесь стало лучше, после того как Нерон принял власть, благодаря общему преуспеянию империи и успешному управлению городом со стороны Сенеки.
Общее благополучие в мире, как представлялось Титу, делало ненависть брата к существованию еще более извращенной и необъяснимой. Как же мог Кезон отвергать мир, где столько радости и красоты? А Рим краше всех прочих мест, хотя, стоя перед муравейником, где обитал Кезон, Тит вынужденно признал, что это мрачное здание хуже даже последнего пристанища брата. Если бы Тит опустился до проживания в такой нищете и кормился, как Кезон, черным трудом – в сорок один год впору надорваться! – он тоже, наверное, ненавидел бы мир.
Тит оставил свиту на улице, разрешив телохранителям поиграть в кости, и поднялся на последний этаж. Почему Кезон вечно селится на самом верху? Лестница была усыпана всякой дрянью: попадались осколки битой посуды, негодная сандалия, деревянная кукла с оторванными конечностями, а на одной площадке встретились две крысы, которым Тит помешал совокупляться.
Он постучал в дверь. Внутри послышалось движение; в таких домах стены были настолько тонкими, что не скрадывали звуков. Кезон отворил. И широко улыбнулся:
– Приветствую тебя, брат!
Кезон был, как всегда, неухожен – в густой бороде впору было вить гнезда птицам, – но находился в приподнятом настроении. Тит счел это добрым знаком. Возможно, встреча пройдет хорошо. Он заметил на шее Кезона фасинум, висевший на шнурке.
– Приветствую, брат, – откликнулся он.
– Входи.
Артемисия выглянула из соседней комнаты, равнодушно поздоровалась и исчезла. Ненакрашенная, с немытыми волосами, она выглядела заурядной клушей. Хризанта сохранилась намного лучше, хотя родила сына и трех дочерей. Несчастная Артемисия даже не стала матерью, потому что ее супруг не видел смысла в обогащении мира новой жизнью.
– Ты вроде счастлив, Кезон.
– Так оно и есть.
– Могу я спросить отчего?
– Тебе не понравится ответ.
– Возможно, но ты попробуй.
– Я счастлив, потому что конец мира уже очень близок. Очень! Быть может, он наступит в нынешнем году.
Тит издал стон:
– Вот чему ты радуешься!
– Конечно. Мы того и жаждем: чтобы покров сего скверного места пал и мы воссоединились с Христом, дабы узреть лицо Бога во всей его славе.
Тит вздохнул:
– И как же кончится мир, Кезон? Как такое вообще возможно? Сколь сильным должен быть пожар, сколь мощным землетрясение, сколь высокой волна наводнения, чтобы уничтожить мироздание? Может, звезды падут на землю? Или солнце погаснет, а луна разлетится на пушинки, как одуванчик? Сама идея о конце света – нелепость!
– Единый Бог всемогущ. Он сотворил мир за шесть дней, а уничтожить его может в мгновение ока.
– Если твой бог всемогущ – и если другие божества ему не мешают, – почему бы ему просто не исправить мир по своему разумению, тоже в мгновение ока, и не положить конец злу и страданиям, которые нас, по твоим словам, окружают? Что же за бог такой, играющий в жестокое ожидание со своими почитателями?
– Ты просто не понимаешь, Тит. Здесь моя вина: я бессилен тебе объяснить. Если ты придешь на наше собрание, то встретишь людей намного более мудрых, чем я…
– Нет, Кезон, сенатор Тит Пинарий не покажется на сборище христиан! – Идея была настолько курьезной, что Тит расхохотался.
– Ты высмеиваешь меня, брат, но чем ты так горд? Особым положением в мире и дружбой с императором? Ты и с покойным правителем дружил, но ничего не сказал и не сделал, когда дядю Клавдия убили.
Кровь отхлынула от лица Тита.
– Ты не знаешь, убили ли Клавдия.
– Разумеется, знаю. Все знают. Спроси своих друзей-сенаторов. Или моих соседей. Племянница, с которой он заключил кровосмесительный брак, поправ даже римские правила приличия, отравила его грибы, а когда яд не подействовал достаточно быстро, Агриппина пригласила лекаря, который вставил Клавдию в горло перо, чтобы вызвать рвоту. Но оно было смазано еще более сильным ядом, и бедному Клавдию пришел конец. Ты хоть оплакал его, брат?
Тит был застигнут врасплох. Смутная осведомленность простолюдинов о кончине Клавдия не удивила бы его, но Кезон знал подробности, а если в курсе Кезон, то и весь город тоже.
Может, и к лучшему, подумал Тит. Если люди считают Агриппину отравительницей, то скорее примут ее насильственную смерть, когда весть и о ней достигнет их ушей.
– Никто не знает наверняка, было ли отравлено перо, – сказал Тит. – Будучи преданной матерью, Агриппина и правда могла прибегнуть к крайним мерам для возвышения сына…
– Да, сына, который с не меньшим рвением приложил руку к убийству. Или ты скажешь, что юный Британник умер естественной смертью? Его ведь тоже отравили всего через несколько месяцев после вступления Нерона на престол? Бедняга! А ты, друг и родственник Клавдия, пошевелил ли хоть пальцем, чтобы уберечь его осиротевшего сына?
Удар был рассчитан точно. Тит был весьма далек от того, чтобы защищать Британника, напротив, повинуясь Агриппине, укрепил мнение о юноше как о подменыше, чтобы напрочь исключить его притязания на власть.
– Я не имею отношения ни к смерти Клавдия, ни к смерти Британника, – ответил Тит.
– Но знаешь, кто их убил.
– Если их убили.
– Мой бедный обманутый брат Тит! Ты лавируешь между этими людьми, как египетский укротитель змей среди своих питомиц. Тебя еще не ужалили, но ты все равно отравлен. Яд Нерона просочился в тебя, осквернил…
– Ты смеешь называть Нерона змеей? Этот замечательный юноша за пять лет сделал для города больше любого императора со времен Августа. Если ты вылезешь из здешней клоаки и пройдешься по приличным районам Рима, где живут достойные люди, то увидишь, как счастливы граждане. Они не хотят конца мира, потому что Нерон сделал наш мир лучше.
– Чего стоят все земные достижения Нерона, если он убил родную мать?
Тит растерялся. Он сам узнал о смерти Агриппины только что, от гонца, прибывшего прямо из Байи.
– Откуда ты слыхал об Агриппине? Живя здесь, в этой дыре, никем среди никого? – У него зародилось темное подозрение. – Неужели у рабов-христиан существует шпионская сеть? Она что же, достигает даже императорского двора?
Кезон рассмеялся:
– Ты полагаешь, что все христиане – евреи, рабы, изгои и нищие? Знал бы ты правду, Тит! Среди нас есть люди из всех слоев общества, даже утонченные благородные римлянки. Не каждый способен устремиться к нищете по примеру Иисуса, но все ждут дня, когда мы искупим грехи и объединимся в загробной жизни…
– Значит, шпионская сеть христиан все-таки имеется и включает даже императорских домочадцев? – Тит вспомнил давние слова Нерона о склонности христиан к мятежу. Когда-то одержимость брата представлялась Пинарию безумной, но безобидной. Но вдруг христианский культ опаснее, чем он думал?
– Скажи-ка мне вот что, Кезон. Я время от времени, хочу того или нет, узнаю о вашем культе что-то новое. Недавно мое внимание привлекли к предположительно священному тексту, в котором приводились слова самого Христа. Прочтя, я нашел содержание столь тревожным, что выучил наизусть: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником»[15]. Неужели твой бог действительно говорит столь ужасные вещи?
Кезон кивнул:
– Идущий за Христом должен быть готов отринуть все привязанности материального мира ради духовного возрождения…
– Можешь не объяснять, я все отлично понял, – с отвращением перебил его Тит.
От фасинума отразился лучик света, и Тит заговорил о талисмане:
– И ты еще смеешь носить амулет наших предков – ты, ничуть их не почитающий, проповедующий презрение ко всему, что они свершили и завещали нам! Ты, открыто ненавидящий нашего отца и меня – лишь бы угодить своему богу?
Кезон с улыбкой дотронулся до фасинума:
– Амулет означает совсем другое, Тит. Это символ страстей Христовых и залог Его будущего воскресения, воскресения всех верующих…
– Нет, Кезон, это звено, связующее нас с прошлым: талисман, передававшийся в нашем роду с тех времен, когда еще не построили Рим. Ты сам ненавистью к богам и родному городу превращаешь его в нечто другое!
– Боги, которым ты поклоняешься, Тит, суть не боги. Если на то пошло, они демоны, хотя я склонен думать, что их вообще не существует и никогда не существовало…
– Глупец! Безбожник! Боги были и пребудут всегда. Они от мира и в мире. Они сотворили мир. Они и есть мир! Если смертные не понимают их, то лишь в силу собственной малости и необъятности богов. И что за крошечный мир воображаешь ты – игрушку для одинокого бога, который требует от своих почитателей нищеты и ничтожности! Неужели ты не видишь вокруг себя красоты, величия и тайны богов? Да, они смущают и пугают нас, а волю их трудно распознать. Но я делаю, что могу. Выполняю ритуалы предков, которые были здесь до нас и общались с богами прежде нас. Я преклоняюсь перед их мудростью, а ты ее с презрением отвергаешь! Ты ни разу не почтил восковые эффигии Пинариев. Ты повернулся спиной к предкам. Ты дерзок, нечестив и недостоин называться римлянином!
– Но я и не называю себя римлянином, Тит. Я называюсь христианином, а то, что ты именуешь мудростью предков, не значит для меня ничего. Мне не нужны грехи и глупости прошлого. Я смотрю в ясное, идеальное будущее.
– В будущее, где будешь напрочь забыт, ибо не оставишь потомков. Вся память о тебе сотрется, Кезон, ибо ты разорвал связь поколений. Единственное доступное человеку бессмертие – память тех, кто придет ему на смену, вспомнит его деяния и почтит имя.
– Как вспомнят в будущем веке Нерона? Отцеубийцу и матереубийцу? А если повезет, то и про тебя скажут: вот сенатор Тит Пинарий, друг Нерона – товарищ матереубийцы! Так-то ты, брат, представляешь себе бессмертие?
Тит пристально смотрел на фасинум. Взять бы да и сорвать его с братниной шеи.
– Сегодня я пришел из уважения к нашему отцу, – произнес он. – Я ощущал перед его тенью долг по мере сил присматривать за тобой. Но ты нанес последний удар, Кезон. Больше я не приду.
61 год от Р. Х.
Тит сдержал слово и впредь не навещал брата. Когда двумя годами позднее они увиделись вновь, Кезон явился к нему сам.
Тит находился у себя в кабинете, полностью погруженный в старый авгурский текст, давным-давно полученный от Клавдия. Раб постучал по косяку, привлекая внимание господина.
– В чем дело? – осведомился тот, не поднимая глаз.
– К тебе посетитель, хозяин.
Тит поднял взгляд, немного щурясь. Чтение начало утомлять глаза – недуг, естественный в сорок три года.
– Я знаю тебя?
– Я Илларион, хозяин. Новый привратник.
– Ах да. – Тит всмотрелся в мальчика, который годами едва ли годился в привратники. В доме скопилось столько рабов, что Тит путался в них. Хризанта утверждала, что все они позарез нужны для хозяйства, но, как опасался Тит, скоро придется покупать дом побольше исключительно для того, чтобы разместить такую ораву рабов. Хозяина, конечно, обслуживали отменно, и он ничего не делал сам: рабы выносили по утрам ночной горшок, таскали за ним вещи в термы и обратно, мыли его, массировали, брили, одевали, писали под диктовку, доставляли все необходимое, передавали письма друзьям и деловым партнерам, учили хозяйских детей, читали Титу вслух, когда у него уставали глаза, совершали покупки, готовили и подавали еду, пели ему за обедом и стелили постель. Рабыни удовлетворяли и его половую нужду. После двадцати с лишним лет брака и рождения четырех детей они с Хризантой редко совокуплялись, но он любил ее и не собирался брать другую жену, а потому, когда припекало, без зазрения совести пользовался хорошенькими рабынями. Они принимали свою участь спокойно, поскольку Тит был не из тех, кто получает удовольствие от насилия, а наслаждался он в уединении, никогда не действуя грубо и напоказ ради смущения или позора рабыни. Не все хозяева столь сознательны.
– Кто там пришел? – спросил Тит.
– Гость говорит, будто он твой брат, – с сомнением ответил Илларион.
Тит долго смотрел перед собой в одну точку.
– Пригласи его. Нет, постой. Я сам схожу в вестибул.
Он поднялся и пошел через дом, пышный сад с недавно установленной статуей Венеры и приемную залу с новеньким мозаичным полом. Действительно, в вестибуле находился Кезон собственной персоной, похожий на уличного попрошайку. Он стоял лицом к лицу с восковой эффигией отца.
– Пришел наконец уважить? – спросил Тит.
Кезон чуть вздрогнул от неожиданности и тупо уставился на него.
– Если хочешь зажечь фимиам и прочесть молитву, я с удовольствием присоединюсь, – сказал Тит. – А наши предки, безусловно, придут в восторг. – Он сделал жест в сторону других эффигий в нишах.
– Ты знаешь, что я явился не за этим, – тихо произнес Кезон.
– Понятия не имею о твоих целях, – сказал Тит. Он заметил на Кезоне фасинум. Какая наглость – щеголять перед предками родовым талисманом! Тит сделал глубокий вдох, пытаясь держаться цивилизованно.
– У меня к тебе просьба, – пояснил Кезон. Его голос был почти кроток.
Тит отрывисто кивнул:
– Я жду посетителей – к сенатору многие обращаются за помощью, – но, думаю, найду для тебя время. Иди за мной в кабинет.
Ведя брата по дому, он гадал, о чем думает Кезон. Тот съехал много лет назад, и Тит постоянно вносил разнообразные усовершенствования, покупая дорогую мебель и шедевры искусства. Его кабинет был чуть ли не лучшим помещением в доме, с прекрасными настенными изображениями из «Метаморфоз» Овидия и сделанными на заказ дубовыми книжными полками. Напольная мозаика представляла Прометея, несущего человечеству свет; обнаженный титан держал стебель огромного фенхеля, в котором скрывалась янтарная искра, украденная с огненной колесницы Солнца; его окружали благоговеющие смертные. Тит надеялся, что брат впечатлится, но Кезон лишь покачал головой и пробормотал:
– Сколько же у тебя рабов!
– Рабов?
– По всему дому. Пока мы шли из вестибуля, нам встретилось как минимум десять.
– Неужели? Я их почти не замечаю. Разве что кто-нибудь понадобится и никак не найти! – рассмеялся Тит.
Кезон сохранял угрюмый вид.
– Хочешь вина? – Тит настроился обращаться с братом как с обычным визитером. Он хлопнул в ладоши. Случайная девушка-рабыня мгновенно застыла на пороге в ожидании приказа. Тит улыбнулся ей. Юная рыжеволосая красавица, одна из его любимиц. Как ее зовут – Евтропия? Евталия?
– Не надо никакого вина, – быстро возразил Кезон. – Оно затуманит рассудок. Я должен говорить ясно.
Тит знаком отпустил девушку и повернулся к брату:
– Так что случилось, Кезон?
– Что тебе известно об убийстве городского префекта, экс-консула по имени Луций Педаний Секунд?
Тит сел в старомодное складное кресло – старинную вещь, которая, по утверждению торговца, принадлежала республиканцу Катону Младшему[16]. Кезон остался стоять. Впрочем, так обычно и вели себя просители: хозяин сидел, они стояли.
– Педания убил собственный раб, – сказал Тит. – Гнусная история. Рабы редко убивают хозяев, но, если таковое случается, всегда поднимается шум. Народ еще помнит восстание Спартака, когда по всей Италии рабы пошли на господ, совершая одно зверство за другим. Сжигали фермы, распинали граждан, насиловали и убивали женщин.
– Это случилось больше ста лет назад, – отозвался Кезон.
– Сто тридцать два, если быть точным. И трагедия не повторялась благодаря своевременному принятию крайних мер, каковые практикуются и по сей день всякий раз, когда раб совершает преступление против господина. Иначе наступит хаос. Почему ты спрашиваешь о Педании, Кезон?
– Тебе известны факты?
– Как сенатор, я был посвящен во все подробности. – Тит свел кончики пальцев. Надо бы велеть девушке принести вина, хочет того Кезон или нет. Разговор о скандальном происшествии вызвал у него жажду. – Неприятное дело. Из ведомого мне, Педаний владел рабом по имени Анаклет много лет, и тот достиг в доме высокого положения. После долгой исправной службы Педаний согласился дать Анаклету возможность выкупиться. Но раб желал большего: он находился в любовной связи с хорошеньким мальчиком-рабом из новичков и возжелал забрать его с собой. Педаний, пребывавший в великодушном настроении, не стал возражать. Но потом передумал: присмотрелся к новому рабу и решил оставить отрока для личных утех. Итак, хозяин и раб превратились в соперников, ища любви отрока, – нелепая ситуация для любого гражданина. Тут-то и начались беды. Педаний не только отказался от обещания освободить Анаклета, но и начал спать с мальчиком каждую ночь.
– А дальше?
Тит замялся, не зная, расписывать ли гадкие подробности. Впрочем, скоро они в любом случае станут всеобщим достоянием.
– Однажды ночью Анаклет взял лампу и нож, прошмыгнул мимо ночного сторожа и вломился в хозяйскую спальню. Он говорит, что хотел только пригрозить Педанию. Но застал пару в разгаре действия. Педаний ничуть не смутился. Он явно хотел продемонстрировать Анаклету свою власть над мальчиком, который является хозяйской собственностью. Анаклет пришел в бешенство. Он зарезал Педания, покуда отрок кричал и плакал.
– Отвратительно, – пробормотал Кезон. – Вся история целиком. Значит, в виновности раба никто не сомневается?
– Ни в коей мере.
– Анаклета казнят?
– Разумеется. Его распнут.
– А мальчика?
– Мальчик видел преступление и ничего не сделал, чтобы его пресечь. Закон на сей счет недвусмыслен.
– А ночной сторож?
– Он вопиюще пренебрег своими обязанностями. Конечно, он должен умереть.
– А остальные домашние рабы – что будет с ними?
– Как я сказал, закон очень четок. Всех рабов из дома Педания допросят под пыткой – вернее, уже допросили – и затем казнят.
– Недопустимо! – вскинулся Кезон. – Я знаю, наши предки прибегали к ужасным наказаниям, но современный закон, несомненно, смягчился. Подобные преступления так редки…
– Редки, потому что закон суров. Тем больше оснований карать ослушников по всей строгости. Общее право восходит к незапамятным временам, но систематизировано сенатом при Августе.
Кезон покачал головой:
– Ты знаешь, сколько у Педания рабов?
– Нет.
– А я знаю. Больше четырехсот. Четыреста, Тит!
Тит поджал губы:
– Да, и правда многовато для единовременного распятия. Я не знал, что их такая прорва.
– Некоторые уже стары, Тит. Есть и дети.
– Догадываюсь. – Тит неловко поерзал в кресле. До чего неудобна старинная мебель – неудивительно, что Катон прославился дурным нравом. У Тита пересохло во рту. Почему только он не велел девушке подать вина?
– Ты помнишь, чтобы на нашем веку в Риме хоть раз устроили такую бойню? – спросил Кезон.
– Пожалуй, нет. Подобные преступления чаще совершаются в сельской местности или в далеких провинциях. Полагаю, что обычно рабов вовлечено намного меньше.
– Подумай об этом, Тит. За преступление страсти, совершенное одним-единственным рабом, умрут четыреста человек. Люди, которые находились в других местах, занимались своими делами или, может быть, спали, не подозревая о происходящем. Разве можно не счесть подобное решение бессмыслицей, Тит?
– Если они не знали о намерениях Анаклета, то им следовало знать. Так гласит закон. Статут ясен: обязанностью раба всегда и при всех обстоятельствах является защита хозяина, при необходимости даже ценой собственной жизни, от всякого вреда извне или от домочадцев.
– Но Анаклет действовал в одиночку. Заговора не было. Как могли предотвратить его преступление остальные рабы?
– Рассматривая каждый случай в отдельности, я готов допустить, что иногда правила не вполне соответствуют ситуации. Но закон есть закон и должен соблюдаться. Изврати его однажды – и в следующий раз раб, задумав убить хозяина, вообразит, что ему все сойдет с рук.