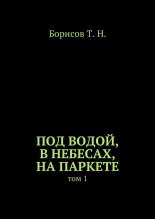Империя. Роман об имперском Риме Сейлор Стивен

Steven Saylor
EMPIRE: THE NOVEL OF IMPERIAL ROME
© А. Смирнов, перевод, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016 Издательство АЗБУКА®
* * *
Памяти Майкла Гранта
История может только увековечивать мифы.
Гюстав Лебон. Психология народов и масс
Римские месяцы и дни
Римские месяцы: януарий, фебруарий, мартий, априлий, май, юний, юлий (в честь Юлия Цезаря), август (в честь императора Октавиана Августа), септембер, октобер, новембер и децембер.
Первое число каждого месяца именовалось «календы». На 15 мартия, мая, юлия и октобера, а также на 13-е число остальных месяцев приходились иды. За девять дней до ид имели место ноны. Римляне определяли даты путем обратного счета от календ, ид и нон включительно. Так, например, наше 9 июня называлось пятым днем перед юнийскими идами.
Часть I. Луций. Толкователь молний
14 год от Р. Х.
Луций резко проснулся.
Ему привиделся сон. Там не было земли, только темное пустое небо, а за ним – невообразимо бескрайняя небесная твердь с яркими звездами. Их не заслоняла ни единая тучка, и все же там сверкали молнии, всполохи без грома, беспорядочные слепящие вспышки, освещавшие огромные стаи птиц, что внезапно заполнили темные небеса. Стервятники и орлы, вороны и вороны, все мыслимые разновидности пернатых, которые парили и били крылами, но создавали не больше шума, чем беззвучные молнии. Сон поверг его в недоумение и смятение.
Теперь, пробудившись, Луций расслышал далекое рокотание грома.
Он различил и другие звуки, которыми полнился дом. Рабы уже принялись за обыденные дела, разжигая кухонный очаг и отворяя ставни.
Луций спрыгнул с постели. Его комната с балкончиком, откуда открывался вид на запад, находилась на верхнем этаже. Внизу лежал склон Авентинского холма. Ближайшие здания, тянувшиеся вдоль гребня, были просторны и сработаны на совесть, как и его родной дом. Ниже теснились постройки поскромнее, жилые хибары и ремесленные мастерские, а еще дальше начиналась равнина с большими зернохранилищами и складами, лепившимися к Тибру. У реки город заканчивался. Леса и луга на другом берегу были разделены на частные имения богачей и простирались до дальних холмов и гор.
До чего же ненавидела этот вид его мать! Рожденная в зажиточном семействе рода Корнелиев, она выросла в доме, находившемся на другой, более фешенебельной стороне Авентина, он был обращен к огромному, расположенному ниже Большому цирку, увенчанному храмами склону холма Капитолийского, а прямо напротив – к величественному Палатинскому холму, где жил император. «Помилуйте, да с нашей крыши, – говаривала она, – я в детстве видела дым капитолийских жертвенников, наблюдала за гонками на колесницах, а иногда даже случалось разглядеть самого императора, который прогуливался по террасе!» («Все сразу, Камилла?» – добродушно подтрунивал над нею отец.)
Однако для Луция этот пейзаж был родным. Именно такой Рим представал перед ним в окне спальни все двадцать четыре года жизни: смешение богатства и нищеты (последней много больше); рабы здесь безостановочно гнули спины, размещая в огромных складах зерно и товары, изо дня в день прибывавшие по реке из бескрайнего дальнего мира – мира, принадлежащего Риму.
Май выдался дождливым, и нынешний день обещал быть не лучше. В тусклом свете зари, пробивавшемся сквозь облака, Луций видел, как раскачиваются на берегу Тибра кипарисы. Неистовые ветры были теплыми и пахли дождем. На горизонте собрались черные грозовые тучи, озаряемые молниями.
– Отличная погода для гадания! – пробормотал Луций.
Его комната была обставлена скудно: узкая постель, единственный стул без спинки, шкафчик, набитый свитками со времен ученичества; зеркало на сияющей медной подставке и несколько сундуков с одеждой. Луций открыл самый богато украшенный и бережно извлек оттуда особое облачение.
Обычно он дожидался раба, который помогал ему одеться, – уложить складки в нужном порядке не так-то легко, – но сейчас ему не терпелось. Сегодняшний наряд отличался от простой тоги, что Луций надел в семнадцать, став мужчиной. Трабея – особая одежда, которую носили только авгуры, члены древнего священства, обученные прорицать волю богов, – была не белой, а шафранового цвета с широкими пурпурными полосами. Луций прикоснулся к ней впервые в жизни, не считая примерки, когда портной подгонял наряд под него. Новая шерстяная ткань была мягкой, плотной и благоухала свежим красителем из пурпуроносных моллюсков.
Облачившись, Луций старательно уложил складки как подобает. Взглянул на себя в медное зеркало и снова вернулся к сундуку. Теперь он достал тонкий, слоновой кости посох, который заканчивался небольшой спиралью. Литуус[1] был семейной реликвией, давно ему знакомой; Луций провел бессчетные часы, упражняясь с ним и готовясь к нынешнему дню. Но сейчас он взглянул на литуус свежим взором, изучая замысловатую резьбу: вся поверхность посоха была украшена изображениями воронов, ворон, сов, орлов, стервятников и цыплят, а также лис, волков, лошадей и собак – всех тварей, по поведению коих опытный авгур толкует волю богов.
Луций вышел из спальни, спустился по лестнице, пересек окруженный перистилем[2] сад в центре дома и шагнул в трапезную, где мать и отец, откинувшись на ложе, ожидали, пока раб подготовит все для завтрака.
На матери была простая стола[3], длинные волосы еще не убраны в дневную прическу. Она подалась вперед:
– Луций! Зачем ты уже облачился в трабею? Нельзя же в ней завтракать! А если чем-нибудь капнешь? До церемонии еще несколько часов, сначала мы посетим термы. Вас с отцом побреют…
– Матушка, – рассмеялся Луций, – я просто поддался порыву. Конечно, я не собираюсь в ней завтракать. Но скажи, как я тебе нравлюсь?
– Ты великолепен, Луций, – вздохнула Камилла. – Такой же красавец, как и твой отец в трабее. Правда же, милый?
Отец Луция, всегда сохраняющий строгость сообразно своему статусу патриция, сенатора и родственника императора, ограничился кивком.
– Наш мальчик хорош собой, но трабею надевают не для красоты. Жрец должен нести свое облачение, как и литуус, с достоинством и значительностью, приличествующими посреднику богов.
Луций расправил плечи, задрал подбородок и выставил литуус:
– Что скажешь, отец? Хватает ли мне достоинства?
Луций Пинарий-старший изогнул бровь. Юный Луций по-прежнему часто казался ему мальчишкой, и особенно сейчас, в жреческом облачении, но с кое-как заправленными складками, точно дитя во взрослом наряде. Двадцать четыре года – слишком мало для вступления в коллегию авгуров. Пинарий-старший удостоился этой чести только на пятом десятке. Юный же Луций, красивый, с широкой улыбкой и черными, еще взъерошенными со сна волосами, едва ли соответствовал привычному образу морщинистого, убеленного сединами прорицателя. Однако юноша происходил из древнего рода авгуров и в ходе учебы проявил замечательные способности.
– Ты выглядишь отменно, сын мой. Теперь ступай и переоденься. Мы перекусим, потом отправимся в бани для омовения и бритья и поспешим домой – готовиться к церемонии. Надеюсь, буря повременит и мы не промокнем под дождем.
* * *
Позднее, рассматривая себя в медном зеркале, Луций не мог не признать, что результат облачения с помощью раба оказался совершенно иным. Теперь он казался ухоженным, в тщательно расправленной трабее, и это наполнило его уверенность. Конечно, он еще не авгур. Перед церемонией посвящения состоится последнее испытание, в ходе которого Луцию предложат продемонстрировать имеющиеся навыки. Луций нахмурился. Он все же слегка волновался.
На сей раз, когда он спустился, мать чуть не лишилась чувств. Отец, теперь облаченный в собственную трабею и вооруженный литуусом, наградил юношу одобрительной улыб кой.
– Мы уже выходим, отец?
– Еще нет. К тебе гости.
В саду, на скамье под перистилем сидели юноша и девушка.
– Ацилия! – Луций сперва побежал, потом сбавил темп. Трабея не годится для бега, и не хватало еще зацепиться мягкой тканью за розовый куст.
Старший брат Ацилии встал, коротко кивнул и тактично удалился. Оглянувшись, Луций увидел, что и родители скрылись, чтобы он побыл с невестой наедине.
Луций взял ее за руки:
– Ацилия, ты нынче красавица.
Так и было. Медовые волосы девушки ниспадали длинными ровными прядями, как и полагалось в девичестве. Глаза были ярко-голубыми, щеки – нежнее лепестков розы. Скромная туника с длинными рукавами скрывала хрупкое тело, но за год помолвки оно очевидно приобрело женственные округлости. Она была младше Луция на десять лет.
– Только погляди, Луций, как ты хорош в трабее!
– Вот и матушка так сказала.
Они пошли через сад, и Луций вдруг устыдился скромности окружающей обстановки. Он остро сознавал, что дом отца Ацилии намного величественнее жилища Пинариев и обставлен роскошнее; за ним ухаживало больше рабов, а находился он на фешенебельной стороне Авентинского холма, близ храма Дианы. Ацилии – плебейского происхождения, их род не был столь древним, как у Пинариев, но зато они купались в деньгах, тогда как состояние патрицианского семейства Луция в последние годы пришло в упадок. Покойный дед Луция владел отличным особняком на Палатине, но долги вынудили семью перебраться в нынешнее обиталище. Само собой, в вестибуле[4] дома хранились восковые маски многочисленных славных предков, но девушку таким не впечатлишь. Заметила ли Ацилия, как зарос сад, насколько он неухожен? Луций помнил идеально ровные живые изгороди и фигурно подстриженные кусты, мраморные дорожки и дорогие бронзовые статуи в саду ее отчего дома. А здесь на крыше перистиля у них за спиной недоставало черепиц, а стену уродовали отслаивающийся гипс и грязные потеки. На раба, обязанного следить за садом, навалили множество других дел, да и денег на починку стены и крыши не было.
Безденежье – вот почему они до сих пор не поженились. После первоначального восторга от перспективы выдать дочь за патриция, сына сенатора и родственника императора, отец невесты раз за разом изыскивал все новые поводы отложить выбор даты бракосочетания. Очевидно, Тит Ацилий поближе ознакомился с финансовым положением Пинариев и укрепился в сомнениях насчет будущего Луция. А тому Ацилия понравилась на первом же свидании, устроенном родителями; после он безнадежно влюбился в нее, и девушка, похоже, разделяла его чувства. Но это ничего не значило, пока ее отец не склонится одобрить союз.
Ацилия ни слова не сказала о запущенности сада и неприглядной стене. Она восхищенно рассматривала литуус:
– Какая чудная резьба! Из чего он сделан?
– Из слоновой кости.
– Из бивня слона?
– Так говорят.
– Очень красиво.
– Он уже давно хранится в нашей семье. По цвету видно, что слоновая кость старая. Многие поколения Пинариев служили авгурами: пророчествовали на государственных церемониях, полях сражений, храмовых праздниках. И в частной жизни тоже… например, насчет бракосочетаний.
Это произвело должное впечатление на Ацилию.
– И стать авгуром может только мужчина из древнего патрицианского рода?
– Совершенно верно.
«И я могу подарить тебе сына-патриция», – добавил про себя юноша. Но даже наслаждаясь восхищением возлюбленной, он невольно оглянулся на шорох за спиной и увидел крысу, бегущую по крыше перистиля. Махнув длинным хвостом, тварь сбила отставшую черепицу. Услышав, как ахнул Луций, Ацилия обернулась в тот самый миг, когда керамическая плитка упала и раскололась о брусчатку. Девушка подскочила и ойкнула. Неужели заметила крысу?
Желая ее отвлечь, Луций схватил Ацилию за плечо, развернул к себе лицом и поцеловал. Коротко, будто клюнул, но она все равно смутилась:
– Луций, а вдруг брат увидит?
– Что увидит? Вот это? – И он снова поцеловал ее, на сей раз дольше и нежнее.
Она отпрянула – зардевшаяся, но довольная. Прямо у нее перед глазами оказался амулет, который Луций носил на шейной цепочке. Родовой талисман выскользнул из-под одеяния и угнездился меж шафраново-пурпурных складок.
– Это тоже часть облачения авгура? – спросила Ацилия.
– Нет. Семейная реликвия. Дед отдал, когда мне было десять. Я надеваю ее только по особым случаям.
– А можно потрогать?
– Конечно.
Девушка прикоснулась к золотой подвеске, напоминающей по форме крест.
– Я помню день, когда получил амулет. Сначала дед научил меня надевать тогу, а потом мы с ним прошли по всему городу, вдвоем – только он и я. Он показал мне место, где убили Юлия Цезаря, его двоюродного деда. Затем – Великий алтарь Геркулеса, самое древнее святилище в городе, которое Пинарии воздвигли, когда Рима еще и в помине не было. Показал фиговое дерево на Палатине, куда по ветвям забирались Ромул, Рем и их друг Пинарий. И наконец – построенный Цезарем храм Венеры, где я впервые увидел потрясающую золотую статую Клеопатры. Дед очень хорошо знал Клеопатру, как и Марка Антония. Когда-нибудь… когда-нибудь, надеюсь, у меня появится сын, и я проведу его по всем тем местам и расскажу о наших пращурах.
Ацилия по-прежнему держала подвеску в руках. Пока Луций говорил, она подступала все ближе, пока не прижалась к нему телом. Взглянула на амулет, затем посмотрела любимому прямо в глаза:
– Но что означает твой амулет? Какая-то непонятная форма.
Луций покачал головой:
– Забавно, но дед, хоть и поднял такой шум вокруг передачи мне реликвии, сам толком не знал, откуда она и что собой воплощает. Ему было известно одно: амулет принадлежал нашей семье на протяжении многих поколений. Должно быть, подвеска стерлась и потеряла первоначальные очертания.
– В нашем семействе нет ничего подобного, – призналась Ацилия, откровенно завороженная.
Она стояла так близко, что Луций испытал неодолимое желание обнять ее и прижать к себе, невзирая на брата, который мог появиться в любой момент. Но небеса над ними вдруг разверзлись, и сад накрыло ливнем. Луций был бы счастлив остаться здесь, под теплым дождем, обнимаясь и вместе промокая до нитки, но Ацилия выпустила амулет, схватила жениха за руку и, заливаясь звонким смехом, увлекла через перистиль в дом.
Отец Луция и брат Ацилии сидели рядом в одинаковых креслах черного дерева, отделанных лазуритом и абалоном. Пинарий-старший не случайно сопроводил гостя к лучшей мебели в доме.
Марк Ацилий был всего несколькими годами старше сестры и обладал такими же золотистыми волосами и ярко-голубыми глазами. Он говорил:
– Уже пять лет миновало, как нас разгромили в Тевтобургском лесу, а мы так и не поквитались с германскими племенами. Они смеются над нами! Безобразие!
– Значит, дождь загнал вас домой. – Отец Луция, желавший бракосочетания Ацилии с сыном не меньше самого жениха, тепло улыбнулся ей. – Мы с Марком обсуждали положение на севере. – Он вновь обратился к брату Ацилии: – Ты молод, Марк. Для тебя пять лет – долгий срок, но по меркам мироздания – это всего лишь миг. Наш город не за день строился, а империя складывалась много дольше, чем живет человек. Конечно, Рим долго считался непобедимым. Наши легионы неуклонно раздвигали границы империи, сокрушая все преграды. На севере Юлий Цезарь, двоюродный дед моего отца, захватил Галлию и этим приуготовил вторжение нашего двоюродного брата Августа за Рейн и покорение германцев. Дикие племена были укрощены. Их вождей соблаз нили привилегиями римского гражданства. Строились города, храмы посвящались богам, собирали подати, и Германия стала такой же провинцией, как остальные.
А потом появился Арминий, или Герман, как называют его соплеменники, – германец, который научился боевому искусству у римлян, воспользовался всеми благами нашего гостеприимства и отплатил нам самой презренной изменой. Под предлогом подавления мелкого бунта он заманил в Тевтобургский лес три римских легиона, а там их ждала засада. Никто из римлян не уцелел. Люди Арминия не удовольствовались простой резней. Они осквернили трупы, расчленили их, развесили конечности на ветвях, а головы насадили на колья. Гнусное дело, спору нет, но никак не конец римского присутствия в Германии. Бойня в Тевтобургском лесу случилась из-за честолюбия одного-единственного человека, Арминия, который хочет превратить созданную нами провинцию в собственное царство. Он просто вор. Я слышал, что он имеет дерзость называть себя Августом Севера, если можете поверить в такую наглость.
Однако отбрось страх, юный Марк. До сих пор наши попытки покарать Арминия и овладеть ситуацией терпели неудачу, но долго это не продлится. Как сенатор, заверяю тебя, что император пристально следит за этим делом. Не проходит и дня, чтобы он не прилагал усилий исправить положение. А если Август решил, Август делает.
– Но императору уже семьдесят пять, – напомнил Марк.
– Да, но к его роду принадлежат и более молодые, рьяные люди, сведущие в военном искусстве. Его пасынок Тиберий – отличный военачальник, да и саму провинцию изначально покорил покойный брат Тиберия, Друз Германик. А у Германика есть сын, который рвется личными победами подкрепить имя, переданное ему отцом. Оставь страх, Марк. Понадобятся время, усилия и немалое кровопролитие, но германская провинция будет усмирена. Да что же мы – разве уместно болтать о войне и политике в присутствии столь чувствительной юной особы! – Он снова улыбнулся Ацилии.
Она, бледная как полотно, прошептала:
– Неужели германцы и правда отрубают солдатам головы и насаживают на колья?
– Ты расстроил ее, отец, – укорил Луций и, воспользовавшись случаем, приобнял огорченную девушку. Брат не возразил.
– Тогда больше ни слова о столь неприятных вещах, – ответил Пинарий-старший.
– Вообще больше ни слова, если не хотите опоздать на церемонию, – вмешалась вошедшая к ним мать Луция. – Дождь почти перестал. Вам обоим пора идти, и поживее. Но тебе, Ацилия, спешить некуда. У меня есть рукоделие – ничто не расслабляет лучше прядения шерсти. Можешь помочь мне, если хочешь, и мы мило побеседуем.
Камилла проводила Луция с отцом в вестибул:
– Не волнуйся, сынок. Я знаю, ты отлично справишься. Или присутствие Ацилии так взволновало тебя? – рассмеялась она. – Ну, ступайте же!
* * *
– Тебе не кажется, что я хватил через край, напомнив юному Марку о нашем родстве с Божественным Юлием и императором? – спросил Пинарий-старший.
Спустившись по склону Авентина, они пробирались через многолюдный прибрежный район, держа курс на Какусовы ступени, которые поднимались к вершине Палатина.
– Думаю, Ацилиям отлично известны наши семейные связи, – утешил отца Луций. – Но не уверен, что это поможет делу. Да, мой дед был наследником Божественного Юлия и мы пребываем в родстве с великим Августом, но чего добились мы сами?
– И в самом деле – чего? – вздохнул отец. – Разве что все еще живы.
– Ты о чем?
Они начали подниматься по Какусовым ступеням. При Юлии Цезаре это была всего-навсего крутая извилистая тропа, как и во времена Ромула. Август превратил ее в каменную лестницу с широкими площадками, украшенную цветами. Отец Луция посматривал вперед и назад, проверяя, нет ли посторонних ушей.
– Ты никогда не обращал внимания, сынок, скольких членов семьи императора отправили в ссылку и как умерли самые дорогие его сердцу люди?
Луций нахмурился:
– Я знаю, что он изгнал свою дочь Юлию.
– Его огорчила ее безнравственность.
– И внука Агриппу.
– Которого тоже сочли недостаточно праведным.
– И мне известно о безвременной кончине двух других его внуков, Луция и Гая, которых он прочил в наследники.
– Верно. Чрезмерная близость к императору не всегда идет во благо личному счастью или здравию.
– Ты хочешь сказать…
– Я хочу сказать, что император подобен пламени. А его приближенные похожи на людей, жаждущих согреться. Но вряд ли позавидуешь человеку, который подступит слишком близко и сам загорится.
Луций покачал головой:
– Возможно, все обернулось бы иначе, будь боги более благосклонны к моему деду?
Пинарий-старший вздохнул:
– Твой дед, как и его двоюродный брат Август, был помянут в завещании Юлия Цезаря, но это принесло ему мало пользы, ибо в гражданской войне он встал на сторону Марка Антония и Клеопатры. Когда они потеряли все в сражении при мысе Акций, твой дед образумился и перешел к Августу, который великодушно простил его – однако впредь не явил ни кап ли милости. Возможно, победитель решил, что достаточно даровать заблудшему родичу жизнь и позволить сохранить остатки состояния, большей части которого он все же лишился, несмотря на деловые связи с Египтом. С тех пор твой родственник Август игнорирует нашу семью. Нас терпят, но не удостаивают ни милости, ни опалы, – что, впрочем, неплохо. О да, милость Августа способна возвысить до небес. Но не угодить императору или тем, кто вьется вокруг него и строит козни, – смерти подобно.
– Ты говоришь, что милостями нас не удостаивают, но все же он занес меня в списки будущих авгуров.
– Да, это он сделал. И ты не представляешь, сколько порогов мне пришлось обить. Будь благодарен за эту возможность, сын мой.
– Я благодарен, отец, – чистосердечно и кротко ответил Луций.
Сверху им открылся вид на Тибр, и даже в пасмурный, ветреный день на причалах кипела жизнь, а в неспокойных водах покачивалось множество судов. Над рекой нависал Капитолийский холм с его белыми храмами, сверкавшими после недавнего ливня. Сквозь рваные тучи пробился одинокий солнечный луч, ярко высветивший позолоченную статую Геркулеса.
За свою недолгую жизнь Луций успел увидеть, как богатеет и возвеличивается Рим. Бессчетные лавки были забиты товарами со всего света. На древние святилища и памятники навели лоск; построили новые, еще более грандиозные храмы. Кирпичные государственные здания отделали травертином и мрамором. «Я принял Рим кирпичным, а оставлю мраморным», – пообещал однажды император. Август держал слово.
Луций всю жизнь провел в Риме и не выезжал дальше Помпеев, но ему казалось, что на свете и быть не может места краше имперской столицы. Он гордился тем, что вот-вот по-настоящему приобщится к ее жизни, получит в ней важную роль, станет посредником между богами и городом, к которому те благоволят больше любого другого на всей земле.
* * *
Меж величественных зданий на Палатинском холме лежала открытая, поросшая травой и окруженная низкой каменной стеной площадь, известная как Авгураторий. На этом самом месте почти восемьсот лет тому назад Ромул выполнил гадание, которое определило, где строить город. Ромул узрел двенадцать стервятников; его брат-близнец Рем заметил над Авентинским холмом только шесть. Так боги дали понять, что предпочитают Палатин Авентину. Со временем город разросся и поглотил как Авентин, так и все семь холмов на Тибре, но началось все отсюда. По семейной легенде, в тот святой день рядом с Ромулом находился Пинарий, и с той поры прием в коллегию авгуров нового представителя рода Пинариев считался событием особой важности.
Выйдя из узкой улочки и приблизившись к Авгураторию, Луций с отцом окунулись в море шафрана и пурпура; каждый в толпе был облачен в трабею и держал литуус. Перед ними вырос высокий юноша, распростерший при виде Луция объятия.
– Л-л-луций! – заикаясь, произнес он. – Я уж думал, что ты не придешь. Меня при мысли об испытании б-б-бросало в холодный пот.
– Ты шутишь, конечно, кузен Клавдий, – ответил Луций. – Твое мастерство в гадании намного превосходит мое, и ты это знаешь.
– Одно дело распознавать знамения богов, и совсем д-другое – совершать обряд прилюдно!
– Я уверен, что оба вы отлично справитесь, – сказал отец Луция, лучась от гордости за сына и Клавдия, которые выступали нынче единственными претендентами на членство в коллегии.
Клавдий был внуком Ливии, жены императора, и, следовательно, внуком Августа, но его не признавали таковым ни по крови, ни по закону, поскольку Август не усыновлял покойного отца Клавдия – Друза Германика. Но все же юноша был внуком Марка Антония и сестры Августа Октавии, а потому приходился внучатым племянником императору и довольно отдаленной родней – кузеном Луцию.
Клавдий и Луций были одногодками. Последние месяцы они совместно изучали науку предсказаний. Молодые люди крепко сдружились, хотя отец Луция находил в них больше различий, чем сходства. Луций был на редкость красив, хорошо сложен и обладал изысканными манерами – факт, а не предвзятое мнение ослепленного любовью отца, – тогда как Клавдий, пусть рослый и недурной наружности, держался скованно и пришибленно, часто заикался и страдал лицевыми тиками, да в придачу подергивал головой. Иногда его заикание и судорожные подергивания усиливались. Кое-кто усматривал в этом умственную неполноценность. Однако на самом деле Клавдий, несмотря на молодость, являлся знатоком старины и погрузился в детали римской истории глубже всех, кого знал Пинарий-старший. Последний целиком и полностью одобрял дружбу сына с кузеном, а та опасность, о которой он недавно предупреждал Луция, – рискованность чрезмерной близости к императору и его кругу – вряд ли грозила Клавдию, поскольку император, смущенный физическими недостатками юноши, не подпускал его к себе.
Прозвучал гонг. Авгуры прекратили беспорядочные блуждания и рассредоточились в соответствии рангу и возрасту по четырем сторонам Авгуратория. Магистр коллегии вышел на середину площади, призвал к себе Луция с Клавдием и вопросил:
– Кто выдвигает сих новых членов?
Отец Луция шагнул вперед и положил руку на плечо сына:
– Я, Луций Пинарий, авгур, выдвигаю моего сына, Луция Пинария.
Из толпы выступило новое действующее лицо: старик, который, похоже, ничуть не заботился о собственном внешнем виде. Седые волосы нуждались в стрижке, а ветхая трабея помнила лучшие времена. Но когда он положил руку на плечо Клавдия и заговорил, в голосе прозвучала неоспоримая властность:
– Я, Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, авгур, выдвигаю моего племянника, Тиберия Клавдия Нерона Германика.
Магистр кивнул:
– Тогда перейдем к испытанию. – Далекий раскат грома побудил его взглянуть на небо. – Прорицательство есть способ, которым род человеческий определяет волю богов. Боги являют ее в знамениях, которые мы называем ауспициями. Познавшие способ умеют различить, благоприятны они или нет. Гадание указало, где возвести Рим. Как сказал Энний в начале одного из своих стихов: «По августейшем гаданье основан был Рим знаменитый»[5].
По расширении Римской империи мы встретились с другими народами, которые гадали иначе. Этруски изучали внутренности священных животных; вавилоняне наблюдали за звездами; греки внимали слепым пророкам; иудеев наставлял горящий куст. Но подобные пути не в римских обычаях: это низшие способы прорицательства, как очевидно из меньшей удачи, которая сопутствовала их приверженцам. Гадание римское, доставшееся нам от древнейших предков, – авгурство, и оно было, есть и всегда будет лучшим и самым истинным способом познания воли богов.
– Слушайте, слушайте! – вскричал Август, понуждая к тому же толпу.
– Есть пять видов авгурства, – продолжил магистр, – пять средств получения ауспиций. Самые убедительные ауспиции являются в громе и молнии, исходящих непосредственно от Юпитера. Ауспиции можно различить и по явлению некоторых птиц – ворона, вороны, совы, орла и стервятника. От второго, связанного с птицами вида авгурства происходит третий, который наши предки первоначально изобрели для военных кампаний, где ауспиция может понадобиться в любой момент для принятия судьбоносного решения. Авгурство третьей разновидности осуществляется так: из клетки выпускают курицу, рассыпают перед нею зерно и следят, как она клюет или не клюет пищу. Ауспиции также можно добыть от четвероногих животных, и это следующая разновидность. Если лисица, волк, лошадь, собака или любое другое существо о четырех ногах пересечет человеку дорогу или явится в неких необычных условиях, то смысл сего может истолковать только авгур; однако важно помнить, что данный четвертый вид гадания применяется только для прорицаний частных и никогда – государственных. Авгурство пятого вида имеет дело со всеми знамениями, которые не подпадают под перечисленные четыре категории, и к ним относятся всевозможные необычные события: рождение двуглавого животного, падение странного предмета с небес, огонь, который появляется и исчезает без следа. Гадание пятого рода может осуществляться и по обычным происшествиям: чиханию, спотыканию, ошибке в имени или слове.
Клавдий вдруг дернул головой. Луций едва заметил его движение краем глаза, но оно не могло укрыться от собрания. Не был ли спазм знамением богов, о котором только что говорил магистр? Луций решил, что нет; каждый знал, что Клавдий с детства подвержен тику. Иногда конвульсия – это просто конвульсия. В толпе тем не менее тревожно зашептались.
Магистр притворился, что ничего не заметил.
– Луций Пинарий, какое авгурство покажешь ты нам сегодня, дабы установить, благосклонны ли боги к твоему членству в коллегии?
День выдался ненастный, и ответ был очевиден.
– Первой разновидности, – произнес Луций.
Все отступили, оставив Луция одного посреди Авгуратория. Он медленно повернулся вокруг своей оси, изучая небо. На юго-западе грозовые облака собрались гуще, и он указал на них литуусом. Авгуры столпились за спиной у юноши. Луций очертил литуусом квадрат. Слева направо тот вобрал в себя пространство от крыши храма Дианы на Авентинском холме до крыши храма Юпитера на Капитолийском; снизу доверху – расстояние от горизонта до зенита. Выделив небесный сегмент, Луций опустил литуус и принялся наблюдать и ждать.
Поначалу он был терпелив и старался не моргать, потом начал волноваться. Боги, включая Юпитера, не всегда подавали знаки. Вдруг молнии не будет? В таких обстоятельствах отсутствие знака воспримут как неблагоприятную ауспицию. Луцию почудилось, что сзади забормотали и зашаркали, будто авгуры тоже теряли терпение. Как долго полагается ждать? Решение должен принять старший авгур, в данном случае – император. Они могут простоять до ночи в ожидании вспышки – или Август завершит испытание уже в следующую секунду.
Сердце Луция бешено колотилось. Ожидание сводило с ума! Если ничего не произойдет, как с ним поступят? Что скажет отец? Он осознал, что сжимает литуус до побеления костяшек, сделал глубокий вдох и ослабил хватку. Другой рукой скользнул за пазуху, под трабею, и прикоснулся к золотому амулету.
И тут он узрел вспышку. В следующий миг позади приглушенно ахнули, а через несколько ударов сердца донесся удар грома. Далекая вспышка возникла слева, над самым храмом Дианы, но все-таки в пределах очерченной области. Молния слева считалась благоприятным знамением – чем дальше влево, тем лучше. Добрая ауспиция! Юпитер явно доволен. И тут, словно с целью развеять последние сомнения в его одобрении, в том же месте один за другим мелькнули несколько слепящих зигзагов, в сопровождении череды громовых раскатов. Для Луция далекий рокот уподобился восхищенному смеху богов.
– Ауспиция благоприятна! – вскричал магистр. – Есть ли здесь авгур, который считает иначе?
Луций оглянулся и отыскал в толпе отцовское лицо. Отец улыбался, как и те, кто стоял вокруг.
Похоже, улыбался и Август, хотя Луций не смог разобраться в выражении лица старика. В глазах императора не было радости, только усталость, а желтозубый оскал напоминал скорее гримасу.
– Полагаю, мы все сошлись в том, что ауспиция благоприятна? – спросил Август.
Толпа отозвалась кивками и согласными выкриками.
Магистр положил руки на плечи Луция:
– Мои поздравления, Луций Пинарий. Отныне ты авгур. Мудро пользуйся навыками и властью жреческого служения во благо Риму и с величайшим почтением к богам.
Затем он повернулся к Клавдию:
– Теперь ты, Тиберий Клавдий Нерон Германик. Какой вид авгурства покажешь ты нам сегодня, дабы установить благосклонность богов к твоему членству в коллегии?
Клавдий шагнул вперед:
– Я выбираю… – Он тяжело запнулся, как иногда с ним случалось; заикание мешало выговорить следующее слово. Наконец, плотно сжав губы, он выпалил: – П-п-птиц!
Толпа зашевелилась: большинство, включая Луция, было удивлено таким выбором. В грозовой день, когда молнии так и бьют, птицы наверняка попрятались по гнездам от ветра и дождя.
Но Клавдий, похоже, не сомневался в себе. Внимательно изучив небо, он обратился к северо-востоку – в сторону, прямо противоположную выбранной Луцием. Затем поднял литуус, чтобы очертить сегмент над Форумом и Эсквилинским холмом.
И выронил литуус, не закончив. У Луция невольно вырвался стон, который подхватило еще несколько человек. Клавдий всегда отличался неловкостью, но уронить посох авгура – знак безусловно дурной.
Август, если и смутился, вида не подал.
– Подбери литуус, – молвил он, – и принимайся за дело, юноша, да побыстрее, чем ошпаривают спаржу!
Толпа расхохоталась, напряжение спало. Император славился простецкими метафорами, которые в устах любого другого оратора сочли бы неуклюжими.
Август откашлялся и продолжил:
– Для своих первых ауспиций я тоже выбрал птиц. Увидел двенадцать стервятников – двенадцать! Ровно столько, сколько узрел Ромул, когда закладывал город. Давайте посмотрим, что напророчат пернатые посланцы Юпитера моему племяннику.
На лице старика вновь появилась не то гримаса, не то улыбка, – Луций так и не понял.
В ожидании знамения Луций припомнил все сложности гадания по птицам. Они приводили в уныние. В ауспиции учитывался не только вид пернатых, но также их число, направление полета – летят ли все в одну сторону или в разные, молчат или галдят. Любой крик, любое движение каждой птицы толковались по-разному с учетом всех обстоятельств и времени года. Гадание по птицам гораздо скорее подвергнет ауспицию неоднозначному толкованию, чем молнии, – если птицы вообще появятся в такое ненастье.
Все ждали. Луцию стало не по себе, он тревожился за Клавдия почти как за себя самого. Для него было бы немыслимо огорчить и опозорить отца. Насколько же тяжелее бремя Клавдия, за которым стоит император?
В тот самый миг, когда Луций почти утратил терпение из-за неизвестности, Клавдий указал литуусом вдаль и воскликнул:
– Вон т-т-там! Два стервятника над Эсквилинскими воротами, они летят сюда!
И точно: в небе появились два стремительных пятнышка, но они находились так далеко, что даже превосходное зрение Луция не позволило различить породу птиц. Очевидно, у Клавдия глаз был еще острее, потому что вскоре прищурившиеся авгуры дружно согласились: да, это и правда стервятники. Птицы повернули назад к Эсквилинским воротам и принялись над ними кружить.
Затем с той же стороны, откуда прибыли первые, явились еще два стервятника, а потом два следующих, и еще один, пока над воротами не собралось семь птиц. За воротами, вне стен, находился некрополь, город мертвых, где хоронили рабов и оставляли на корм птицам тела казненных преступников. Неудивительно, что стервятники туда слетелись, но появление сразу стольких особей в такую погоду непосредственно во время гадания Клавдия оказалось событием знаменательным. Благоприятной ауспицией служил и полет их сначала к Авгураторию, а после – прочь.
Август объявил гадание завершенным. Магистр был потрясен:
– Семь стервятников! Значительно меньше, конечно, поставленного Ромулом рекорда, но на одного больше, чем увидел Рем! Есть ли здесь сомневающиеся в благоприятности ауспиции? Нет? Отлично, тогда объявляю, что в сей день Тиберий Клавдий Нерон Германик показал себя истинным авгуром, которого признали его коллеги, а главное – сам Юпитер. Мудро пользуйся, юноша, навыками и властью жреческого служения во благо Риму и с величайшим почтением к богам.
Церемония закончилась. Луций и Клавдий приняли поздравления от авгуров, после чего вся коллегия потянулась в императорскую резиденцию. Пир, следовавший за посвящением новых авгуров, обычно проходил в частном доме, но на сей раз роль хозяина играл Август. Он явно задался целью напомнить всем о своем родстве с Клавдием. О том же, что Луций Пинарий его кузен, даже не упоминалось.
В ходе недолгого шествия мимо ряда красивейших в городе зданий Луций, шагавший рядом с Клавдием, выразил восхищение его авгурством:
– Очень смело с твоей стороны! Я бы никогда не дерзнул выбрать гадание по птицам. Предпочел обойтись молниями, которые надежнее. И поступил разумно, – во всяком случае, мне так показалось, ибо гадание по молнии обычно уважают больше. Но ты затмил меня, Клавдий!
Клавдий поджал губы, кивнул и что-то задумчиво промычал. Голова у него резко дернулась в сторону.
– Да, пожалуй, – произнес он, – хотя ты правильно говоришь: гадание по молниям ценится превыше других. Как по-твоему, почему? – Испытание осталось позади, и заикание мгновенно прошло.
– Магистр учил нас, что гром и молния исходят непосредственно от Юпитера, – ответил Луций.
– Да, но птицы – его посланники, так почему же мы ценим гадание по ним ниже? Нет, как по мне, толкование молний производит большее впечатление благодаря тому, что смертным не под силу подделать вспышку, тогда как птиц можно выпустить в определенном месте и в нужное время.
Луций нахмурился:
– Не хочешь ли ты сказать, что появление стервятников подстроено?
– О, разумеется, не в случае с Ромулом или двоюродным дедом. Но что касается меня – как знать? – Клавдий пожал плечами. – Мои недостатки очевидны, и царственный дед не нашел для меня занятия выше авгурства. Я слишком неловок, чтобы снискать воинскую славу. Ты видел, как я уронил литуус, а если бы это был меч на поле боя? И я слишком явно заикаюсь, чтобы произносить яркие речи в с-с-сенате. – Он сардонически усмехнулся. И не нарочно ли запнулся? – Тебе не кажется, что хватило бы и трех стервятников? Дед вечно переусердствует! Почему, Луций, по-твоему, когда в коллегии открылись две вакансии, он разрешил тебе соискательство?
– Я знаю, отец сделал все возможное, чтобы выдвинуть меня и заручиться расположением императора. Однако он удивился, когда преуспел, с учетом моего юного возраста…
– Ха! Дед одобрил твое членство в коллегии только по одной причине: он хотел сделать авгуром меня и специально подбирал еще одного кандидата-сверстника, чтоб это не слишком бросалось в глаза. Ты стал прорицателем благодаря своим годам, Луций, а не вопреки им! Но важнее всего, кузен Луций, что наши испытания позади и теперь мы авгуры. Пожизненно! А что за штука у тебя на шее? – Клавдий заметил амулет, который выскользнул из трабеи и сверкнул золотом поверх пурпурной шерстяной ткани.
– Семейный талисман.
– Откуда он? Что означает?
– Да мне и неведомо, – признал Луций с некоторой досадой. Грамотей Клавдий так глубоко раскопал историю собственной семьи, что мог объяснить даже самые темные предания пращуров.
Клавдий остановился, взял амулет в руки и пристально рассмотрел.
В ходе совместного обучения Луций уже замечал подобный блеск в глазах друга: возбуждение заядлого историка при виде загадки.
– Я думаю, Луций… да, п-п-полагаю, что имею н-некоторое представление о происхождении вещицы. Надо бы предпринять кое-какие изыскания…
– Идемте же, друзья мои авгуры, – позвал поравнявшийся с ними отец Луция. – Мы почти пришли. – Он, как и его сын, ни разу не бывал в императорской резиденции и разрумянился от волнения.
Сперва они вошли во внутренний дворик, который оказался не пышнее, чем в любом доме умеренного достатка, разве что в центре были выставлены напоказ славные реликвии: на деревянном постаменте красовалось личное боевое оснащение императора – доспехи, меч, топор, шлем и щит.
– Смотри, как блестят! – шепнул Луций. – Как будто только что начистили!
– Полагаю, так и есть. Наверняка имеется раб, который ежедневно это делает, – ответил Клавдий.
Авгуры столпились во дворе в ожидании, когда откроются массивные бронзовые двери, и Луций взглянул на огромный лавровый венок, высеченный в мраморной притолоке.
– Подобного знака удостаивается солдат, спасший в бою товарища, – пояснил Клавдий, перехватив его взгляд. – Угадаешь, почему сенат проголосовал за награждение двоюродного деда столь грандиозным изображением лаврового венка?
– Наверное, ты сам скажешь.
– Он был присужден в честь его победы над Клеопатрой и моим родным дедом Марком Антонием, которого я, разумеется, не знал, ибо он пал от собственного меча за двадцать лет до м-м-моего рождения. Выиграв войну, Август, как ты сам понимаешь, спас от порабощения египетской царицей все гражданское население Рима и грядущие поколения; так он и заслужил соразмерно роскошный лавровый венок.
Из дома донесся лязг отодвигаемого засова, и огромные бронзовые двери начали медленно отворяться внутрь.
Луций отметил, что по бокам от прохода высятся два цветущих лавровых дерева. Сверкнула молния, двор дрогнул от громового раската, и он увидел, что некоторые авгуры отламывают веточки лавра и прячут под трабеи. Все знали, что молнии никогда не поражают лавровые деревья. Многие считали, что побеги в состоянии защитить и человека.