Ульфила Хаецкая Елена
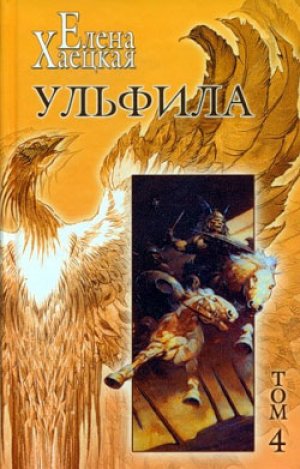
– Так то когда было!.. С той поры многое переменилось. И не к такому врагу привыкнуть можно. Гунны тоже люди и с лошади падают, если, конечно, силу приложить и умение. Я тебе совет дам. – И к Феодосию наклонился. – Попробуй хотя бы один отряд гуннов на службу себе взять. Друзьями не делай, к себе не приближай, пусть за деньги служат. Заодно и приглядишься к ним. Ибо рано или поздно воевать с ними Империи насмерть.
Долго говорили еще. Об условиях торговались (ибо готские федераты за службу свою не только земли, но и «стипендию» хотели). О достоинствах линии оборонительной спорили.
Феодосий много знал. И из книг, и из путешествий с отцом своим, а больше всего – из бесед с ним.
Фритигерн же немало из тех знаний на деле опробовал. Хвалил многие бурги и валы; военачальников феодосиевых знал лучше, чем сам Феодосий. Но больше всех хвалил Фритигерн военачальника Бавда.
Переговорами с ромейским императором остался Фритигерн весьма доволен. И Феодосий ему очень понравился. Беседовали долго, пока не проясненного между ними не осталось; многое с полуслова друг о друге поняли, а многое – и вовсе без слов.
После познакомил Феодосий князя, гостя своего и федерата, с императрицей Флакиллой. Стройна императрица, как тростинка, лицо у нее красивое, нервное. Прекрасная пара Феодосию. И уже успела принести ему сына – Аркадия.
Восхищенно смотрел варварский князь на Флакиллу, на хрупкие руки ее, изнемогающие под тяжестью золотых браслетов, на копну искусно убранных волос, на стан ее, как у девочки, гибкий.
И сказал Феодосию:
– Поздравляю тебя. Редко, чтобы женщина, столь пригодная для утех, отличалась еще и плодовитостью.
А у Флакиллы губы вздрогнули, по лицу румянец побежал, как пожар по соломенной крыше. И вспыхнула, задрожала, разрыдалась, вон выбежала, к щекам руки прижимая. За ней, шелестя и причитая, припустили няньки и служанки.
Фритигерн рот разинул, так удивился. Спросил Феодосия:
– Чем же я обидел ее?
Феодосий вздохнул:
– Супруга моя – знатная и благочестивая римлянка, а ты говорил о ней, будто о породистой лошади.
Расстался с союзником своим и пошел к императрице – утешать и уговаривать. Ах, какие грубые времена настали. Но тут уж ничего не поделаешь, нужны Феодосию везеготы. Кто же границу оборонять будет? Солдаты ромейские нынче не столько служат, сколько воруют. А вези уже сталкивались с гуннами, знают, как с ними сражаться. Да и жаль природных римлян губить. Пусть лучше вези под копытами гуннских лошадей умирают, а мы за их спинами будем расцветать, подобно тому, как расцветает сад за каменной оградой.
Говорил ласково, слезы с милых щек вытирая. Долго говорил, покуда всхлипывать не перестала. И поняла Флакилла, что никуда от этого не деться. Придется терпеть Фритигерна – этого варвара, еретика и хама.
Переговоры Феодосия с Фритигерном длились уже седмицу. Фритигерн не спешил. Выторговывал условия получше, пожирнее для себя и родича своего Алавива, а заодно и приглядывался – к государю ромейскому, к окружению государеву, особенно к военным, к столице. Много времени на улицах проводил. Любопытствовал, отчасти праздно, отчасти же плотоядно. Разве что на зуб Великий Город не пробовал князь Фритигерн.
В Городе велось большое строительство. Возводили храмы и прокладывали акведуки. Вся Империя глядела со стен новых зданий, в которых угадывались руки зодчих и сирийских, и армянских, и италийских. Фритигерна, впрочем, не столько красота, сколько крепость этих стен интересовала.
Шел себе Фритигерн по Константинополю и с ним один из дружинников его, по имени Тразарих. Тразаризу немногим больше двадцати, он хорошего рода, а нравом сходен с Алавивом: чуть что не по нему, сразу в драку. Фритигерн нарочно его с собой взял, чтобы тот в беду не попал, оставшись с Алавивом. Был дружинник рыжеват, кожа от веснушек желтая.
Купили князь с дружинником по сладкой булке у уличного разносчика, шли, жевали. Улица, мощеная круглым булыжником, вела круто вниз, потом заворачивала. И вот из-за поворота шум выскочил, будто бы люди кричат, ноги топают, оружие звенит. Переглянулись между собой вези и поскорее булку в рот затолкали, чтобы драться не помешала (если придется), а после шаги ускорили.
За поворотом открылась им небольшая базилика, старая, темным камнем сложенная. Выглядела она как бы растерянной, ибо возле нее, в открытых дверях и, видимо, внутри кипел настоящий бой. Ромейский сотник в блестящих доспехах, от пота лоснящийся, кричал, напрягая на шее жилы и багровея лысеющим лбом:
– По приказу императора!..
Солдаты сдерживали толпу, бесстрашно наскакивающую прямо на выставленные вперед копья. Но подобие порядка сохранялось лишь у самого входа; справа и слева бурлили яростные потасовки, и вот уже кто-то остался лежать с разбитой головой.
Из толпы дерущихся выбралась растрепанная старуха. С визгом и проклятиями повисла на сотнике. Стал тот отцеплять от себя ее пальцы, пока наконец не понял, что бесполезно это: сущей пиявицей впилась. Тогда ударил ее кулаком по голове. Странно булькнув, старуха упала на землю. Корчиться в пыли стала, выплевывая кровь и сотника проклиная неустанно.
– По приказу императора!.. – надрывался сотник, отталкивая извивающуюся фурию ногой. – Велено отобрать все базилики у еретиков, называющих себя последователями Ария…
Он поперхнулся – все равно его никто не слышал – и махнул рукой, досадуя.
Тразарих побледнел так, что веснушки сразу будто отделились от бледной кожи.
– Он же обещал нашему Ульфиле! – сказал Тразарих Фритигерну.
– Кто обещал?
– Император ихний! Феодосий!
Фритигерн пожал плечами. Дружиннику плечо стиснул.
– Император Феодосий у себя в столице пусть делает, что хочет. А мы у себя, на фракийских землях, будем делать, что захотим.
Тразарих вырвался из рук Фритигерна, к базилике бросился. Фритигерн головой покачал, но с места не сдвинулся. Не для того до хрипоты торговался с Феодосием и хитроумными царедворцами его, чтобы в одной глупой стычке все разом потерять.
Пока князь стоял бездеятельно и о том размышлял, как бы Тразариха из драки вытащить и безопасно скрыться, на него наскочил дюжий оборванец – из тех, что трутся возле бесплатных раздач хлеба или болтаются по кабакам. Заверещал, приседая и приплясывая, на Фритигерна грязными руками показывая:
– Еретик! Еретик!
Фритигерн смотрел, задумчиво губу покусывал.
– Еретик! Еретик!
На визг еще несколько набежало таких же. У одного Фритигерн нож приметил. Ах ты, Боже мой, тоска-то какая – руки марать. И убил того, что с ножом был; после ранил двоих и отступил на шаг, неприятно улыбаясь.
Тем временем двое солдат волокли из базилики какого-то человека с разбитым лицом; тот мотал головой, и кровь заливала ему глаза. Остановились в дверях, еще раз ударили и вышвырнули вон. Тот человек упал, ударился о камни и съежился, закрывая голову руками.
Возле него тотчас же оказался Тразарих. Фритигерн, радуясь, что нашел своего дружинника, одним прыжком подскочил – выручать.
Теперь толпа окружала их со всех сторон. Ромейские солдаты в уличную драку не вмешивались. Велено было отобрать у ариан эту базилику и выдворить оттуда пресвитера-еретика – они и выдворили. И никого не убили, а что рожу расквасили – так заживет рожа. На еретиках, говорят, как на собаках заживает. Что сделает плебс с его паствой – то совершенно никого не касается. Глас народа – глас Божий.
Среди тех, кто оборонял арианина от гнева толпы, было несколько варваров, наемников или приезжих. Паства же состояла почти исключительно из женщин, которые, к великому облегчению Фритигерна, скоро разбежались кто куда.
Арианин-пресвитер с громким стоном встал на четвереньки, покачался и, хватаясь за стену, поднялся на ноги. Вздохнул осторожно, будто проверял: целы ли кости, не развалятся ли от неосторожного вдоха.
Рядом оказался рыжеволосый Тразарих, тот самый, что очертя голову спасать его бросился. Метнул сердитый взгляд на духовное лицо и неожиданно бросил в него тяжелый посох (в храме подобрал):
– Держи, поп!
Фритигерну вовсе не улыбалось отбиваться от разъяренной толпы бродяг и бездельников. Не занятие это для князя. И начал понемногу отступать, злясь на себя и Тразариха, что ввязались в эту историю.
Пресвитер, длинный тощий ромей, очухавшись от побоев, орудовал посохом с медным навершием. Его редеющие золотистые волосы слиплись от пота, лицо разбито, один глаз заплыл. Вдруг человек этот показался князю знакомым, и в тот же миг мелькнуло воспоминание: ульфилин чтец. Фритигерн забыл его имя.
Фритигерн крикнул ему, задыхаясь:
– Ты! Прикрой-ка меня!
Меркурин Авксентий (убедившись в том, что кости целы, сражался едва ли не более увлеченно, чем драчливый Тразарих) ловко ткнул своим посохом одного из нападавших в живот. Дальнейшее развитие событий от Фритигерна ускользнуло, поскольку князь выбрался из свалки.
На сотника наскочил разъяренно и с ходу обругал его.
– Задница! – рявкнул князь напоследок. – Разгони этот сброд, или я перебью твоих солдат!
Сотник почему-то поверил Фритигерну. Посмотрел на варвара усталыми глазами. Сказал сипло:
– Это происходит по всему городу. Не вмешивайся. По приказу государя…
– Я князь Фритигерн! – завизжал, как бесноватый, Фритигерн. – Твой император зовет меня братом! Меня убьют! Разгони толпу! Если я умру, тебя посадят на кол!
Сотник, разумеется, ничего не знал о переговорах Феодосия с Фритигерном. И ему наплевать было на то, кто служит в этой базилике – еретики или кафолики. Ему велено было выдворить отсюда арианского пресвитера, вот он его и…
Фритигерн с силой ударил сотника кулаком в грудь.
– Ублюдок! Спаси меня!
И сотник отдал приказ своим солдатам – разогнать толпу.
Через несколько минут все было кончено. На ступенях и пыльной маленькой площади перед входом остались лежать несколько трупов. Солдаты закрыли тяжелые двери базилики, чтобы спустя пару дней широко распахнуть их перед служителями кафолического исповедания.
Фритигерн огляделся по сторонам. Своего дружинника и арианина-священника нашел у задней стены базилики. Оба сидели на земле, привалившись спиной к теплому камню стены. Тразарих безостановочно ругался и плевал кровью.
Князь остановился перед ними. Смотрел холодно, будто из северной зимы.
Бывший ульфилин чтец свое имя назвал: Авксентий. То веко распухшее пальцами ощупает, то губу расквашенную потрогает. Отменно отделали попа, ничего не скажешь.
– Нашу веру повсюду истребляют, – проговорил Меркурин Авксентий мрачно. – Император Феодосий обманул нас. Обещал же Ульфиле…
– А нам-то что, – сказал на это Фритигерн. – Мы вези. Мы федераты Феодосия, щит Империи. Исповедуем ту веру, какую хотим, и никто нам не указ, а меньше всего – ромеи.
Меркурин Авксентий перевел дыхание. Хоть кости и целы, а дышалось трудно, один удар, видно, по груди пришелся.
Втроем поднялись, в кабак направились – душевные раны целить. Деньги только у Фритигерна были, он и купил кувшин дешевого вина. Первым приложился и долго пил, отдуваясь. Затем Меркурину Авксентию протянул.
– Глотни, полегчает.
Меркурин Авксентий глотнул раз, другой и вдруг почувствовал, что ему и впрямь полегчало.
А Фритигерн возьми да спроси об Ульфиле: правда ли, что нездоров епископ?
У Меркурина сердце сжалось. Не мог он сейчас об этом думать. Только кивнул и снова к кувшину приложился в надежде, что с новым глотком наступит просветление. Но кувшин был пуст.
Меркурин денег у Фритигерна в долг попросил. Мол, надобность одна есть.
Того уже одолевало выпитое – князь одним махом выхлебал почти весь кувшин, а ромейские вина коварны, особенно дешевые. Зевнул и дал Меркурину Авксентию, не считая, горстку меди.
– Дойдешь один-то? – спросил Меркурина Авксентия.
Тот кивнул.
Фритигерн пьяно поднял светлые брови, заметные на загорелом лице, рукой махнул и отвернулся.
Епископ Доростольский Авксентий явился домой под вечер. Надеялся, что Ульфила уже спит и не услышит его возвращения.
Естественно, Ульфила не спал, хотя после целого дня, проведенного в богатейшей столичной библиотеке над книгами, был очень утомлен. Меркурин едва успел сменить грязную порванную одежду на свежую и кое-как смыть с лица и волос кровь, свою и чужую, как за занавесом у входа послышался негромкий голос Фритилы.
– Епископ зовет, – сказал Фритила, не заходя. – Поговорить с тобой хочет. Сможешь навестить его?
– Конечно, – отозвался Меркурин Авксентий с тяжелым вздохом. – Скажи, сейчас буду.
Взял в руки маленькую коробочку с женскими притираниями. Купил у какой-то дешевой потаскухи – та терлась возле веселого заведения и сладко пела хвалу своему сомнительному товару. И Авксентию подмигивала намекающе.
От притираний несло бараньим жиром. Чтобы перебить стойкую вонь, добавлено розовое масло.
Превозмогая отвращение, Доростольский епископ кое-как замазал синяк под глазом и кровавые полосы на скуле, оставленные чьими-то когтями.
И к Ульфиле явился, пряча лицо в тени.
Ульфила посмотрел на него устало. Укорять не стал. Сказал:
– Рад, что с тобой дурного не случилось.
В тот же миг не стало Доростольского епископа Авксентия. Только и остался, что мальчишка Меркурин из деревни Македоновка, ни на что не годный средний сын пьяницы Авдея, – обуза на ульфилиной шее.
Повесил голову, оправдываться начал.
Ульфила перебил:
– По порядку рассказывай, раз уж ввязался.
Авксентий и рассказал все по порядку. Как по приказу Феодосия базилику Мучеников Мурсийских заняли солдаты. Как толпа рвалась всех растерзать, кто в базилике был.
– Убитых, наверное, больше десятка осталось, – добавил Меркурин Авксентий. – Сказать по правде, меня только случайность и спасла.
Ульфила спросил:
– И как ее звали, эту случайность?
Меркурин Авксентий исподлобья поглядел. И имя назвал, Ульфиле ненавистное:
– Фритигерн. – Вздохнул и добавил: – Кабы не он, ромейские солдаты и пальцем бы не шевельнули, чтобы защитить меня. И дружинник с князем был, ему тоже от толпы сильно досталось…
– Имя не помнишь?
– Тразарих. Рыжий, в веснушках.
Ульфила прикрыл глаза. На людей, им просвещенных, был Ульфила чрезвычайно памятлив. Вот и теперь, будто луч вспыхнул, – увидел: рыжеватый паренек лет шестнадцати, еще за Дунаем, в Дакии-Готии, когда собирались вези сорок дней подряд и каждый день учил их Ульфила. Слушал этот Тразарих, приоткрыв рот, глядел влюбленно – нравился ему Ульфила. И Ульфиле мальчик этот нравился, хоть и приходил часто в синяках и ссадинах – видно было, что много и с удовольствием дерется.
Учил его Ульфила любви и миру. И слушал Тразарих, светом полнился.
А потом настало время Фритигерна и Феодосия, и оба они, и князь готский, и император ромейский, каждый по-своему, научили паренька ненависти и войне.
И сожаление сжало и без того больное сердце Ульфилы.
Фритигерн хорошо знал, что готский пресвитер костьми ляжет, а к Ульфиле его не допустит. Класть же пресвитера костьми князю не хотелось.
Потому между ним и Фритилой произошел такой разговор.
– Ты… Да кто ты такой? – вскрикнул верзила пресвитер, преграждая Фритигерну дорогу.
– Тише, – прошипел Фритигерн, зажимая ему рот мозолистой ладонью. – Драк только не устраивай, ты, духовное лицо.
Промычал полузадушенный Фритила, обдавая ладонь Фритигерна влагой дыхания:
– Что нужно?
– Шуметь не будешь? – спросил Фритигерн, продолжая на всякий случай держать Фритилу за горло.
Пресвитер обещал, что не будет.
– Я Фритигерн, – сказал князь. – С епископом твоим говорить хочу.
Дал Фритиле время осознать услышанное и только после этого отпустил. Тяжело дыша, сел готский пресвитер на каменную скамью, руку на львиную голову подлокотника свесил.
– Фритигерн, – повторил он.
Слегка пригнув голову, смотрел на него варварский князь – в светлых волосах ни волоска седого. Улыбается ласково, как во сне.
– Я войду, а ты не шуми, – сказал князь. – Худого Ульфиле не сделаю.
И вошел.
И впрямь очень болен был Ульфила, Фритигерн с первого взгляда понял. Часто умирали люди на глазах князя. Научился различать, какую рану залечить возможно, а от какой человеку не оправиться. Ульфила был ранен смертельно.
И все слова застряли в горле Фритигерна, и поперхнулся он ими. Не стал говорить того, что задумал, просто рядом с постелью на колени опустился и шершавыми губами коснулся руки ульфилиной.
Тотчас же ожили на бледном костлявом лице епископа темные глаза.
– Фритигерн, – сказал он. – Ах ты, лис. Встань-ка, видеть тебя хочу.
Фритигерн встал.
Хоть и мылся в ромейских банях и одет был во все чистое, а пахло от него как от дикого животного.
Еле заметно улыбнулся епископ.
– Зачем пожаловал, князь?
– У людей нашего исповедания в этом городе храмы отбирают, – сказал Фритигерн.
Ульфила молчал. Долго молчал.
И сказал князь, в молчание это вторгаясь:
– Ты мне вот что, епископ, растолкуй. Те, которые храмы наши отбирают, – они тоже христиане, как и ты?
– Христиане, – ответил князю Ульфила. – Только не как я. Я их считаю еретиками, они – меня.
– В чем же различие?
– Есть различие, – проговорил Ульфила.
– Почему ты не рассказывал нам об этом?
Ульфила пошевелился на подушках. Глаза его вспыхнули.
– Я учил вас так, как учили меня, и считаю это правильным. Господь с тобой, Фритигерн! Твои вези едва единобожие усвоили, да и то половина черепов от того с натуги треснула. Как же мне было рассказывать вам о том, где лучшие богословские умы бессильны к согласию прийти? Я тебе так скажу: многие разногласия проистекают только от низменной человеческой страсти к власти и роскоши. Тем, кто истинно верует, премудрости эти и разномыслия вовсе ни к чему. Я хотел научить вас любить Бога. Толковать с такой паствой догматы – дело опасное.
Фритигерн помолчал, раздумывая над услышанным. Ай да Ульфила! Вот тебе и блаженный старик епископ. От соблазна уберечь своих везеготов хотел. Потому и взял на себя великую дерзость – решать для целого народа, какая вера является истинной, а какая ошибочной.
И сказал Фритигерн:
– Крепко обидел тебя нынешний государь своими указами, Ульфила.
– Что с того, – отозвался Ульфила. – Слышал я, ты к нему на службу пошел?
– Пошел, – не стал отпираться князь. – Так ведь одно другому не мешает. Я пришел сказать тебе: знай, мы, вези, останемся при той вере, которую передал нам ты. Указы Феодосия нам не указ, ибо за нами немалая сила.
Спросил старый патриарх:
– Зачем ты говоришь мне это, Фритигерн?
– Узнал, что ты умираешь, – прямо ответил князь. – Горечь у тебя на душе. Нельзя умирать с горечью, Ульфила.
– Сорок лет я проповедовал эту веру, претерпевал гонения, видел, как умирают за нее люди. И вот пришел юнец и все перечеркнул, – сказал Ульфила. Фритигерн вздрогнул, будто его опалило. – Юнец, случайно призванный на царство и окрещенный, благодаря случайности.
– Нам, вези, дела нет до желаний Феодосия, – повторил Фритигерн. – Держались твоей веры прежде, не отступимся и впредь. – И сказал так откровенно, как только мог: – Поверь мне, Ульфила. Мне выгодно от константинопольской епархии отделиться. Пока наша готская Церковь от ихней Церкви независима, легче свою политику вести. Что с того, что я на службу Феодосию пошел? Я еще и дружину атанарихову себе взял. А вот обидит меня Феодосий – вцеплюсь ему в глотку, и патриархи ромейские меня не остановят.
И улыбнулся Ульфила.
– Теперь вполне верю тебе, Фритигерн.
Молчали.
Вся прежняя их любовь и вся взаимная ненависть сгустились в комнате, где умирал Ульфила.
Наконец спросил Фритигерн:
– Что ты видишь перед собой, Ульфила?
Ульфила открыл звериные свои глаза, от боли посветлевшие.
– Ни гроша, видать, вера твоя не стоит, Фритигерн, если все еще сомневаешься.
– Нет, – сказал Фритигерн. – Я не сомневаюсь.
Смотрел на него Ульфила, разрыдаться бы впору, но сил нет. Что делал сейчас, уходя от людей? Предстояло ему вложить судьбу своей веры в эти обагренные кровью руки фритигерновы. Какую загадку загадал ему напоследок Господь? Что должен был понять Ульфила в последние дни жизни своей, когда оказалось вдруг, что из всех чад его убийца Фритигерн – избранное и любимейшее?
И благословил Фритигерна.
Понял Фритигерн, что сейчас расплачется, и выбежал вон.
Ульфила умер осенью 381 года в Константинополе.
И словно опустел мир.
Оставались еще люди сильные и неистовые, продолжали кипеть страсти, но не было больше Ульфилы, последней совести бессовестных варваров. Собор «о вере», обещанный Ульфиле Феодосием, превратился в сплошную склоку, так что, в конце концов, патриарх Константинопольский Григорий припечатал высокое собрание духовных отцов «птичьим базаром» и, сложив с себя все регалии, спешно уехал в Каппадокию, к отцу своему, тоже епископу, а кафедру бросил.
Время, быть может, на мгновение только запнулось, когда епископ Ульфила вышел из этой реки, но тут же возобновило бурное течение свое. И понесло дальше мимо острых скал, мимо крутых берегов, швыряя о камни или мимолетно лаская волной – и Меркурина Авксентия, и Силену-гота, и Фритилу-гота; князя Фритигерна с родичем его Алавивом; императора Феодосия и полководца Бавда; везеготов и ромеев; алан и надвигающихся грозовой тучей гуннов, уже несущих в чреве своем осиротителя Европы – Аттилу…
Глава девятая
Медиоланская базилика
(1 января 385 года – 2 апреля 386 года)
В Милане – изобилие всего. Не счесть дворцов – творений дивных зодчих, и великих умов, и людей, что смеются столь охотно. Разросся город, мало ему одной стены – воздвигли и вторую. Миланский цирк – предмет народной страсти. Большой театр там есть, и храмы, и императорский дворец; монетный двор и термы с мраморными статуями, и стены, рвами окруженные. И даже близкий Рим не может бросить малейшей тени на Медиолан.
Авзоний
Уже год или немного больше Юстина, мать малолетнего императора Валентиниана, преследовала Твоего Амвросия по причине ереси, которой соблазнили ее ариане. Благочестивая толпа бодствовала в церкви, готовая умереть вместе со своим епископом, рабом Твоим… Город был в смятении и беспокойстве. Тогда и постановлено было петь гимны и псалмы по обычаю Восточной Церкви, чтобы народ совсем не извелся в тоске и печали…
блаж. Августин. Исповедь
Валил снег. Крупные хлопья летели в лицо, мешали смотреть. При каждом шаге лошадь разбрызгивала жидкую грязь. Мокрый с головы до ног, в римском дорожном плаще с рукавами и капюшоном, от сырости тяжелом, как латы, Меркурин Авксентий, опальный епископ Доростольский, заехал на постоялый двор на окраине Медиолана.
Соскочил с лошади, не потрудившись отвязать от аланского седла с высокой лукой узел с пожитками, скорей к дому направился. В дверях наскочил на слугу – тот лениво тащился к лошади путешественника. Меркурин помедлил в дверях – точно ли слуга туда идет, куда надо; убедился и, пригнувшись перед притолокой, вошел.
Скорей мокрый плащ снял, служанке сунул – высушить. Сам, ежась, поближе к жаровне устроился (в зимнюю пору хозяин посреди общей комнаты для тепла ставил жаровенку с углями).
Замашки у путешественника барские. Худощавый, жилистый, сутулый, золотоволосый, лет сорока. На вид казался природным ромеем, хоть и вряд ли хороших кровей. С прислугой изъяснялся по-латыни; а когда на ногу ему случайно наступили, выругался, как варвар.
В ту пору, кроме Меркурина, в таверне находились еще несколько человек, тешились местным вином. Были это готы, но не вези, а другие – остроготы.
Заговорил с этими готами Меркурин на их языке. Хоть некоторые слова иначе выговаривал, а поняли его остроготы, за своего сочли, место за столом дали. Никак ты, вези, только что приехал? Обрадовались и с ходу окатили потоком местных сплетен. Точно живой водой омыли – любил Меркурин сплетни.
Сплетничают готские воины получше любой женщины. Вот и узнал Меркурин больше, чем даже рассчитывал. И о государе Западной Римской Империи Валентиниане Втором, и о вдовствующей императорице Юстине, к которой, собственно, в Медиолан и прибыл. Слушал, впитывал слухи и россказни, как губка вино.
Валентиниан Первый, владыка Западной Империи, хитер был и груб – унтер-офицер с головы до последнего гвоздя в подошве своих легионерских сапог. Жена у него была Севера Марина.
Эта Севера Марина где-то сиротку подобрала. Жалостливая была. Говорят, не то в лупанарии, не то на помойке близ лупанария. Отмыла бедное дитя от грязи, блох с нее выбрала – да так и ахнула: девочка оказалась редкой красоты.
– А что государыня Севера Марина делала на помойке близ лупанария? – спросил Меркурин по лукавой простоте.
Готы набычились.
– Не перебивай, вези. Сказано: на помойке, стало быть, так оно и надо. Не порть историю.
Красива была та сирота, как юная Венера, вроде той каменной, что в саду у дворца государева стоит. Епископ-то здешний все статуи переколотить велел, ромейских богов бесами объявил. Может быть, одна только та статуя и осталась на весь Медиолан. Ты улучи время, вези, сходи туда и погляди.
Ну вот. Севера Марина красотой той пленилась свыше всякой меры. И в постель ее к себе брала, и купалась вместе с нею, а главное – супругу своему рассказала, какое чудное дитя подобрала и в дом свой привела. Ей бы смолчать, Марине-то.
Валентиниан же покойный был, как уже сказано, ромейский солдат. Знаешь, каковы солдаты ромейские. Всего двумя словами обходятся: ать и два. Привели пред очи его милую девочку. Поглядел на нее государь, поглядел, а через малое время – ать-два, указ обнародовал: так мол и так, отныне дозволяется брать двух жен…
Тут не выдержал рассказчик – захохотал. И остальные засмеялись. Меркурин согрелся от вина и смешной беседы. Давно и речи готской не слышал; а тут текла рекой, звучная, выразительная, расточительная – богатая сверх меры, так что чужеродцу постигнуть ее невозможно, ибо нет в ней никаких правил. Это у ромеев язык что легион – делится на манипулы, в каждой манипуле по две центурии, в каждой центурии по три взвода. А у варваров язык толпой наваливается – тут и конные, и пешие; подвернется случай – станет пеший конным, а конный пешим…
– Глянь-ка, вези, как с вина тебя развозит. Дрянь тут вина, что и говорить… – И так дружески кулаком хватили, что ловить Меркурина пришлось, чуть не нырнул с лавки на пол.
Юстина, сиротка-то, мало что красавица – еще и плодовита оказалась. Нарожала императору наследников, один другого краше. Повезло Валентиниану с бабами, да что по это говорить, коли помер он.
О покойниках долго судачить не стали: померли и Бог с ними. Не было уже в живых ни Северы Марины, ни государя Валентиниана.
Теперь вот императором на Западе – малолетний Валентиниан Второй, сын Юстины. Правит же, считай, сама Юстина. И военачальники ее; первый же из них – Бавд, франк родом, консул.
О Бавде говорили много. Надежные руки руками Юстины водят. Одним глазом на границы косит Бавд, другим за ромеями приглядывает, ибо мятежа отовсюду ждать возможно.
Хорошо готам здесь, в Милане. Юстина, ревностная арианка, окружила себя единоверцами. А кто арианский символ исповедует? Готы и другие народы сходного языка; стало быть, и при дворе им тепло.
Тут и епископа готского Ульфилу вспомнили. Меркурин едва от слез удержался. И снова о Юстине стал выспрашивать – все лучше сплетничать, чем по близкому человеку перед незнакомыми плакать!
О Юстине эти готы хоть целую ночь говорить готовы. И такая она, и сякая. И бесстрашная, и бесстыдная. Епископ-то здешний ее иначе, как Иезавелью, и не именует. Среди готов были несколько, которые, хоть и не кафолики, а иной раз к епископу в храм его захаживали, чтобы только послушать, как он государыню честит. Остер на язык епископ Медиоланский и в выражениях не стесняется.
Как ни чернили императрицу-мать, какие только сплетни о ней ни изливали, а между слов только одно и слышалось: красавица. С красавицы же и спрос иной. Хоть блядь распоследняя, но глянешь – и все кости в теле размягчаются, а душа и вовсе киселем становится. Поневоле благоговеешь, ибо кого попало Бог красотой не наделяет…
И напились в конце концов эти готы и с ними Меркурин Авксентий, епископ Доростольский, покойного Ульфилы приемный сын и первый ученик, – ибо неумеренно возносили кубки свои за здравие потаскухи безродной, которая спала сперва с женой, потом с мужем, – души мятежной и неуспокоенной, Иезавели и Иродиады – самой прекрасной, самой знаменитой и притягательной женщины Империи.
Драчливый Меркурин Авксентий потерял свою епископскую кафедру в Доростоле, поскольку упорно держался арианского символа, многократно запрещенного как Вселенскими и поместными соборами, так и императорской властью, имевшей в своем распоряжении наиболее веский аргумент – легионы. Но вместо того, чтобы мирно удалиться в изгнание, Меркурин поскакал в Милан, где при дворе юного государя и его матери, вдовствующей императрицы, арианство пыталось поднять голову.
И подняло бы, если бы не епископ Миланский.
Об этом епископе, Амвросии, на каждом шагу слыхать. Амвросий то, Амвросий се. Расхрабрившийся Меркурин, собственно, и прибыл для того, чтобы дать ему решающий бой. Но прежде Амвросия увидел он союзников своих, воинов готских, военачальников из среды варварской, и саму Юстину. Случилось это следующим образом.
На новый 385 год военачальник Бавд торжественно отмечал начало своего консульства.
Стоя в толпе приглашенных, за спинами царедворцев, смотрел Меркурин на Бавда – рослого, отяжелевшего при дворе немолодого франка с глубокими морщинами на грубом лице. Варвар из варваров был этот командующий италийскими легионами, опора Юстины и Валентиниана. В каждой дружине князей германских с десяток таких Бавдов наберется. Только взгляд у Бавда усталый, погасла в нем лихость.
Стоял в консульских одеждах. Говорят, рабыни-одевальщицы кровавыми слезами умылись, пока этому медведю облик человеческий придали. Даже и не человеческий, а сверх того, ибо римский консул – воплощение всего лучшего, на что только способны слабые порождения мужчин и женщин. Искусные руки одевали франка, ибо в римской тоге не выглядел ряженым.
Слегка склонив крупную, почти звериную голову, слушал Бавд торжественную речь, в его честь произносимую. Витийствовала новая местная знаменитость – недавно прибывший из провинции, из Африки, молодой преподаватель риторики медиоланских школ. Какой-то Августин из Карфагена.
Более знающие поправляли: не из Карфагена, а из Тагаста. Дыра какая-то в Африке, на границе с владениями диких берберов. А кто такие берберы? Ну, непонятно, что ли? Берберы – это варвары, только там, в Африке.
Этот Августин собирал на себя всевозможные ереси, как бродячая собака репей. Едва лишь Феодосий объявил манихеев вне закона и велел предавать их смертной казни, как тотчас же сделался заядлым манихеем. До Африки у Феодосия руки не дотягиваются, а то вздернул бы.






