Молитва об Оуэне Мини Ирвинг Джон
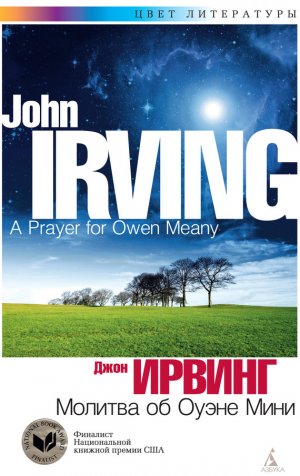
— Ну конечно, она все еще там!
— ТЫ УВЕРЕН? — не унимался он.
— Да, конечно уверен!
— НО ТЫ ВЕДЬ НЕ ВИДИШЬ ЕЕ, — ехидно подначивал он. — ОТКУДА ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ОНА ВСЕ ЕЩЕ ТАМ, ЕСЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ВИДИШЬ ЕЕ?
— Потому что я знаю, что она все еще там, — я знаю, что она никуда не могла деться, — просто знаю, и все! — отвечал я.
А одним холодным днем поздней осенью — на дворе стоял уже ноябрь или даже начало декабря; Джонсон победил Голдуотера в борьбе за президентский пост; Хрущева сменили Брежнев с Косыгиным; вьетконговцы убили пятерых американцев во время нападения на авиабазу в Бьенхоа — Оуэн окончательно достал меня своей шуткой насчет того, что я не вижу Марию Магдалину, но все-таки знаю, что она никуда не делась.
— ТЫ НЕ СОМНЕВАЕШЬСЯ, ЧТО ОНА ВСЕ ЕЩЕ ТАМ? — продолжал он меня изводить.
— Ну ясное дело, не сомневаюсь! — сердился я.
— НО ТЫ ЖЕ ЕЕ НЕ ВИДИШЬ — ТЫ МОЖЕШЬ ОШИБАТЬСЯ, — заметил он.
— Нет! Я не могу ошибаться — она там, я знаю точно, она там! — заорал я на него.
— ТЫ СОВЕРШЕННО ТОЧНО ЗНАЕШЬ, ЧТО ОНА ТАМ ЕСТЬ — ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ВИДИШЬ ЕЕ? — спросил он.
— Да!!! — завопил я.
— НУ ВОТ, ТЕПЕРЬ ТЫ ПОНИМАЕШЬ, КАК Я ОТНОШУСЬ К БОГУ — сказал Оуэн Мини. — Я НЕ МОГУ ЕГО УВИДЕТЬ — НО Я СОВЕРШЕННО ТОЧНО ЗНАЮ, ЧТО ОН ТАМ ЕСТЬ!
Залив Джорджиан-Бей, 29 июля 1987 года — Кэтрин сказала сегодня, что мне надо постараться не читать вообще никаких газет. Она успела заметить, как «Глоб энд мейл» портит мне весь день — а ведь и этот остров, и эта вода вокруг него излучают такое роскошное спокойствие, что не расслабиться здесь, не использовать такую возможность для мирных размышлений и внутренней духовной работы просто стыдно. Кэтрин желает мне только добра; я знаю, что она права — мне надо выбросить из головы все эти новости, просто взять и выбросить. Читая новости, все равно ничего толком не поймешь.
Если бы кто-нибудь набрался наглости преподавать Чарлза Диккенса, Томаса Гарди или Робертсона Дэвиса[32] моим девчонкам в школе епископа Строна с таким же неглубоким, таким же поверхностным пониманием предмета, с которым я, очевидно, сужу о международных делах — или хотя бы о безобразиях американцев, — меня бы это возмутило. Я достаточно приличный преподаватель английского и литературы, чтобы понимать, насколько и вправду неглубоки, насколько поверхностны мои знания о злоключениях американцев — даже во Вьетнаме, не говоря уже о Никарагуа. Да и можно ли вообще стать по-настоящему умным и образованным, читая газеты? Разумеется, мне далеко до досконального понимания всех злодейств, чинимых американцами, и все-таки я не могу отмахнуться от новостей! А мне бы стоило воспользоваться собственным печальным опытом с мороженым: если у меня в морозилке лежит мороженое, я его съем — причем все сразу, в один присест. Поэтому я приучил себя не покупать мороженое. А газеты для меня даже вреднее, чем мороженое; жирные заголовки и те события, что за ними стоят, — это ведь сплошной холестерин.
Ведь на острове есть что почитать: тут полно всяких полевых определителей — книг обо всех вещах, в которых я никогда как следует не разбирался, то есть о настоящих вещах, а не о «понятиях». Я могу исследовать сосновые иголки или научиться распознавать птиц — это, оказывается, можно делать по разным признакам: по движениям птицы в полете, по силуэту птицы, сидящей на ветке, по крикам — кормовым или брачным. Все это, я думаю, очень занимательно. И, живя среди воды, я вполне мог бы посвящать рыбалке вместе с Чарли больше одного дня; я знаю, его огорчает, что я не так увлекаюсь рыбалкой, как он. Да и Кэтрин как-то заметила, что мы уже давненько не обсуждали нашу с ней веру — в чем наши взгляды совпадают, а в чем расходятся. Раньше я говорил с ней об этом часами — а до нее с каноником Кэмпбеллом. Сейчас мне стыдно признаться Кэтрин, сколько воскресных служб я уже пропустил.
Кэтрин права. Я постараюсь выбросить из головы новости. В «Глоб энд мейл» сегодня сообщается, что никарагуанские контрас расстреляли пленных; в связи с контрас сейчас расследуются «22 крупных случая нарушения прав человека» — и про этих самых подонков президент Рейган сказал, что «в нравственном отношении их можно уподобить нашим отцам-основателям»! Тем временем аятолла, духовный лидер Ирана, призвал всех мусульман «сокрушить Америке зубы»; кажется, именно этому парню Америка должна продавать оружие? Соединенные Штаты творят что-то совершенно уж необъяснимое.
Я согласен с Кэтрин. Надо ловить рыбу, разглядывать, насколько сплюснут хвост вон у того маленького водяного зверька — выдра это или ондатра? Сейчас самое время. А вот там, где вода залива постепенно зеленеет, а затем принимает сизовато-желтый оттенок синяка, — кто это там нырнул, гагара или лысуха? Пора бы разобраться. Самое время забыть обо всем остальном. И давно пора, как постоянно твердит мне каноник Мэки, постараться наконец стать канадцем!
Когда я впервые прибыл в Канаду, то думал, что стать канадцем будет проще простого; как большинство тупых американцев, я представлял Канаду неким более северным и холодным, возможно, более захолустным районом Соединенных Штатов — мне казалось, это будет что-то вроде переезда в Мэн или Миннесоту. Я очень удивился, обнаружив, что в Торонто не так снежно и холодно, как в Нью-Хэмпшире, и что захолустьем здесь и не пахнет! Еще больше я удивился, обнаружив, как канадцы отличаются от американцев — до чего они оказались вежливыми! Естественно, я тут же начал оправдываться. «Вообще-то на самом деле я не отказник, — говорил я; однако большинству канадцев не было до этого никакого дела. — Я здесь не потому, что хочу отмотаться от призыва, — объяснял я. — Я бы скорее отнес себя к пацифистам, — заявлял я тогда. — Мне подошло бы определение «противник войны», — говорил я всем и каждому, — но мне незачем косить от призыва — я здесь не для этого».
Но большинство канадцев не заботило, для чего я здесь; они не задавали никаких вопросов. Шел 1968 год это, вероятно, был самый пик эмиграции «противников войны во Вьетнаме» в Канаду. Большинство канадцев сочувствовали им — они тоже считали войну во Вьетнаме глупой и неправильной. В 1968 году для того, чтобы стать «иммигрантом с видом на жительство», требовалось набрать пятьдесят баллов; иммигранты с видом на жительство имели право обратиться за канадским гражданством и получить его через пять лет. Мне набрать эти пятьдесят баллов оказалось легко; у меня был диплом бакалавра гуманитарных наук с отличием и степень магистра по английскому и литературе — с помощью Оуэна Мини я написал свою магистерскую диссертацию по Томасу Гарди. Кроме того, я имел двухлетний опыт преподавания; во время учебы в магистратуре Нью-Хэмпширского университета я вел у девятиклассников Грейвсендской академии спецкурс по описательному сочинению; рекомендации мне дали Дэн Нидэм и мистер Эрли.
В 1968 году на каждых девять канадцев приходилось по одному иммигранту, причем «противники войны» были среди них самыми образованными и наиболее востребованными. В том году был основан так называемый СИА — «Союз изгнанников Америки»; по сравнению с Хестер и ее друзьями по СДО (членами небезызвестной организации «Студенты за демократическое общество»), те мои немногие знакомые из «Союза изгнанников Америки» были вполне смирными. Я-то уже привык к бунтарям: Хестер, например, вовсю участвовала в уличных беспорядках. В тот год ее арестовали в Чикаго.
Во время беспорядков возле места проведения общенационального съезда Демократической партии Хестер сломали нос. Она рассказывала, что полицейский припечатал ее лицом к дверце микроавтобуса; но она бы наверняка расстроилась, если бы вернулась из Чикаго целой и невредимой. Американцы, с которыми я сталкивался в Торонто — даже организаторы СИА, даже дезертиры, — отличались куда большей рассудительностью, чем Хестер и многие другие американцы, которых я знал «дома».
Насчет так называемых дезертиров существовало распространенное заблуждение; те дезертиры, которых знал я, были политически умеренными. Я ни разу не встретил таких, кто действительно побывал во Вьетнаме; я ни разу не встретил ни одного, кому хотя бы предстояла отправка туда. Это были обыкновенные парни, которых призвали в армию, а им туда не хотелось. Некоторые из них сперва даже пошли служить добровольно. Лишь несколько человек сказали мне, что дезертировали потому, что им стало стыдно даже за косвенную причастность к этой гнусной войне. Что до этих нескольких, то у меня возникло ощущение, что их слова неискренни, что они только говорят, будто дезертировали из-за того, что война «гнусная». По-моему, они просто поняли, что это звучит солиднее.
В то время существовало и другое распространенное заблуждение: отъезд в Канаду вопреки расхожему мнению, не был таким уж удобным способом уклониться от призыва; существовали способы удобней и проще — я расскажу об одном из них, только позже. Но вместе с тем подобный отъезд — в качестве ли отказника или дезертира или даже по каким-нибудь более сложным причинам, как у меня, — выглядел довольно резким политическим заявлением. Помните это? Помните, как почти все, что вы делали, расценивалось как некое «заявление»? Один парень из СИА однажды сказал мне, что «сопротивление в качестве изгнанника — это крайняя форма осуждения». Как я был с ним согласен! Как рос в собственных глазах — подумать только, ты выносишь властям «осуждение в крайней форме»!
Настоящих тягот, признаюсь, мне в жизни испытывать не приходилось. Приехав впервые в Торонто в 68-м году, я познакомился с несколькими растерянными и встревоженными американцами. Я был ненамного старше большинства из них — и они определенно выглядели ничуть не более растерянными и встревоженными, чем многие американцы, которых я знал дома. В отличие, например, от Баззи Тэрстона, они не врезались на полной скорости в опору железнодорожного моста, чтобы только избежать призыва. В отличие от Гарри Хойта, их не жалила насмерть цепочная гадюка, пока они ждали своей очереди трахнуть вьетнамскую шлюху.
К моему удивлению, канадцы, с которыми я встречался, отнеслись ко мне вполне дружески. А благодаря моему университетскому диплому — не говоря уже о первом опыте преподавания в такой престижной школе, как Грейвсендская академия, — меня сразу зауважали и почти тут же взяли на работу. Я чуть ли не каждому знакомому канадцу спешил объяснить разницу между собой и другими американцами, но, по всей видимости, тратил время впустую: то, что я приехал сюда вовсе не в качестве отказника или дезертира, не имело для канадцев почти никакого значения. Зато это имело значение для моих новых знакомых американцев, и мне их реакция не понравилась; то, что я сам предпочел Канаду, что я не беженец и что в Торонто по доброй воле — я считал все это доказательством серьезности моих убеждений, а они — наоборот, несерьезности, оттого что я не испытывал тягот, не знал отчаяния. Что правда, то правда: тяготы нам, Уилрайтам, выпадали редко. К тому же у меня, в отличие от большинства моих новых американских знакомых, была еще церковь: нельзя недооценивать церковь — ее целительную силу, ее способность утешить каждого.
В первую же неделю пребывания в Торонто я прошел собеседование в Верхнеканадском колледже; при виде этой школы у меня возникло чувство, будто я никогда не покидал Грейвсендской академии! У них не оказалось вакансии на английском отделении, но меня уверили, что мой послужной список «заслуживает всяческого уважения» и что мне не составит труда найти здесь работу. Они так хотели помочь, что посоветовали мне обратиться в церковь Благодати Господней на Холме, что всего в двух шагах вдоль по Лонсдейл-роуд. Они сказали, что каноник Кэмпбелл всегда старается помогать американцам.
Действительно, так оно и вышло. Когда каноник спросил меня, к какой церкви я принадлежу, я ответил: «Наверное, к епископальной».
— Наверное? — удивился он.
Я объяснил, что после достопамятного Рождества 53-го года фактически не посещал службу в епископальной церкви; подумав о церкви Херда и о довольно своеобразном конгрегационализме пастора Меррила, я сказал:
— Наверное, мне место во внеконфессиональной церкви.
— Ну хорошо, это мы уладим, — сказал каноник Кэмпбелл. Он подарил мне мой первый англиканский молитвенник — мой первый канадский молитвенник, Книгу общей молитвы, которой я пользуюсь до сих пор. Вот так все просто получилось: я вошел в церковь — и стал англиканцем. Назвать все это тяготами у меня не повернется язык
И вышло, что первые мои знакомые канадцы оказались людьми верующими — готовыми помочь почти в любых обстоятельствах и куда менее склонными теряться и тревожиться, чем американцы, с которыми я познакомился в Торонто (и большинство американцев, которых я знал дома). Эти англиканцы из церкви Благодати Господней на Холме отличались определенным консерватизмом; вообще, «консерватизм» — особенно в поведении — исключительно по душе нам, Уилрайтам. В таких вопросах уроженцы Новой Англии имеют гораздо больше общего с канадцами, чем с нью-йоркцами! Я, например, довольно скоро решил, что положения «Торонтской программы по отказу от воинского призыва» мне, пожалуй, больше нравятся, чем колючие пассажи «Союза изгнанников». «Торонтская программа по отказу от воинского призыва» поощряла «ассимиляцию в обычную канадскую жизнь»; ее сторонники считали «Союз изгнанников Америки» «слишком политизированным» — иными словами, слишком агрессивным, слишком воинственно настроенным против Соединенных Штатов. Возможно, «Союз изгнанников Америки» запятнал себя тем, что открыто поддерживал дезертиров. Целью «Торонтской программы» было «ассимилировать» американцев как можно быстрее; нас, американцев, убеждали, что процесс нашей ассимиляции следует начинать с того, что мы должны избегать темы Соединенных Штатов.
Поначалу мне это казалось таким разумным — и таким легким.
За год, прошедший после моего приезда, даже «Союз американских изгнанников» подал первые признаки «ассимиляции». Аббревиатура СИА, означавшая раньше «Союз изгнанников Америки», теперь расшифровывалась как «Союз американских иммигрантов». Не потому ли, что такое название больше согласуется с идеей «ассимиляции в обычную канадскую жизнь»? Мне казалось, так оно и есть.
Когда кто-нибудь из этих англиканцев церкви Благодати Господней на Холме спрашивал меня, что я думаю об «известной точке зрения» премьер-министра Пирсона — насчет того, что дезертиры (в отличие от пацифистов) относятся к категории граждан США, которых нужно поменьше пускать в Канаду, — я отвечал, что согласен! И это при том, что — как я уже признался — я ни разу в жизни не встречал ни одного явного дезертира. Те, кого я встречал, относились к «категории граждан», которым любая страна могла бы найти применение, и притом с большой пользой для себя. А после того как на заседании парламента двадцать восьмого созыва — в 1969 году — сообщили, что американских дезертиров разворачивают на границе, потому что они «могут обременить общество», я ни разу не сказал — ни одному из моих друзей-канадцев, — что, как я подозреваю, эти дезертиры обременили бы общество ничуть не больше, чем я. К тому времени каноник Кэмпбелл познакомил меня со старым Плюшевым Килгором, который взял меня на преподавательскую работу в школу епископа Строна. Нам, Уилрайтам, всегда везло со связями.
У Оуэна Мини не было никаких связей. Приспосабливался он всегда с большими трудностями. Я догадываюсь, что он сказал бы в ответ на бредятину, напечатанную в «Торонто стар»; в свое время эта бредятина показалась мне до того точной, что я вырезал ее из газеты и приклеил скотчем на дверцу холодильника. Эта заметка от 17 декабря 1970 года — ответ на опубликованное САИ заявление о «пяти главных задачах» для эмигрантов из Америки (пятым пунктом значилось: «стараться приспособиться к условиям жизни в Канаде»). В «Торонто дейли стар» написали: «Если молодые американцы, от имени которых выступает САИ, не пересмотрят очередность своих главных задач и не поставят на первое место пункт пятый, они рискуют вызвать к себе недоверие и враждебность со стороны канадцев». Я тогда ни на минуту не сомневался, что так оно и есть. Но теперь я знаю, как воспринял бы это Оуэн Мини. «ТАКОЕ СКОРЕЕ МОЖНО БЫЛО БЫ УСЛЫШАТЬ ОТ АМЕРИКАНЦА! — сказал бы Оуэн Мини. — «ПЕРВОЙ ЗАДАЧЕЙ» ДЛЯ КАЖДОГО МОЛОДОГО АМЕРИКАНЦА ВСЕГДА БЫЛО ПРИСПОСОБИТЬСЯ К УСЛОВИЯМ ЖИЗНИ В АМЕРИКЕ. НЕУЖЕЛИ ЭТИ БОЛВАНЫ ИЗ «ТОРОНТО ДЕЙЛИ СТАР» НЕ ЗНАЮТ, КТО ЭТИ МОЛОДЫЕ АМЕРИКАНЦЫ, КОТОРЫЕ ПРИЕХАЛИ В КАНАДУ? ДА ВЕДЬ ЭТИ АМЕРИКАНЦЫ УЕХАЛИ ИЗ СВОЕЙ СТРАНЫ КАК РАЗ ПОТОМУ, ЧТО НЕ СМОГЛИ И НЕ ЗАХОТЕЛИ «ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ». ТЕПЕРЬ, ВЫХОДИТ, ИХ «ПЕРВОЙ ЗАДАЧЕЙ» ДОЛЖНО СТАТЬ «ПРИСПОСОБИТЬСЯ» ЗДЕСЬ? ДА-А, ЭТО НАДО БЫЛО ДОДУМАТЬСЯ; КЛАСС, НЕЧЕГО СКАЗАТЬ. Я БЫ ДАЛ ИМ КАКУЮ-НИБУДЬ ИЗ ИХ ДУРАЦКИХ ЖУРНАЛИСТСКИХ ПРЕМИЙ!»
Но я не жаловался; что бы ни происходило тогда, я не ныл. Мне казалось, я наслушался нытья Хестер на всю жизнь. Помните «Закон о мероприятиях военного времени»[33]? Я не сказал ни слова; я со всем соглашался. Ну и что, если на шесть месяцев отменили гражданские свободы? Ну и что, если могут без ордера проводить обыски? Ну и что, если людей могут задерживать без предоставления адвоката на срок до девяноста дней? Ведь все это происходило в Монреале. Окажись тогда Хестер в Торонто, даже ее здесь никто не арестовал бы! Я молчал и не высовывался; я искал новых знакомых среди канадцев, старался с кем-то подружиться, и большинство моих друзей едва не молились на Трюдо и считали, что он не может сделать ничего плохого. Даже дорогой мой друг, каноник Кэмпбелл, как-то выдал дежурную фразу — и я не стал с ним спорить. Каноник Кэмпбелл сказал: «Знаете, Трюдо — это наш Кеннеди». Слава богу, каноник Кэмпбелл не сказал «Трюдо — это наш Кеннеди» Оуэну Мини; мне кажется, я знаю, что ответил бы Оуэн.
«ОГО, ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ, ТРЮДО ТРАХАЛСЯ С МЭРИЛИН МОНРО?» — сказал бы ему на это Оуэн Мини.
Но я уехал в Канаду не за тем, чтобы корчить из себя умника-американца; к тому же каноник Кэмпбелл сказал мне, что большинство канадских умников стремятся в Штаты. Мне вовсе не хотелось стать одним из тех, кто критикует все подряд. В 70-е годы в Торонто хватало американцев-нытиков; кое-кто из них ныл и по поводу Канады — Канада, видите ли, уже продала Соединенным Штатам боеприпасов и другого военного снаряжения больше чем на пятьсот миллионов долларов.
«Канадских долларов или американских?» — не моргнув глазом спрашивал я; мне не хотелось ни во что ввязываться. Иными словами, я изо всех сил старался и вправду стать канадцем; я не собирался драть глотку из-за всякого американского дерьма и любой американской херни. Когда мне сказали, что к началу 70-х Канада на международных поставках оружия стала зарабатывать больше всех в мире на душу населения, я ответил: «Правда? Надо же, как любопытно!»
Кто-то говорил, будто большинство противников войны, вернувшихся в Соединенные Штаты, просто не выдержали канадского климата. Меня спросили, что я думаю о серьезности антивоенного движения, если «эти люди» могут отречься от своих убеждений из-за того, что здесь немножко холодно.
Я сказал, что в Нью-Хэмпшире холоднее, чем здесь.
А знаю ли я, спросил меня один, почему черных американцев в Канаду приезжает не так много? А те, что приезжают, заметил другой, не остаются надолго. Это потому, что в гетто, откуда они приехали, с ними обращались лучше, объяснил третий. Я промолчал.
Я стал гораздо более ревностным англиканцем, чем до этого был конгрегационалистом или епископалом — или даже прихожанином внеконфессиональной церкви, если так можно выразиться. Я принимал такое участие в делах церкви Благодати Господней на Холме, как не участвовал прежде ни в каких церковных делах. А кроме того, я стремился стать хорошим учителем. Я тогда был еще молод, мне исполнилось всего двадцать шесть, и, когда я начал преподавать у этих девчонок из школы епископа Строна, у меня не было своей девушки; но я ни разу не взглянул ни на одну из них с подобным прицелом, даже на тех, что страдали по мне — по-школьному, по-детски. О, эти девчонки страдали по мне так недолго, всего несколько лет, — теперь-то нет, конечно. Но я до сих пор помню этих симпатичных школьниц; кое-кто из них даже приглашал меня потом на свадьбу!
В те первые годы, когда каноник Кэмпбелл был мне таким другом и вдохновителем — когда я носил с собой мою Книгу общей молитвы и «Руководство для иммигрантов призывного возраста, въезжающих в Канаду», куда бы ни шел, — я оставался настоящим канадцем, канадцем — по духу и по паспорту.
Когда бы я ни натыкался на толпу этих активистов из САИ — а я не так уж часто на них натыкался, во всяком случае в Форест-Хилле, — я даже не заговаривал о Соединенных Штатах или о Вьетнаме. Должно быть, я верил, что мой гнев и одиночество возьмут и сами уйдут — если я не стану их удерживать.
Тогда устраивали митинги, разумеется протестные. Но я не ходил туда; я и в Йорквилл-то[34] ни разу не забрел — вот как я старался держаться от всего этого подальше! Когда «Речной пароходик» вышел из моды, я не особенно горевал — и не пел старых песен в стиле фолк, даже про себя. Я достаточно наслушался, как их поет Хестер. Я тогда стригся коротко; я и сегодня стригусь коротко. Я никогда не носил бороды. Ох уж все эти хиппи, все эти песни протеста и «сексуальная свобода» — помните? Оуэн Мини пожертвовал гораздо большим, он гораздо больше пострадал — так что меня не заботили ни страдания остальных, ни то, что те считали своими героическими страданиями.
Говорят, нет веры ревностней, чем у новообращенного, — и я стал именно таким англиканцем. Говорят, нет патриотизма пламенней, чем у недавно прибывшего иммигранта, — и никто не стремился «ассимилироваться» сильнее меня. Говорят, из всех учителей трепетней всего к своему предмету относится новичок — и мои девчонки в школе епископа Строна вкалывали так, что от них дым шел.
В 1967 году из вооруженных сил США дезертировало 40227 человек; в 1970-м их было уже 89088 — и в том году только 3712 американцев привлекли к уголовной ответственности за нарушения закона о выборочной воинской повинности. Интересно, сколько еще их сжигало или уже сожгло свои повестки? Какое мне до этого дело? Сжечь свою повестку, уехать в Канаду, нарваться на полицейского в Чикаго, чтобы расквасил тебе нос, — я никогда не считал подобные выходки героическими, особенно в сравнении с самоотречением Оуэна Мини. К концу 1970-го во Вьетнаме погибло больше сорока тысяч американцев; мне трудно представить, чтобы хоть один из них посчитал сожжение повестки или отъезд в Канаду таким уж «геройством» — как вряд ли они посчитали бы какой-то жалкий арест за участие в беспорядках в Чикаго такой уж жертвой.
А что касается Гордона Лайтфута и Нила Янга, равно как и Джони Митчелл, Иэна и Сильвии, то я до этого уже слышал Боба Дилана и Джоан Баэз; и еще я слышал Хестер. Я даже слышал, как Хестер поет «Четыре могучих ветра». Она всегда неплохо пела под гитару; она унаследовала от матери приятный голос (хотя у тети Марты голос был не такой красивый, как у моей мамы) — но именно что приятный, то есть недостаточно сильный и непоставленный. Хестер могла бы хоть пять лет кряду заниматься у Грэма Максуини, все равно она не верила, что петь можно научиться. Пение — это то, что у нее «внутри», утверждала она.
— ТЫ ТАК ГОВОРИШЬ, БУДТО ЭТО КАКАЯ-ТО БОЛЕЗНЬ, — заметил Оуэн, хотя он как раз поддерживал ее больше всех. Когда она упорно пыталась писать собственные песни, я знаю, Оуэн подбрасывал ей кое-какие идеи; позже он признался мне, что даже написал для нее пару песен. В те дни она выглядела как типичная фолк-певица — наряд под неопределенную старину или под другую фолк-певицу: малость запущенная, малость циничная, здорово потрепанная, будто пешком обошла полсвета, а ночевала на подстилке (с кучей мужиков); казалось, ее волосы и вправду пахнут крабами.
Помню, как она пела «Четыре могучих ветра» — причем я помню очень живо.
- Подамся, что ли, в Альберту; там у меня друзья,
- Там осенью дивное время…
— ГДЕ ЭТО — АЛЬБЕРТА? — спросил ее Оуэн Мини.
— В Канаде, задница ты необразованная, — ответила Хестер.
— НУ ЗАЧЕМ ТАК ГРУБО, — отозвался Оуэн. — ЭТО ХОРОШАЯ ПЕСНЯ. НАВЕРНОЕ, ГРУСТНО УЕЗЖАТЬ В КАНАДУ.
Шел 1966 год. Он вот-вот должен был получить звание второго лейтенанта вооруженных сил США.
— Грустно уезжать в Канаду, говоришь? — заорала на него Хестер. — Там, куда тебя отправят, будет в сто раз грустнее.
— Я НЕ СОБИРАЮСЬ УМЕРЕТЬ ТАМ, ГДЕ ХОЛОДНО, — промолвил Оуэн Мини.
Он хотел сказать, что уверен совершенно точно: он умрет там, где тепло — где очень тепло.
В канун Рождества 1964-го в Сайгоне погибли два американских солдата — вьетконговские террористы взорвали помещение, где были расквартированы военнослужащие США. Неделю спустя, в новогодний вечер, Хестер выворачивало наизнанку — она, видимо, блевала как-то по-особенному мощно и живописно, что побудило Оуэна расценить это как некое знамение.
— ПОХОЖЕ, В НОВОМ ГОДУ НАС НЕ ЖДЕТ НИЧЕГО ХОРОШЕГО, — заметил Оуэн, пока мы наблюдали, как Хестер сгибается пополам в розовом саду.
Действительно, в этом году война разгорелась всерьез; по крайней мере, именно в этом году средний, не самый наблюдательный американец начал замечать, что у нас во Вьетнаме что-то неладно. В феврале военно-воздушные силы США провели операцию «Огненная стрела» — «оперативно-тактический ответный удар с воздуха».
— Что это значит? — спросил я Оуэна: он ведь так преуспел в своих военных науках.
— ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ РАЗМАЗЫВАЕМ ПО ЗЕМЛЕ ОБЪЕКТЫ В СЕВЕРНОМ ВЬЕТНАМЕ, — объяснил он.
В марте военно-воздушные силы США начали операцию «Удар грома» — чтобы «пресечь поток поставок на Юг».
— А это что значит? — снова спросил я Оуэна.
— ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ РАЗМАЗЫВАЕМ ПО ЗЕМЛЕ ОБЪЕКТЫ В СЕВЕРНОМ ВЬЕТНАМЕ, — снова ответил Оуэн Мини.
Этот месяц ознаменовался тем, что во Вьетнаме высадились первые боевые части США. В апреле президент Джонсон санкционировал использование американских сухопутных войск — «для наступательных операций в Южном Вьетнаме».
— ЭТО ЗНАЧИТ «ПОИСК И УНИЧТОЖЕНИЕ», «ПОИСК И УНИЧТОЖЕНИЕ», — сказал Оуэн.
В мае Военно-морской флот США начал операцию «Рыночное время» — «с целью обнаружения и перехвата надводного транспорта в прибрежных водах Южного Вьетнама». Гарри Хойт был там; его мать рассказывала, что ему очень нравится на флоте.
— Но что они там делают? — спросил я Оуэна.
— ОНИ ЗАХВАТЫВАЮТ И УНИЧТОЖАЮТ СУДА ПРОТИВНИКА, — сказал Оуэн Мини. Многочисленные беседы с одним из преподавателей военной кафедры дали Оуэну основания как-то заметить: — ЭТОМУ НЕ БУДЕТ КОНЦА. ТО, С ЧЕМ МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО, НАЗЫВАЕТСЯ ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНОЙ. ИЛИ МЫ ГОТОВЫ СТЕРЕТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ ЦЕЛУЮ СТРАНУ? ЭТО МОЖЕТ НАЗЫВАТЬСЯ «ПОИСК И УНИЧТОЖЕНИЕ» ИЛИ «ЗАХВАТ И УНИЧТОЖЕНИЕ» — В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ЭТО УНИЧТОЖЕНИЕ И ЕЩЕ РАЗ УНИЧТОЖЕНИЕ. ПРЕКРАТИТЬ ЭТО ПО-ХОРОШЕМУ УЖЕ НЕЛЬЗЯ.
У меня не укладывалось в голове, как это Гарри Хойт «захватывает и уничтожает суда противника». Он ведь был сущий идиот! Он не умел даже толком играть в бейсбол в Малой лиге! Видимо, я просто не мог простить ему ту заработанную базу, после чего биту взял Баззи Тэрстон, а потом на плиту встал и Оуэн Мини… Если бы Гарри просто отмахнулся битой или даже попал по мячу, все могло повернуться по-другому. Но он перешел на первую базу.
— Я не могу понять, как Гарри Хойт вообще может что-нибудь «захватывать и уничтожать»! — поделился я с Оуэном. — У него же мозгов не хватит узнать это самое судно противника, даже если оно проплывет у него перед носом!
— А ТЕБЕ НЕ ПРИХОДИЛО В ГОЛОВУ, ЧТО ВО ВЬЕТНАМЕ ПОЛНО ТАКИХ ГАРРИ ХОЙТОВ? — спросил Оуэн.
Преподаватель военной кафедры, что произвел на Оуэна такое впечатление и внушил ему предчувствие полного провала в тактике и стратегии ведения этой войны, был суровый и въедливый старик, полковник-пехотинец. Помешанный на физподготовке, он считал Оуэна слишком малорослым для службы в боевых подразделениях. Думаю, Оуэн так старался отличиться в военных науках, именно желая убедить старого головореза, что с лихвой возмещает недостаток роста; после занятий Оуэн тратил уйму времени на болтовню с этим старым чертом — из кожи вон лез, лишь бы стать самым заметным среди тех, кто получит диплом с отличием, чтобы из всех выпускников «запаски» стать первым. Оуэн не сомневался, что если ему присвоят первую категорию, то обязательно назначат «командиром боевого подразделения» — в пехоте, бронетанковых войсках или артиллерии.
— Я никак не могу понять, зачем тебе так хочется попасть в боевые подразделения, — сказал я ему.
— ЕСЛИ Я БУДУ СЛУЖИТЬ В АРМИИ И В ЭТО ВРЕМЯ БУДЕТ ВОЙНА, Я ХОЧУ СЛУЖИТЬ НА ВОЙНЕ, — ответил он. — Я НЕ ХОЧУ ПРОВЕСТИ ВСЮ ВОЙНУ ЗА БУМАЖКАМИ. ПОДУМАЙ ВОТ О ЧЕМ: МЫ С ТОБОЙ ОБА СЧИТАЕМ, ЧТО ГАРРИ ХОЙТ ИДИОТ. А КТО ПОЗАБОТИТСЯ, ЧТОБЫ ТАКИМ ВОТ ГАРРИ ХОЙТАМ ПОРЕЖЕ ОТРЫВАЛО ГОЛОВЫ?
— Ага, значит, тебе хочется стать героем! — кивнул я. — Был бы ты хоть чуть-чуть умнее Гарри, тебе бы хватило мозгов провести войну за бумажками!
Я зауважал полковника, который считал Оуэна слишком малорослым для службы в боевых подразделениях. Его звали Айгер, и однажды я попытался с ним поговорить. Мне казалось, я оказываю Оуэну услугу.
— Господин полковник Айгер! — обратился я к нему.
Несмотря на пигментные пятна на тыльных сторонах ладоней и слегка нависавшую над тесным коричневым воротничком складку обгоревшей на солнце кожи, он выглядел вполне способным быстро отжаться по команде раз эдак семьдесят пять.
— Я знаю, что вы знакомы с Оуэном Мини, сэр, — сказал я ему.
Он молчал — ждал, что я стану говорить дальше, и до того тщательно и осторожно жевал резинку, что я было засомневался, точно ли у него во рту резинка — вполне возможно, он просто делал какое-нибудь очень хитрое упражнение для языка.
— Я хочу, чтобы вы знали, сэр: я с вами согласен, — сказал я. — Я тоже думаю, что Оуэн Мини не подходит для участия в боевых действиях.
Полковник перестал жевать — тоже еле заметно.
— Он просто не потянет, — решился я. — Я его лучший друг, и даже я боюсь, что он может оказаться неустойчивым — я имею в виду эмоционально неустойчивым.
— Спасибо. Вы свободны, — промолвил полковник
— Благодарю вас, сэр, — сказал я.
Шел май 1965 года. Я внимательно наблюдал за Оуэном, стараясь понять, сказал ли ему полковник Айгер еще что-нибудь такое, чтоб отвадить его от боевой службы. Должно быть, кое-что все-таки между ними произошло — полковник, видимо, что-то сказал ему, — потому как той весной Оуэн Мини перестал курить; он просто взял и бросил, наотрез. Мало того, он стал бегать кроссы! Через две недели он уже наматывал миль по пять в день. Он сказал, что поставил себе целью к концу месяца пробегать милю за шесть минут. А еще он начал пить пиво.
— А пиво-то зачем? — удивился я.
— ГДЕ ТЫ ВИДЕЛ, ЧТОБЫ КТО-НИБУДЬ СЛУЖИЛ В АРМИИ И НЕ ПИЛ ПИВА? — спросил он меня в ответ.
Похоже, без полковника не обошлось; наверное, полковник Айгер дал понять Оуэну, что тот слабак, даже пива не пьет.
Таким образом, ко времени отъезда на военные сборы Оуэн набрал вполне приличную форму — все эти его кроссы, пусть даже с пивом в придачу, очень удачно заменили пачку сигарет в день. Оуэн признался, что не любит бегать; а вот к пиву он пристрастился. Он никогда не выпивал его слишком много — я ни разу не видел Оуэна пьяным, по крайней мере перед отъездом на сборы, — но Хестер заметила, что от пива у Оуэна здорово улучшается настроение.
— Совсем, конечно, он уже не отмякнет, — пояснила она, — но уж поверь мне: от пива ему лучше.
Я испытывал довольно странное чувство, думая о том, что буду работать в «Гранитной компании Мини» один, без Оуэна.
— Я УЕЗЖАЮ ВСЕГО НА ПОЛГОДА, — заметил он. — И К ТОМУ ЖЕ МНЕ СПОКОЙНЕЕ, ЕСЛИ Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ОСТАЛСЯ В МАСТЕРСКОЙ ЗА СТАРШЕГО. ЕСЛИ КТО-ТО УМРЕТ, ТЫ ЗНАЕШЬ, КАК СЕБЯ ВЕСТИ, КОГДА ПРИДУТ С ЗАКАЗОМ НА НАДГРОБИЕ. Я ДОВЕРЯЮ ТЕБЕ: ТЫ СУМЕЕШЬ НАЙТИ ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД.
— Ладно, счастливо! — пожелал я ему на прощание.
— НЕ НАДЕЙСЯ, ЧТО У МЕНЯ НАЙДЕТСЯ ВРЕМЯ ПИСАТЬ — Я БУДУ ТАМ ЗАГРУЖЕН ПО ГОРЛО, — сказал он. — В СУЩНОСТИ, Я ДОЛЖЕН ОТЛИЧИТЬСЯ В ТРЕХ ВИДАХ — ТЕОРИЯ, КОМАНДИРСКИЕ КАЧЕСТВА И ФИЗПОДГОТОВКА ЧЕСТНО ГОВОРЯ, В ПОСЛЕДНЕМ ВИДЕ Я ОПАСАЮСЬ НАСЧЕТ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ, — ГОВОРЯТ, ТАМ ЕСТЬ СТЕНА ДВЕНАДЦАТИ ФУТОВ ВЫСОТОЙ. ДЛЯ МЕНЯ ЭТО МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ МНОГОВАТО.
Хестер напевала под гитару; она наотрез отказалась участвовать в разговоре о военных сборах и сказала, что если еще хоть раз услышит от Оуэна о его вожделенных БОЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ, то ее вырвет. Я никогда не забуду, что пела Хестер: это канадская песня, и за все годы, что прошли с тех пор, я слышал эту песню раз сто. Наверное, от нее у меня всегда будет что-то внутри переворачиваться.
Если вы хотя бы отчасти застали 60-е годы, то, я уверен, слышали песню, что пела Хестер, — песню, которую я помню так живо.
- Веют четыре ветра,
- Волнуются семь морей,
- Все останется так, как было,
- Как суждено судьбой,
- Но счастья нам не вернуть,
- А нынче пора мне в путь —
- Если вернусь я той же дорогой
- Может, встречусь с тобой.
Его отправили в Форт-Нокс, а может, в Форт-Брэгг — я уже не уверен. Как-то раз я спросил у Хестер, куда именно Оуэна отправили в тот раз на военные сборы.
— Я знаю только, что ему не надо было туда ездить — ему надо было уехать в Канаду, — ответила Хестер.
Как часто я об этом думаю! Иногда я ловлю себя на том, что ищу его взглядом — и даже надеюсь увидеть. Однажды в парке Уинстона Черчилля ребятишки устроили шумную кучу-малу, — по крайней мере, возились они очень энергично, — и я увидел, что чуть в стороне от этой свалки, поглотившей всех остальных, стоит некто, ростом примерно с него; он выглядел слегка нерешительным, но очень настороженным и определенно хотел присоединиться к остальным, но то ли сдерживался, то ли выбирал удобный момент, чтобы взять все руководство игрой на себя.
Но Оуэн не уехал в Канаду. Он уехал то ли в Форт-Нокс, то ли в Форт-Брэгг и не прошел полосы препятствий. Он стал лучшим в теории; он получил высшие отметки за командирские качества — я понятия не имею, как их определяют и измеряют в американской армии. Но насчет стены он не ошибся: она оказалась для него немножко высоковатой; он просто не смог через нее перебраться. Он «не сумел преодолеть препятствие» — так официально значилось в его армейских документах. А поскольку категория, которую присваивают выпускникам Учебного корпуса офицеров запаса, складывается из оценок за теорию, командирские качества и физподготовку, Оуэну Мини не хватило баллов для первой категории, только и всего, и теперь его пожелание насчет службы в боевом подразделении было под большим вопросом.
— Но ты ведь так хорошо прыгаешь! — сказал я ему. — Неужели ты не мог просто перепрыгнуть через нее — схватился бы за верхушку стены и перелез!
— Я НЕ ДОСТАЛ ДО ВЕРХУШКИ СТЕНЫ! — сказал он. — ДА, ПРЫГАЮ-ТО Я ХОРОШО, НО ВО МНЕ, БЛЯ, ВСЕГО ПЯТЬ ФУТОВ РОСТА! ЭТО ТЕБЕ НЕ «БРОСОК» ОТРАБАТЫВАТЬ, ПОНЯЛ? ТАМ НИКТО НЕ РАЗРЕШИТ, ЧТОБЫ ТЕБЯ В ЗАДНИЦУ ПОДТАЛКИВАЛИ!
— Жалко, — сказал я. — Но у тебя еще целый год учебы. Нельзя поднажать на полковника Айгера? Ты же наверняка его уломаешь!
— МНЕ УЖЕ ПРИСВОИЛИ ВТОРУЮ КАТЕГОРИЮ — ТЫ НЕ ПОНЯЛ, ЧТО ЛИ? ТАКИЕ ПРАВИЛА. ПОЛКОВНИК АЙГЕР МЕНЯ ЛЮБИТ — ОН ПРОСТО ДУМАЕТ, ЧТО Я НЕ ПОДХОЖУ!
Он здорово расстроился из-за своей неудачи, и я не стал напоминать ему, что он обещал поучить меня обращаться с динамитом. Я чувствовал себя виноватым, что вообще ходил разговаривать с полковником Айгером, — так сильно огорчался Оуэн. Но в то же время я не хотел, чтобы он получил назначение в боевую часть.
Осенью 65-го, когда мы вернулись в Дарем, чтобы приступить к учебе на последнем курсе, уже начались акции протеста против политики США во Вьетнаме. В октябре прошли манифестации в тридцати или сорока городах Америки, — думаю, Хестер участвовала по крайней мере в половине из них. Я, как это часто со мной бывает, колебался: поведение протестующих казалось мне куда более понятным, чем поведение любого, кто хотя бы отдаленно поддерживает «политику США», но в то же время я считал Хестер и большинство ее приятелей малость чокнутыми. Хестер тогда уже начала называть себя «социалисткой».
— АХ, ПРОСТИ, Я-ТО ДУМАЛ, ТЫ ОФИЦИАНТКА! — сказал как-то Оуэн Мини. — ИЛИ ТЫ ДЕЛИШЬСЯ ЧАЕВЫМИ СО ВСЕМИ СВОИМИ КОЛЛЕГАМИ?
— Пошел ты в жопу, Оуэн! — огрызнулась Хестер. — Я могу назвать себя хоть республиканкой, и все равно от меня будет больше толку, чем от тебя!
Я вынужден был согласиться. То, что Оуэн Мини так хотел попасть в боевые подразделения, выглядело по меньшей мере непоследовательным, С таким наметанным глазом на всякого рода чушь и вранье — зачем он так рвался во Вьетнам? А ведь и война, и протесты против нее — все это было только начало, и мало кто этого не понимал.
В Рождество президент Джонсон приостановил операцию «Удар грома»; бомбардировки Северного Вьетнама прекратились — чтобы «ускорить начало мирных переговоров». Интересно, удалось хоть кого-нибудь этим одурачить?
— ПРЯМО ДЛЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ! — заметил Оуэн Мини. Так почему же он туда рвался? Неужели так сильно хотел стать героем, что отправился бы куда угодно?
Той осенью ему сказали, что он подойдет для генерал-адъютантской службы. Он об этом даже слушать не хотел — генерал-адъютантская служба не относится к боевым подразделениям. Он подал апелляцию, мотивируя тем, что, мол, ошибки подобного рода — насчет решения о месте службы — случались очень часто.
— Я ДУМАЮ, ПОЛКОВНИК АЙГЕР НА МОЕЙ СТОРОНЕ, — сказал Оуэн. — А САМ Я ПОДОЖДУ ОТВЕТА НА СЧЕТ БОЕВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
К новогоднему вечеру 65-го — когда Хестер делала свое привычное заявление в розовом саду дома 80 на Центральной — количество погибших в бою американских военнослужащих составляло всего 636 человек; это было только начало. Думаю, эта цифра не включала смерть Гарри Хойта; бедняга Гарри ведь, если честно, погиб не совсем «в бою». Это все равно как если бы он заработал еще одну базу на чужих ошибках, подумал тогда я, — надо же, укусила змея, пока писал под деревом и ждал своей очереди к шлюхе.
— КАК БУДТО ПЕРЕШЕЛ НА ДРУГУЮ БАЗУ, — заметил Оуэн Мини. — БЕДНЫЙ ГАРРИ.
— Бедная его мама, — сказала моя бабушка; она почувствовала потребность дополнить свою теорию о том, как предпочла бы умереть: — Пусть уж лучше меня убьет маньяк, чем укусит змея.
Вот так и получилось, что в Грейвсенде наше первое представление о гибели во Вьетнаме оказалось связано не с привычным солдатом-вьетконговцем в сандалиях и черной пижаме, у которого на голове вместо шляпы что-то вроде лампового абажура, а в руках — советский «Калашников» калибра 7,62, который может лупить как одиночными выстрелами, так и очередями. Вместо этого мы заглянули в бабушкину «Энциклопедию ядовитых змей» Уортона, из-за которой нам с Оуэном еще в детстве снились кошмары, и там нашли, как выглядит наш враг в Юго-Восточной Азии — цепочная гадюка. О, как это казалось заманчиво — свести все злоключения Соединенных Штатов во Вьетнаме к зримому образу врага!
Мать Гарри Хойта пришла к выводу, что наши враги — это мы сами. Меньше чем через месяц после Нового года — после того как Штаты возобновили бомбардировки Северного Вьетнама и операция «Удар грома» развернулась с новой силой — миссис Хойт посеяла смуту в местном призывном пункте Грейвсенда: она решила воспользоваться их доской объявлений, чтобы оповестить всю округу о том, что будет давать на дому бесплатные консультации по вопросам призыва — то бишь о том, как от этого самого призыва уклониться. Она сумела сделать себе рекламу по всему университету в Дареме; Хестер рассказывала, что в университетской среде миссис Хойт нашла гораздо больше понимания, чем в Грейвсенде. Перед студентами университета призыв маячил куда явственнее, чем перед учениками грейвсендской средней школы, которым достаточно было поступить даже в самый дрянной колледж или университет.
В 1966 году два миллиона американских студентов имели так называемые академические отсрочки, освобождающие их от призыва. Через год все поменяется — отныне студенты магистратур потеряют право на отсрочку; однако тем, кто к тому времени успеет проучиться в магистратуре больше года, позволят ее закончить. Я же попаду как раз в «прореху»: когда отсрочки для магистрантов отменят, я буду лишь на первом году магистратуры; моя отсрочка поэтому тоже закончится. Меня вызовут в наш местный грейвсендский призывной пункт на предварительную медкомиссию, и у меня будут все основания ожидать, что я окажусь полностью пригодным к призыву. Эта категория называется 1-А — годен к строевой службе без ограничений.
Примерно ко всему этому и хотела нас подготовить миссис Хойт — уже в феврале 1966-го она начала предупреждать молодых людей, готовых ее выслушать. Она связалась со всеми сверстниками Гарри, что жили в Грейвсенде.
— Джонни Уилрайт, слушай меня внимательно! — обратилась она ко мне; она позвонила мне в дом 80 на Центральной и, по правде говоря, напугала. Даже моя бабушка считала, что миссис Хойт следовало бы вести себя так, «чтобы это хоть отдаленно походило на скорбь», но миссис Хойт напоминала скорее обезумевшую осу. Она принялась поучать Оуэна прямо в гранитной мастерской, пока выбирала камень на могилу своего Гарри!
— Я не хочу крест, — заявила она Оуэну. — Много ему Бог сделал хорошего, нечего сказать!
— ХОРОШО, МЭМ, — кивнул Оуэн Мини.
— И плоскую плиту тоже не хочу; это так по-солдафонски — могила, по которой можно ходить! — поморщилась миссис Хойт.
— Я ПОНЯЛ, — заверил ее Оуэн.
После этого она начала обрабатывать его насчет «обязательств» перед Учебным корпусом офицеров запаса и насчет того, что он должен всеми силами стараться получить «бумажную работу» — если хоть чуть-чуть желает себе добра.
— И я не имею в виду бумажную работу в Сайгоне! — сказала она. — Не смей вообще участвовать в этом геноциде! Или ты мечтаешь сжечь побольше этих маленьких азиаток и их детей? — спросила она его.
— НЕТ, МЭМ, — ответил Оуэн Мини.
Мне она сказала:
— Они не дадут тебе учиться в магистратуре на английском отделении. Какое им дело до английского! Да они сами на нем разговаривают с грехом пополам!
— Да, мэм, — согласился я.
— В магистратуре не спрячешься, я тебе точно говорю. Это не сработает, — заявила миссис Хойт. — И если только они не найдут у тебя каких-нибудь отклонений — я имею в виду со здоровьем, — ты сгинешь где-нибудь на рисовой плантации. У тебя есть какие-нибудь болячки? — спросила она меня.
— Не знаю, но, по-моему, нет, мэм, — ответил я.
— Н-да, тебе стоит над этим подумать, — сказала миссис Хойт. — У меня есть один знакомый, который дает консультации по психиатрии; он может научить тебя, что делать, чтобы сойти за чокнутого. Но это рискованно, и начинать надо уже сейчас — если хочешь кого-то убедить, что ты умалишенный, нужна хоть какая-то история болезни, чтобы было видно, как это все развивалось. Что толку прямо перед медкомиссией напиться и замазать голову собачьим дерьмом! Если они не увидят, как все это развивалось, даже не надейся их надуть.
Именно так, однако, и попробовал сделать Баззи Тэрстон — и все сработало. Все сработало немножко лучше, чем нужно. Он развивал свою «историю болезни» никак не больше двух недель, но даже за это короткое время умудрился впихнуть в свой организм столько алкоголя и наркотиков, что организму это очень понравилось. В глазах миссис Хойт Баззи останется такой же жертвой войны, как и ее Гарри; Баззи погубит себя, пытаясь избежать Вьетнама.
— Ты не думал насчет Корпуса мира? — спросила меня миссис Хойт. Она рассказала, как посоветовала одному молодому человеку — тоже выпускнику английского отделения — обратиться в Корпус мира. Его взяли работать учителем английского в Танзании. Жаль только, сказала она, что летом 65-го эти чертовы «красные» китайцы направили в Танзанию сотни четыре своих «советников», и Корпус мира, естественно, в спешке покинул страну. — Ты подумай над этим, — наставляла меня миссис Хойт. — Танзания — это, как ни крути, все же лучше, чем Вьетнам!
Я сказал ей, что подумаю; но на самом деле я рассчитывал, что у меня впереди еще столько времени! Только представьте: вы учитесь на последнем курсе университета, вы еще девственник — разве можно реагировать всерьез, когда вам предлагают решиться и выбрать между Вьетнамом и Танзанией?
— Это не шутки, — сказала мне Хестер.
В том году — в феврале 1966-го — Комитет Сената по международным делам открыл слушания по войне, которые транслировались по телевидению.
— По-моему, тебе лучше поговорить с миссис Хойт, — посоветовала мне бабушка. — Я не хочу, чтобы хоть кто-нибудь из моих внуков вляпался в эту грязь.
— Послушай меня, Джон, — заговорил как-то Дэн Нидэм. — Это не тот случай, когда надо повторять за Оуэном Мини. На этот раз Оуэн делает ошибку.
Я сказал Дэну, что боюсь, как бы желание Оуэна стать командиром боевого подразделения не сорвалось из-за меня. Я признался, как в разговоре с полковником Айгером усомнился в «эмоциональной устойчивости» Оуэна и согласился с полковником, что Оуэн не подходит для боевой службы. Я сказал Дэну, что чувствую себя виноватым, потому что говорил это все «за спиной у Оуэна»
— Как можно чувствовать себя виноватым, если ты пытаешься спасти ему жизнь? — удивился Дэн.
Хестер сказала то же самое, когда я признался ей, что предал Оуэна полковнику Айгеру.
— Да с какой стати говорить, что ты «предал» его? Если ты его любишь, разве можно ему в этом потакать? Да он же чокнутый! — кричала Хестер. — Если даже в армии говорят, что он «не годен» для боя, я, может, даже постараюсь полюбить эту долбаную армию!
Но тогда вокруг меня «чокнутых» становилось все больше. Бабушка бормотала что-то телевизору дни и ночи напролет. Она стала путать людей и предметы, если только не видела их на телеэкране, — зато, что страшнее, все, что она видела по телевизору, она узнавала с какой-то бездумной, автоматической точностью. Даже Дэн Нидэм казался мне чокнутым; в самом деле, сколько лет можно с увлечением ставить любительские спектакли вообще и искать ответ на вопрос, какая роль в «Рождественской песни» лучше всего подходит мистеру Фишу, в частности? И хотя я не одобрял руководство грейвсендского газового завода за то, что они уволили миссис Хойт, сама миссис Хойт тоже казалась мне чокнутой. А тех местных «патриотов», которых поймали, когда они ломали машину и гараж миссис Хойт, я считал еще более чокнутыми, чем она. И викарий Виггин, и его жена Роза — ну, те-то всегда были чокнутыми; сейчас они уверяли, что Бог «поддерживает» войска США во Вьетнаме, из чего следовало, что не поддерживать присутствие там наших войск — значит, во-первых, выступать против Америки, а во-вторых, против Бога. И хотя преподобный Льюис Меррил вместе с Дэном Нидэмом являлись основными выразителями антивоенных настроений в Грейвсендской академии, даже мистер Меррил казался мне чокнутым; несмотря на все его разговоры о мире, Оуэна Мини он не убедил ни на йоту.
Оуэн, конечно, был самым чокнутым из всех. Думаю, они с Хестер всегда друг друга стоили, но, видя, как Оуэн рвется в боевую часть и изо всех сил добивается назначения туда, я уже не сомневался: он — самый чокнутый из всех.
— Зачем тебе надо стать героем? — недоумевал я.
— ТЕБЕ НЕ ПОНЯТЬ, — ответил он.
— Да где уж мне, — согласился я. Наступила весна 1966-го — заканчивался наш последний курс; меня уже приняли в магистратуру Нью-Хэмпширского университета и по крайней мере в следующем году не могли никуда забрать. Я имел свою отсрочку 2-С и держался за нее изо всех сил. Оуэн уже заполнил свое «Заявление офицера о предпочтительном месте службы» — свою НЕСБЫТОЧНУЮ АНКЕТУ, как он это называл. В «Формуляре о прохождении службы» он указал, что «добровольно желает служить за границей». В обеих анкетах он уточнил, что хочет отправиться во Вьетнам: служить либо в пехоте, либо в бронетанковых войсках, либо в артиллерии — именно в таком порядке. Больших надежд он не питал; из-за второй категории, присвоенной ему Учебным корпусом офицеров запаса, в армии не обязаны были учитывать его желание. Оуэн признался, что ни от кого не слышал ничего обнадеживающего насчет апелляции, в которой он просил пересмотреть назначение в генерал-адъютантскую службу и направить его в боевые части, — его не пытался обнадежить даже полковник Айгер.
— АРМИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ТЕБЕ ВИДИМОСТЬ ВЫБОРА — А ВЫБОР ДЛЯ ВСЕХ ОДИН И ТОТ ЖЕ, — сказал Оуэн. Пока он надеялся, что его назначение пересмотрят, он то и дело изрекал всю эту чушь, которую так любят в штабе сухопутных войск: ДИВЕРСИОННО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ДЕСАНТНАЯ ПОДГОТОВКА, ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВОЙСКАХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ — а однажды, когда он сказал, что хотел бы пойти в ПАРАШЮТНУЮ ШКОЛУ или на КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ В ДЖУНГЛЯХ, Хестер вырвало.
— Да зачем вообще ты хочешь ехать? — вскрикнул я.
— Я ЗНАЮ, ЧТО ПОЕДУ, — ответил он. — И МОЕ ЖЕЛАНИЕ НИ ПРИ ЧЕМ.
— Погоди-ка, я правильно тебя понял? — сказал я. — Ты «знаешь», что поедешь куда?
— ВО ВЬЕТНАМ, — ответил он.
— Понял, — проговорил я.
— Ни черта ты не понял, — вмешалась Хестер. — Ты спроси-ка его, откуда он «знает», что едет во Вьетнам.
— Откуда ты знаешь, Оуэн? — спросил я его; я подумал, что и так знаю, откуда он знает, — это все сон, и при мысли об этом у меня внутри что-то перевернулось.
Мы с Оуэном сидели на деревянных стульях с прямыми спинками в кишащей тараканами кухне Хестер. Сама Хестер готовила томатный соус; повар из нее был не ахти какой, и вся кухня уже успела пропитаться кисловатым луковым запахом множества предыдущих томатных соусов. Сначала Хестер разогревала на чугунной сковороде дешевое оливковое масло и замучивала в нем лук, затем вываливала туда банку консервированных помидоров, потом добавляла воду — и еще базилик, ореган, соль, красный перец, иногда кость от свиной или бараньей отбивной или от бифштекса, оставшуюся от прошлого ужина. Это месиво она упаривала до объема меньше упомянутой банки помидоров и до густоты теста и полученной бурдой мазала макароны, которые перед этим варила столько, что они превращались в кашу. Время от времени она удивляла нас салатом, куда набухивала дикое количество уксуса и дешевого оливкового масла, того же, в котором казнила лук
Иногда после ужина мы устраивались на диване в гостиной и слушали музыку, а иногда Хестер сама что-нибудь пела нам с Оуэном. Но сейчас на диван не тянуло — после того как Хестер подобрала бродячую даремскую собаку, псина в благодарность заселила диван в гостиной множеством блох. Такой жизнью, казалось нам с Хестер, Оуэн не слишком дорожил.
— Я НЕ ХОЧУ СТАТЬ ГЕРОЕМ, — объяснял Оуэн Мини. — НО ДЕЛО НЕ В ТОМ, ХОЧУ Я ИЛИ НЕ ХОЧУ, — ДЕЛО В ТОМ, ЧТО Я СТАНУ ГЕРОЕМ. Я ТОЧНО ЗНАЮ, МНЕ НАЗНАЧЕНО ИМ БЫТЬ.
— Да откуда ты знаешь? — допытывался я.
— ДЕЛО НЕ В ТОМ, ХОЧУ Я ЕХАТЬ ВО ВЬЕТНАМ ИЛИ НЕ ХОЧУ, — МНЕ ПРИДЕТСЯ ТУДА ЕХАТЬ. ЭТО МЕСТО, ГДЕ Я СТАНУ ГЕРОЕМ. Я ДОЛЖЕН ТАМ БЫТЬ, — сказал он.
— Расскажи ему, откуда ты это «знаешь», мудила! — заорала на него Хестер.
— А ОТКУДА ЗНАЕШЬ ТАКИЕ ВЕЩИ, КАК СВОЙ ДОЛГ, СВОЮ СУДЬБУ, СВОЮ УЧАСТЬ? — ответил он. — ОТКУДА ЗНАЕШЬ, ЧТО ХОЧЕТ ОТ ТЕБЯ БОГ?
— Бог хочет, чтобы ты поехал во Вьетнам? — недоуменно спросил я.
Хестер выбежала из кухни, заперлась в ванной и открыла воду, выкрикнув:
— Я больше не слушаю всю эту бредятину, Оуэн, — хватит с меня, я тебе уже говорила!
Оуэн встал из-за кухонного стола, чтобы уменьшить огонь под сковородкой с томатным соусом, и тут мы услышали, что Хестер в ванной рвет.
— Это все тот сон, да? — спросил я его. Он вдумчиво и со знанием дела помешивал соус. — Тебе пастор Меррил говорит, что Бог хочет, чтобы ты ехал во Вьетнам? — спросил я его. — Или тебе это отец Финдли говорит?
— ОНИ ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТО ПРОСТО СОН, — промолвил Оуэн Мини.
— Так ведь и я тебе то же самое говорю — я даже не знаю, что это такое, и все равно говорю, что это просто сон, — сказал я.
— НО В ТЕБЕ НЕТ ВЕРЫ, — заметил он. — В ЭТОМ ВСЯ ТВОЯ БЕДА.
Хестер в ванной издавала звуки, напоминающие о наших новогодних вечерах; томатный соус начал потихоньку булькать.
Оуэн Мини иногда делался как-то по-особенному спокойным, что мне всегда не нравилось. Если на него находило такое, когда мы отрабатывали «бросок», я побаивался к нему притрагиваться — после того как я передавал ему мяч, мне становилось как-то не по себе; и когда я должен был взять его на руки, чтобы подбросить, мне всегда казалось, что я держу не совсем человеческое по своей природе существо, или не до конца реальное. Я бы не удивился, если бы он когда-нибудь извернулся в воздухе или у меня в руках и укусил меня или, после того как я подброшу его, взял да и улетел.
— Это просто сон, — повторил я.
— ЭТО НЕ ТВОЙ СОН, — сказал Оуэн Мини.
— Да что ты все ходишь вокруг да около! Хватит мне мозги пудрить! — не выдержал я.
— Я НЕ ПУДРЮ ТЕБЕ МОЗГИ, — возразил он. — РАЗВЕ Я СТАЛ БЫ ПРОСИТЬ НАЗНАЧЕНИЯ В БОЕВУЮ ЧАСТЬ, ЕСЛИ БЫ ПУДРИЛ ТЕБЕ МОЗГИ?
Я начал снова:
— В этом сне ты герой?
— Я СПАСАЮ ДЕТЕЙ, — ответил Оуэн Мини. — ТАМ МНОГО ДЕТЕЙ, И Я ИХ СПАСАЮ.
— Детей? — удивился я.
— В МОЕМ СНЕ, — сказал он, — ЭТО НЕ СОЛДАТЫ, ЭТО ДЕТИ.
— Вьетнамские дети? — уточнил я.
— ВОТ ПОТОМУ-ТО Я И ЗНАЮ, ГДЕ НАХОЖУСЬ, — ЭТО СОВЕРШЕННО ТОЧНО ВЬЕТНАМСКИЕ ДЕТИ, И Я ИХ СПАСАЮ, — сказал он и добавил: — Я БЫ НЕ СТАЛ ВО ВСЕ ЭТО ВВЯЗЫВАТЬСЯ, ЕСЛИ БЫ МНЕ НАДО БЫЛО СПАСАТЬ СОЛДАТ!
— Оуэн, это же такое ребячество! — уговаривал его я. — Нельзя же верить, будто все, что тебе взбредает в голову, обязательно должно что-то означать! Нельзя же из-за какого-то сна втемяшить себя, будто «знаешь», что тебе «должно» сделать!
— ВЕРА — ЭТО НЕ СОВСЕМ ТО, О ЧЕМ ТЫ ГОВОРИШЬ, — заметил он, не отворачиваясь от соуса. — Я ВЕРЮ НЕ ВСЕМУ, ЧТО ВЗБРЕДАЕТ МНЕ В ГОЛОВУ, — ВЕРА НЕСКОЛЬКО БОЛЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНА
Некоторые сны, думаю я, тоже ИЗБИРАТЕЛЬНЫ. Оуэн зажег огонь под большой кастрюлей с водой для макарон, как будто сухое иканье, издаваемое в ванной Хестер, указывало ему на то, что к ней скоро вернется аппетит. Затем он ушел в спальню Хестер и принес свой дневник. Он не стал мне его показывать; он просто нашел там, что искал, прочитал мне. Я не знал тогда, что слушаю уже отредактированный вариант. Слово «сон» в его повествовании не упоминалось ни разу, как если бы Оуэн описывал не сон, а что-то такое, что видел гораздо увереннее и отчетливее, чем то, что является во сне, — как если бы он описывал последовательность событий, которым был свидетелем. В то же время он повествовал об этом с некой отстраненностью, как будто наблюдал за всем происходящим через окно; и весь тон написанного нисколько не походил на привычный жесткий и напористый стиль Голоса. Скорее эта определенность и уверенность напоминала простой и безыскусный закадровый текст к документальному фильму — такова не ведающая сомнений интонация Библии.
«Я НИКОГДА НЕ СЛЫШУ САМОГО ВЗРЫВА. ЧТО Я СЛЫШУ, ТАК ЭТО ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВА: В УШАХ У МЕНЯ ЗВЕНИТ, И ЕЩЕ РАЗДАЮТСЯ КАКИЕ-ТО ТОНКИЕ ХЛОПАЮЩИЕ И ЧИХАЮЩИЕ ЗВУКИ, ВРОДЕ ТЕХ, ЧТО БЫВАЮТ, КОГДА ГЛУШИШЬ ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ. СВЕРХУ ПАДАЮТ ОБЛОМКИ НЕБА, И КУСОЧКИ ЧЕГО-ТО БЕЛОГО — МОЖЕТ, БУМАГИ, А МОЖЕТ, ШТУКАТУРКИ — КРУЖАТСЯ И ОПУСКАЮТСЯ, СЛОВНО СНЕГ. ЕЩЕ В ВОЗДУХЕ СВЕРКАЮТ КАКИЕ-ТО СЕРЕБРИСТЫЕ БЛЕСТКИ, — МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО ОСКОЛКИ СТЕКЛА СТОИТ ДЫМ, И ПАХНЕТ ГОРЕЛЫМ; ПЛАМЕНИ НЕ ВИДНО, НО ВСЕ КРУГОМ ТЛЕЕТ.
МЫ ВСЕ ЛЕЖИМ НА ПОЛУ. Я ЗНАЮ, ЧТО С ДЕТЬМИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ, ПОТОМУ ЧТО ОДИН ЗА ДРУГИМ ОНИ ПОДНИМАЮТСЯ С ПОЛА. ВЗРЫВ, НАВЕРНОЕ, БЫЛ ОЧЕНЬ ГРОМКИЙ, ПОТОМУ ЧТО НЕКОТОРЫЕ ДЕТИ ДО СИХ ПОР ДЕРЖАТСЯ ЗА УШИ; КОЕ У КОГО ИЗ УШЕЙ ТЕЧЕТ КРОВЬ. ДЕТИ ГОВОРЯТ НЕ ПО-АНГЛИЙСКИ, НО ИХ ГОЛОСА — ЭТО ПЕРВЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЗВУКИ ПОСЛЕ ВЗРЫВА. ТЕ ДЕТИ, ЧТО ПОМЛАДШЕ, ПЛАЧУТ, НО СТАРШИЕ ИЗО ВСЕХ СИЛ СТАРАЮТСЯ ИХ УСПОКОИТЬ — ОНИ БОЛТАЮТ БЕЗ УМОЛКУ, ЛЕПЕЧУТ ЧТО-ТО НЕПОНЯТНОЕ, НО ВСЕ ЭТО ЗВУЧИТ КАК-ТО ОБНАДЕЖИВАЮЩЕ.
ПО ТОМУ, КАК ОНИ НА МЕНЯ СМОТРЯТ, Я ЗНАЮ, ВО-ПЕРВЫХ, ЧТО Я СПАС ИХ — НО НЕ ЗНАЮ КАК, А ВО-ВТОРЫХ, Я ЗНАЮ, ЧТО ИМ СТРАШНО ЗА МЕНЯ. НО Я НЕ ВИЖУ СЕБЯ — Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, ЧТО У МЕНЯ НЕ В ПОРЯДКЕ. ЛИЦА ДЕТЕЙ ГОВОРЯТ МНЕ, ЧТО ЧТО-ТО СО МНОЙ НЕ ТАК.
ВДРУГ ПОЯВЛЯЮТСЯ МОНАХИНИ; ПИНГВИНИХИ ПРИСТАЛЬНО СМОТРЯТ НА МЕНЯ, ПОТОМ ОДНА ИЗ НИХ СКЛОНЯЕТСЯ НАДО МНОЙ. Я НЕ СЛЫШУ, ЧТО ГОВОРЮ ЕЙ, НО ОНА, КАЖЕТСЯ, МЕНЯ ПОНИМАЕТ, — ВОЗМОЖНО, ОНА ЗНАЕТ АНГЛИЙСКИЙ. НО ТОЛЬКО КОГДА ОНА ОБХВАТЫВАЕТ МЕНЯ РУКАМИ, Я ВИЖУ КРОВЬ — ПЛАТОК МОНАХИНИ ВЕСЬ В КРОВИ. ПОКА Я СМОТРЮ НА МОНАХИНЮ, КРОВЬ ПРОДОЛЖАЕТ ЗАЛИВАТЬ ЕЙ ПЛАТОК — КРОВЬ БРЫЗЖЕТ И НА ЛИЦО, НО МОНАХИНЮ ЭТО НЕ ПУГАЕТ. ГЛАЗА ДЕТЕЙ, ЧТО СМОТРЯТ НА МЕНЯ СВЕРХУ ВНИЗ, ПОЛНЫ СТРАХА; НО МОНАХИНЯ, КОТОРАЯ МЕНЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ, ОБХВАТИВ РУКАМИ, ОСТАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НЕВОЗМУТИМОЙ.
КОНЕЧНО, ЭТО МОЯ КРОВЬ — МОНАХИНЯ ВСЯ ЗАЛИТА МОЕЙ КРОВЬЮ, НО ОНА ОЧЕНЬ СПОКОЙНА. КОГДА Я ВИЖУ, ЧТО ОНА СОБИРАЕТСЯ МЕНЯ ПЕРЕКРЕСТИТЬ, Я ТЯНУСЬ К НЕЙ И ПЫТАЮСЬ ОСТАНОВИТЬ ЕЕ. НО Я НЕ МОГУ ЭТОГО СДЕЛАТЬ, КАК ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ НЕ БЫЛО РУК А МОНАХИНЯ ТОЛЬКО УЛЫБАЕТСЯ МНЕ. И ТОЛЬКО ОНА УСПЕВАЕТ МЕНЯ ПЕРЕКРЕСТИТЬ, КАК Я ТУТ ЖЕ ПОКИДАЮ ИХ ВСЕХ — ПРОСТО ПОКИДАЮ, И ВСЕ. ОНИ ОСТАЮТСЯ НА ТЕХ ЖЕ МЕСТАХ, ЧТО И РАНЬШЕ, И ПРОДОЛЖАЮТ СМОТРЕТЬ НА МЕНЯ СВЕРХУ ВНИЗ; НО НА САМОМ ДЕЛЕ МЕНЯ ТАМ НЕТ. Я ТОЖЕ СМОТРЮ НА СЕБЯ СВЕРХУ ВНИЗ. Я ПОХОЖ НА ТОГО МЛАДЕНЦА ХРИСТА — ПОМНИШЬ ДУРАЦКИЕ ПЕЛЕНКИ? ВОТ ТО ЖЕ САМОЕ Я ВИЖУ, КОГДА ПОКИДАЮ СЕБЯ.






