Молитва об Оуэне Мини Ирвинг Джон
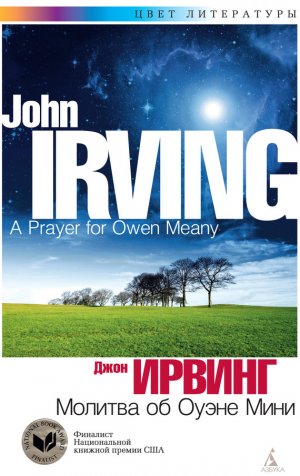
— ДА УЖ, ЭТО ТОЧНО, — подтвердил Оуэн Мини.
— Ну, и как ты вообще? — спросил я.
— ПРЕКРАСНО, — ответил он. — Я НАРУШИЛ ЗАКОН, МЕНЯ ПОЙМАЛИ, ПРИДЕТСЯ ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТЬ — ВОТ И ВСЕ, — сказал он.
— Но тебя ведь подставили! — не удержался я.
— НЕМНОГО ДА, — кивнул он и затем пожал плечами. — НО Я ВЕДЬ НЕ ТО ЧТОБЫ СОВСЕМ УЖ НЕ ВИНОВАТ, — добавил он.
— Самое главное, о чем тебе надо сейчас думать, — это как поступить в университет, — сказал Дэн. — Для тебя очень важно поступить в университет, и притом получить стипендию.
— ЕСТЬ КОЕ-ЧТО И ПОВАЖНЕЕ, — произнес Оуэн Мини. Он быстро, один за другим, выдвинул три ящика с правой стороны стола мистера Меррила, затем так же быстро их задвинул. Как раз в эту секунду в комнату вошел пастор Меррил.
— Что это ты делаешь? — спросил он Оуэна.
— НИЧЕГО, — ответил Оуэн Мини. — ЖДУ ВАС.
— Я имею в виду, за моим столом — ты сидишь за моим столом, — сказал мистер Меррил.
На лице Оуэна появилось недоумение.
— Я ПРИШЕЛ СЛИШКОМ РАНО, — пояснил он, — И ПРОСТО СИДЕЛ В ВАШЕМ КРЕСЛЕ — Я НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ.
Он поднялся, обошел стол пастора и сел на стул, где сидел обычно — полагаю, по крайней мере, что на нем он обычно сидел. Этот стул напомнил мне «певческое кресло» в забавной квартирке Грэма Максуини. Я был огорчен, что мистер Максуини до сих пор не дал о себе знать; наверное, у него нет никаких известий о Фрибоди Черном Черепе, подумал я.
— Извини за резкость, Оуэн, — сказал мистер Меррил. — Я знаю, ты, верно, очень расстроен.
— У МЕНЯ ВСЕ ХОРОШО, — ответил Оуэн.
— Я рад, что ты позвонил мне, — признался мистер Меррил.
Оуэн пожал плечами. Я никогда раньше не видел, чтобы он ухмылялся, но сейчас мне показалось, что он ухмыляется чуть ли не прямо в лицо преподобному мистеру Меррилу.
— Ох, ну да, — вздохнул мистер Меррил, садясь в свое скрипучее кресло. — Да-да, я очень, очень сожалею, Оуэн, обо всем, что случилось, — сказал пастор. Он всюду входил — будь то в классную комнату, или в Большой зал, или в церковь Херда, или даже в свой собственный кабинет в ризнице — с таким видом, будто приносит всем присутствующим свои извинения. Причем настолько искренние, что невозможно было ни остановить его, ни перебить. Он вызывал сочувствие, и хотелось, чтобы он хоть чуть-чуть расслабился; но одновременно возникало чувство вины за собственное раздражение — тем, как усердно и безуспешно пытается он вас успокоить.
Дэн сказал:
— Я пришел спросить, не знаете ли вы, как зовут самого главного в школе Святого Михаила — это ведь один и тот же человек, в школе и в церкви, верно?
— Верно, — ответил пастор Меррил. — Отец Финдли.
— Хм, наверное, я его не знаю, — сказал Дэн. — Мне почему-то казалось, его зовут как-то на «О» — отец О'Какой-то.
— Нет-нет, его зовут отец Финдли, — повторил мистер Меррил.
Преподобный мистер Меррил еще не знал, зачем Дэну нужен «самый главный» в школе Святого Михаила, но Оуэн, конечно, понял, что замышляет Дэн.
— НЕ НАДО ДЛЯ МЕНЯ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ, ДЭН, — нахмурился Оуэн.
— Как знать, может, тебя придется спасать от тюрьмы, — сказал Дэн. — Я очень хочу, чтоб ты поступил в университет, и хочу, чтоб тебе дали стипендию. Но сначала я, по крайней мере, попробую сделать что-нибудь, чтобы тебя не привлекли за кражу и вандализм.
— Что ты натворил, Оуэн? — удивился преподобный мистер Меррил.
Оуэн опустил голову; на какое-то мгновение я подумал, что он сейчас заплачет, но потом он словно очнулся, пожал плечами и взглянул прямо в глаза преподобному Льюису Меррилу.
— Я БЫ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ ВЫ ЗА МЕНЯ ПОМОЛИЛИСЬ, — сказал Оуэн Мини.
— П-п-помолился — за тебя? — заикаясь, переспросил мистер Меррил.
— СОВСЕМ НЕМНОЖКО — ЕСЛИ ВАС НЕ ЗАТРУДНИТ, — сказал Оуэн. — ЭТО ВЕДЬ ВАША РАБОТА, РАЗВЕ НЕТ?
Преподобный мистер Меррил слегка призадумался.
— Да, — ответил он осторожно и затем спросил: — На утреннем собрании?
— СЕГОДНЯ — ПЕРЕД ВСЕМИ ПРИСУТСТВУЮЩИМИ, — сказал Оуэн Мини.
— Да-да, хорошо, — кивнул преподобный Льюис Меррил, однако, судя по его виду, он здорово растерялся.
Дэн взял меня за руку и подтолкнул к выходу.
— Мы вас оставим, если вы хотите поговорить, — сказал он мистеру Меррилу с Оуэном.
— Может, вам еще что-нибудь было нужно? — спросил Дэна мистер Меррил.
— Нет-нет, только отец Финдли — в смысле, его имя, — ответил Дэн.
— А ты ко мне приходил только за этим — попросить, чтобы я помолился? — обратился мистер Меррил к Оуэну: тот, казалось, глубоко задумался над этим вопросом — а может, просто ждал, когда мы с Дэном уйдем.
Мы вышли из ризницы. В темном коридоре во всю длину стен протянулись два ряда деревянных вешалок; во мраке виднелись несколько потерянных или кем-то позабытых пальто, похожих на старых прихожан, которые так долго брели сюда, что устали и задремали, прислонившись к стенам. Еще в коридоре стояло несколько пар галош, но не прямо под покинутыми пальто, а так, словно прихожане, задремав в темноте, отделились от своих ног. На ближайшей к двери деревянной вешалке висел двубортный молодежный морской бушлат преподобного мистера Меррила — странноватый наряд в его годы, — а на соседней вешалке — его же матросская фуражка с козырьком. Проходя по коридору, мы с Дэном услышали, как пастор Меррил спросил:
— Оуэн! Опять сон? Тебе снова приснился тот сон?
— ДА, — ответил Оуэн Мини и заплакал — даже не заплакал, а заревел, как маленький. Я не слышал от него ничего подобного с того самого Дня благодарения, когда он обмочился — когда он написал на Хестер.
— Оуэн! Оуэн, послушай меня, — уговаривал его мистер Меррил. — Оуэн! Это же только сон — ты слышишь меня? Это всего-навсего сон.
— НЕТ! — сказал Оуэн Мини.
Мы с Дэном вышли на улицу, в февральский холод и хмурь. Вчерашние следы в истоптанной и изборожденной колеями слякоти замерзли — окаменелые отпечатки душ, приходивших когда-то в церковь Херда и ушедших прочь. Было все еще раннее утро. Хотя мы с Дэном видели, как всходило солнце, но теперь оно скрылось в низких, однообразных, льдисто-серых облаках.
— Что это еще за сон? — спросил меня Дэн Нидэм.
— Не знаю, — ответил я.
Оуэн тогда еще не рассказывал мне про свой сон. Позже он расскажет — и я отвечу ему то же самое, что ему говорил мистер Меррил: что это «всего-навсего сон».
Сейчас я уже знаю, что последствия наших прежних действий всегда заслуживают внимания. Я научился смотреть на настоящее, заглядывая сквозь него немного вперед. Но это сейчас; а тогда мы с Дэном не очень-то представляли, что произойдет после того, как Рэнди Уайт увидит лишенную головы и рук Марию Магдалину, обнявшую безжалостной стальной хваткой трибуну на сцене Большого зала, так что директор вынужден будет выступать перед всей школой с нового места, уже ничем не прикрытый.
В доме напротив Главного корпуса Академии директор надевал свое пальто из верблюжьей шерсти; жена Сэм начесывала ему это красивое пальто особой щеткой и целовала мужа перед уходом, желая удачного дня. Для директора этот день будет плохим — РОКОВЫМ, как назвал бы его Оуэн Мини, — но, я уверен, Рэнди Уайт в то утро не особенно стремился заглянуть в будущее. Он думал, что покончил с Оуэном Мини. Он не знал, что в конце концов Оуэн Мини возьмет над ним верх; он не знал, что преподаватели проголосуют за недоверие директору — как не знал и того, что попечительский совет примет решение не продлевать с ним контракт. Мистер Уайт даже представить не мог, в какую пародию в этом году превратится выпускная церемония из-за отсутствия Оуэна Мини — и как тот робкий, довольно заурядный и незаметный школьник, которого назначат читать прощальную речь вместо Оуэна Мини, отважится сказать в качестве прощальной речи лишь следующие слова: «Я на голову ниже того, кто должен был произнести эту речь. Он — светлая голова нашего класса, Оуэн Мини; наш Голос — тот единственный, который мы хотим слышать». Затем этот славный робкий паренек сядет на свое место под буйные крики одноклассников, поднявших за Голоса свои голоса, простыни и более искусно сделанные знамена с выведенным на них его именем — разумеется, заглавными буквами! — а потом все как один примутся скандировать, заглушая жалкие попытки директора призвать нас к порядку.
— Оу-эн Ми-ни! Оу-эн Ми-ни! Оу-эн Ми-ни! — кричал выпуск 62-го года.
Но в то февральское утро, когда директор облачался в свое верблюжье пальто, он еще не мог знать, что Оуэн Мини принесет ему погибель. Каким растерянным и беспомощным будет выглядеть Рэнди Уайт на выпускной церемонии, когда пригрозит отобрать у нас дипломы, если мы не прекратим гам. Должно быть, он поймет, что проиграл, когда и Дэн Нидэм, и мистер Эрли, и добрая треть, а то и половина преподавателей встанут и аплодисментами встретят наш бунт в поддержку Оуэна. А еще к нам присоединятся несколько хорошо осведомленных обо всем произошедшем членов попечительского совета, не говоря уж обо всех тех родителях, что писали директору гневные письма после авторитарной акции с изъятием наших бумажников. Как жаль все-таки, что Оуэн не пришел на церемонию и не видел директора. Но, конечно, Оуэн никак не мог там присутствовать — он ведь не получил диплома.
Не было его и на утреннем собрании в тот февральский день перед самым началом весенних каникул; однако нелепая статуя, которую он оставил на сцене взамен себя, приковала к себе наше внимание. В то утро в Большом зале был аншлаг — на представление пришли едва ли не все преподаватели. И Мария Магдалина словно приветствовала нас: без рук, она тянулась к нам, без головы, она красноречиво взывала к нам — гладкий срез как раз посредине кадыка совершенно явственно выражал, как много она хотела бы нам сказать. Мы сидели в тишине Большого зала и ждали директора.
До чего же гнусным типом оказался Рэнди Уайт! В «приличных» школах есть неписаное правило: когда исключают выпускника всего за пару месяцев до окончания школы, стараются сделать так, чтобы у него было как можно меньше трудностей при поступлении в университет. Да, конечно, следует сообщить в приемные комиссии то, что тем положено знать; но коль уж ты и так навредил достаточно, выгнав парня из школы, не старайся теперь еще и закрыть перед ним дорогу в университет! Не таков был Рэнди Уайт. Он просто из кожи вон лез, лишь бы положить конец университетской карьере Оуэна еще до того, как она началась.
Оуэна готовы были принять в Гарвард, его готовы были принять в Йель, к тому же в обоих университетах ему давали полную стипендию. Но вдобавок к тому, что говорилось в его личном деле (что он исключен из Грейвсендской академии за изготовление поддельных призывных свидетельств и продажу их однокашникам), директор сообщил в Гарвард и Йель (и даже в Нью-Хэмпширский университет) много чего еще. Он написал, что Оуэн Мини настолько «яростно и злобно настроен против религии», что «позволил себе осквернить статую святой, принадлежащую католической школе», а еще он развернул в Грейвсендской академии «глубоко антикатолическую кампанию», прикрываясь требованием отмены рыбного меню по пятницам в школьной столовой. Кроме того, он не забыл упомянуть, что против Оуэна «выдвигались обвинения в антисемитизме».
Что до Нью-Хэмпширского Почетного академического общества, эти отозвали свое предложение насчет стипендии; в Нью-Хэмпширском университете охотно приняли бы выпускника с такими отметками, как у Оуэна Мини, но Почетное общество — «в свете этой неприятной и огорчительной информации» — теперь не могло поощрить его стипендией. Мол, если он решит учиться в университете штата, то только за свой счет.
В Гарварде и Йеле отнеслись к Оуэну снисходительней, но там возникли свои сложности. В Йеле пожелали еще раз пригласить его на собеседование; они быстро убедились, что так называемые «обвинения» в антисемитизме оказались ложью, но Оуэн был, очевидно, слишком уж откровенен в выражении своих чувств к католичеству, и в Йеле решили отложить его прием на год. За это время, как сказал председатель их приемной комиссии, Оуэн должен «устроиться на какую-нибудь серьезную работу», и пусть его работодатель время от времени сообщает в Йель о «характере и взглядах» Оуэна. Дэн Нидэм сказал Оуэну, что предложение выглядит разумным, справедливым и довольно обычным для такого приличного университета, как Йельский. Оуэн не стал возражать Дэну. Он просто отказался выполнять эти условия.
— ЭТО ВСЕ РАВНО ЧТО ПОЛУЧИТЬ ТЮРЕМНЫЙ СРОК УСЛОВНО, — сказал он.
В Гарварде также повели себя справедливо и разумно — и несколько более требовательно и изобретательно, чем в Йеле. Они тоже сказали, что хотят отсрочить принятие Оуэна; однако там выразились определеннее насчет «серьезной работы», на которую должен устроиться Оуэн. Ему следовало поработать для католической церкви — не важно, в какой должности. Он может добровольно помогать Католической службе помощи[27], или устроиться социальным работником в какую-нибудь католическую благотворительную организацию, или даже потрудиться в той самой приходской школе, где сломал статую Марии Магдалины. Отец Финдли из школы Святого Михаила оказался порядочным человеком; он не только не стал требовать для Оуэна Мини наказания — после разговора с Дэном Нидэмом отец Финдли согласился сделать все, чтобы помочь Оуэну поступить в университет.
За Оуэна вступились даже кое-кто из учеников этой самой приходской школы. Баззи Тэрстон — тот самый, что так коряво отбил мяч, после чего должен был наступить последний аут, и тогда Оуэн Мини даже не взял бы в руки биту, — так вот, даже Баззи Тэрстон вступился за Оуэна. Он сказал, что для Оуэна настали «скверные времена», что у него «имелись причины» расстраиваться. Директор Уайт и инспектор Бен Пайк изо всех сил старались наказать Оуэна на всю катушку за воровство и надругательство над Марией Магдалиной. Но в школе Святого Михаила к Оуэну отнеслись очень снисходительно — особенно отец Финдли.
Дэн сказал, что отец Финдли, оказывается, «знаком с семьей» Мини и проникся искренним сочувствием к Оуэну, когда понял, кто его родители — у них раньше были с Мини некие отношения. Не вдаваясь в подробности этих «отношений», отец Финдли, однако, сказал, что сделает все от него зависящее, чтобы помочь Оуэну. «Я лично его и пальцем не трону!» — сказал отец Финдли.
Дэн Нидэм сказал Оуэну, что в Гарварде придумали неплохо. «Очень многие католики делают очень много хорошего, Оуэн, — сказал Дэн. — Почему бы тебе не убедиться в этом самому?»
Какое-то время мне казалось, что Оуэн готов принять предложение Гарвардского университета — СДЕЛКУ С КАТОЛИКАМИ, как он сам это назвал. Он даже пошел повидаться с отцом Финдли; но это, кажется, и смутило его — то, как искренне отец Финдли беспокоился о благополучии Оуэна. Скорее всего, отец Финдли понравился Оуэну, и это тоже, вероятно, его смущало.
В конце концов он откажется от СДЕЛКИ С КАТОЛИКАМИ.
— МОИ РОДИТЕЛИ НИКОГДА ЭТОГО НЕ ПОЙМУТ, — сказал он. — И ПОТОМ, Я ХОЧУ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ В НЬЮ-ХЭМПШИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ — Я ХОЧУ ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ, ХОЧУ БЫТЬ ТАМ ЖЕ, ГДЕ И ТЫ.
— Но они ведь не дают тебе стипендии, — напомнил я ему.
— НАСЧЕТ ЭТОГО НЕ БЕСПОКОЙСЯ, — ответил Оуэн. Он не сразу сказал мне, что уже добился «стипендии» для себя.
Он обратился в грейвсендский вербовочный пункт армии США; все было решено, как говорится, «по-семейному». Там уже знали, кто он такой, — знали, что он был лучшим в классе в Грейвсендской академии, пусть даже в конце концов ему едва удалось получить документ о среднем образовании. Его готов был принять Нью-Хэмпширский университет — и это военные тоже знали; они прочли об этом в «Грейвсендском вестнике». Более того, он стал чем-то вроде героя местного масштаба: даже не присутствуя на вручении дипломов, он сорвал всю торжественную церемонию. Что касается изготовления и продажи поддельных призывных повесток, то армейские чиновники прекрасно разобрались, что все дело сводилось к покупке спиртного. Неуважением к самой системе призыва тут и не пахло, они это понимали. Ну а какой американский парень, в ком бурлит молодая кровь, не устраивает время от времени безобразий вроде издевательства над статуей?
Вот так Оуэн Мини и получил «стипендию» для учебы в университете штата Нью-Хэмпшир. Он записался в Учебный корпус офицеров запаса — мы его называли «запаской», помните? Вы идете учиться в университет за счет армии США и во время учебы прослушиваете несколько курсов из армейской программы — вроде «Военной истории» или «Тактики малых подразделений»; в общем, ничего особо сложного. Летом перед последним курсом проходите стандартную шестинедельную программу по основам боевой подготовки. Ну а после окончания университета получаете офицерское звание — становитесь вторым лейтенантом вооруженных сил США и должны отдать своей родине четыре года действительной службы плюс два года в запасе.
— НУ И ЧТО ТУТ ТАКОГО СТРАШНОГО? — спросил Оуэн Мини нас с Дэном. Когда он объявил нам о своих планах, шел еще только 1962 год; во Вьетнаме тогда находилось в общей сложности 11 300 американских военных, но ни один из них пока не участвовал в боевых действиях.
И все же Дэну Нидэму стало не по себе от решения Оуэна.
— Предложение Гарварда мне нравится больше, Оуэн, — сказал Дэн.
— НО ТАК МНЕ НЕ ПРИДЕТСЯ ЖДАТЬ ЦЕЛЫЙ ГОД, — возразил он. — И МЫ С ТОБОЙ БУДЕМ ВМЕСТЕ — РАЗВЕ ЭТО НЕ ЗДОРОВО? — обратился он ко мне.
— Да, это здорово, — сказал я. — Просто как-то немного неожиданно, вот и все.
На самом деле «немного неожиданно» — слабо сказано; то, что Оуэна приняли в армию США, меня просто-таки поразило.
— Разве там нет требований по росту? — шепнул мне на ухо Дэн Нидэм.
— Я думаю, не только по росту, но и по весу, — ответил я.
— ЕСЛИ ВЫ ГОВОРИТЕ О ТРЕБОВАНИЯХ ПО РОСТУ И ВЕСУ, — отозвался Оуэн, — ТО ОНИ ТАКИЕ: ПЯТЬ ФУТОВ И СТО ФУНТОВ — НЕ МЕНЬШЕ.
— В тебе что, есть пять футов, Оуэн? — спросил Дэн.
— И с каких это пор ты весишь сто фунтов? — добавил я.
— Я НАЕЛСЯ ДО ОТВАЛА БАНАНОВ И МОРОЖЕНОГО, — сказал Оуэн Мини. — А КОГДА ИЗМЕРЯЛИ МОЙ РОСТ, Я ВДОХНУЛ ПОГЛУБЖЕ И ВСТАЛ НА ЦЫПОЧКИ!
Что ж, оставалось только поздравить его; Оуэн был очень доволен тем, как сам, по своему усмотрению, устроил себе «стипендию». Тогда же выяснилось, что он вчистую победил Рэнди Уайта. В то время ни Дэн, ни я не знали ничего про его «сон»; если бы Оуэн рассказал его нам, пожалуй, мы бы слегка встревожились, что он связался с армией.
А тем февральским утром, когда преподобный Льюис Меррил вошел в Большой зал и с ужасом вперил свой взгляд в обезглавленную и безрукую Марию Магдалину, мы с Дэном Нидэмом не слишком-то задумывались о будущем. Нас беспокоило только, что преподобный Льюис Меррил может слишком испугаться и не суметь прочесть молитву — что вид Марии Магдалины может превратить его привычное легкое заикание в совершенно невразумительное мычание. Пастор стоял у подножия сцены, глядя на нее снизу вверх, — он застыл в этой позе, забыв снять морской бушлат и матросскую фуражку, и, поскольку конгрегационалисты не всегда носят пасторский воротник, преподобный Льюис Меррил в эту минуту был меньше всего похож на нашего школьного священника — скорее на пьяного матроса, нетвердой походкой пришедшего наконец к Богу.
Преподобный Льюис Меррил все еще стоял в глубоком изумлении, когда в Большой зал прибыл директор. Если Рэнди Уайт и удивился, увидев такое множество преподавателей на утреннем собрании, на его стремительной походке это никак не отразилось. Он, как обычно, взбежал по лестнице на сцену, перемахивая через две ступеньки. Увидев, что на трибуне уже кто-то стоит, директор, как ни странно, не вздрогнул — он даже не подал виду, что хоть сколько-нибудь удивлен. Преподобный Льюис Меррил часто объявлял начальный гимн, после которого обычно читал свою молитву. Затем директор говорил нам несколько слов — еще он называл нам страницу с заключительным гимном, мы пели его, и на этом все заканчивалось.
Директору потребовалось несколько секунд, чтобы узнать мистера Меррила, стоящего перед сценой в своем бушлате и фуражке и глазеющего на статую, которая с мольбой взывала к нам с трибуны. Наш директор был из тех, кто брал на себя ответственность, — он ведь привык принимать решения, наш Рэнди Уайт. Увидев на трибуне это чудовище, он принял первое и, пожалуй, поистине «директорское» решение, которое пришло ему в голову; он решительно подошел к святой и ухватился за ее скромное облачение — он обвил ее руками за талию и попытался приподнять. По-моему, он в упор не замечал стальные ленты, опоясывающие ее бедра, и четырехдюймовые болты, проходившие сквозь ее ступни, с намертво приваренными под сценой гайками. Я подозреваю, его спина все еще побаливала после того впечатляющего усилия, которое от него потребовалось, чтобы сдвинуть «фольксваген» доктора Дольдера; но директору, видно, и на спину свою было наплевать. Он просто обхватил Марию Магдалину за пояс, крякнул — и ничего не вышло. Своротить Марию Магдалину и все то, что она собой олицетворяла, было не так просто, как «фольксваген».
— Думаете, это очень смешно, да? — спросил директор у собравшейся в полном составе школы. Однако никто и не думал смеяться. — Ну что ж, я скажу вам, что это такое, — снова заговорил Рэнди Уайт. — Это преступление. Это вандализм, это кража — и это кощунство! Это умышленная порча чужой, я бы даже сказал, священной собственности.
Один школьник крикнул:
— Какой гимн?
— Что ты сказал? — не понял Рэнди Уайт.
— Назовите номер гимна! — выкрикнул кто-то другой.
— Какой гимн? — в один голос загалдели еще несколько учеников.
Я не заметил, как преподобный мистер Меррил поднялся на сцену — надо полагать, на трясущихся ногах. Когда я обратил на него внимание, он уже стоял рядом с мученицей Марией Магдалиной.
— Гимн на странице триста восемьдесят восемь, — четко произнес пастор Меррил.
Директор сказал ему что-то резкое, но мы не расслышали, что именно, — мы как раз поднимались со своих мест, и в зале стоял скрип откидывающихся стульев и хлопанье и шелест книг. Я не знаю, что побудило мистера Меррила выбрать именно этот гимн. Если бы Оуэн рассказал мне о своем сне, возможно, выбор показался бы мне особенно зловещим; а так это был просто хорошо знакомый нам гимн — его выбирали часто, наверное, за его победный дух и за тему «странствий и борений», что так воодушевляет молодых людей.
- Господень Сын, сквозь огонь и дым
- Ты снова идешь на бой.
- Кровавое знамя над войском твоим,
- Но кто идет за тобой?
- Лишь тот, кто скорбную чашу пьет,
- Поправши и страх и боль,
- Кто ведает гнет,
- Кто крест свой несет,
- Кто утирает кровавый пот —
- Лишь тот идет за тобой[28].
Оуэн любил этот гимн, и мы грянули его во все горло; мы пели с гораздо большим чувством — и с большим вызовом, — чем обычно. Директору стоять было негде. Он расположился посредине сцены, но перед ним не было трибуны, отчего он казался беззащитным и неуверенным. По мере того как мы ревели строку за строкой, преподобный Льюис Меррил словно обретал спокойствие и даже достоинство. Хотя он и не выглядел совсем уж безмятежным рядом с обезглавленной Марией Магдалиной, он все же стоял к ней настолько близко, что свет, падающий на трибуну, освещал и его. Когда мы закончили, преподобный мистер Меррил сказал:
— Давайте помолимся. Давайте помолимся за Оуэна Мини.
В Большом зале повисла мертвая тишина, и мы, хотя и склонив головы, не сводили глаз с директора. Мы ждали, когда мистер Меррил начнет. Он, наверное, пытается начать и никак не может, подумал я; потом я понял: пастор, как всегда неловко, дал нам понять, что мы сами должны помолиться за Оуэна Мини. Он имел в виду, что мы должны произнести наши молитвы про себя, и, поскольку тишина все не прерывалась, стало ясно, что преподобный Льюис Меррил не собирается нас подгонять. Я думаю, он отнюдь не был храбрецом, но он старался вести себя храбро. Мы молились и молились, и, знай я тогда про сон Оуэна, я бы молился гораздо усерднее. Вдруг директор сказал:
— Ну хватит.
— Я п-п-прошу прощения, — заикаясь, возразил мистер Меррил, — но я сам скажу, когда хватит.
Я думаю, тогда-то мистер Уайт и понял, что проиграл; до него дошло: ему как директору пришел конец. В самом деле, что он мог? Приказать нам перестать молиться? Но мы продолжали стоять со склоненными головами и молились. При всей своей неловкости преподобный мистер Меррил ясно дал нам понять, что молитве об Оуэне Мини не может быть конца.
Спустя какое-то время Рэнди Уайт сошел со сцены. Ему хватило если не порядочности, то хотя бы ума уйти тихо — мы слышали его осторожные шаги по мраморной лестнице, а утренний ледок все еще не растаял, и мы слышали, как он хрустит у директора под ногами на дорожке, ведущей вдоль Главного корпуса. Когда его шаги перестали доноситься до нас сквозь тихую молитву об Оуэне Мини, пастор Меррил сказал: «Аминь».
Господи, сколько раз мне хотелось заново пережить те минуты. Тогда я не умел как следует молиться — я даже не верил в молитвы. Если бы мне сегодня довелось помолиться за Оуэна Мини, я мог бы сделать это гораздо лучше. Зная то, что я знаю сейчас, я сумел бы помолиться достаточно усердно.
Мне бы, конечно, помогло, если б я мог тогда заглянуть в его дневник Но он мне не предлагал — он вел дневник только для себя. Очень часто он писал на страницах дневника свое имя — свое полное имя — большими печатными буквами, в стиле, который он называл МОНУМЕНТАЛЬНЫМ или ГРЕЙВСЕНДСКИМ ШРИФТОМ. Снова и снова выводил он свое имя точно так, как увидел его на могиле Скруджа. Да, все верно — еще до всех этих договоров с Учебным корпусом офицеров запаса и даже до того, как его выгнали из школы и он узнал, что билет в университет ему оплатит армия США; все верно — еще до того, как он узнал, что завербуется в армию, он уже писал свое имя так, как обычно высекают имена на надгробиях.
1-Й Л-НТ ПОЛ О. МИНИ-МЛАДШИЙ
Вот так он писал свое имя; такую надпись Призрак Будущего увидел на могиле Скруджа. Эту надпись и еще дату — дата тоже встречалась в дневнике. Он писал эту дату в дневнике много, очень много раз, но никогда не говорил мне о ней. Может, мне удалось бы помочь ему, знай я эту дату. Оуэн верил, что знает, когда ему умереть; он также верил, что знает свое воинское звание — он умрет первым лейтенантом.
А после того сна он поверил, что знает еще больше. В его убежденности мне виделось что-то пугающее, как и в дневниковой записи о том сне.
ВЧЕРА МЕНЯ ВЫГНАЛИ ИЗ ШКОЛЫ. ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ МНЕ ПРИСНИЛСЯ СОН. ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ ЧЕТЫРЕ ВЕЩИ. Я ЗНАЮ, ЧТО МОЙ ГОЛОС НЕ ИЗМЕНИТСЯ — НО ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ. Я ЗНАЮ, ЧТО Я — ОРУДИЕ В РУКАХ БОГА Я ЗНАЮ, КОГДА УМРУ, — А ТЕПЕРЬ Я УВИДЕЛ ВО СНЕ, КАК Я УМРУ. Я УМРУ ГЕРОЕМ! Я ВЕРЮ, ЧТО БОГ ПОМОЖЕТ МНЕ, ВЕДЬ ТО, ЧТО Я ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ, КАЖЕТСЯ МНЕ ОЧЕНЬ ТРУДНЫМ.
8. Палец
Вплоть до лета 1962-го я изнывал от нетерпения, когда же я вырасту и со мной станут обращаться с почтением, положенным, как я воображал, всем взрослым и, безусловно, мне казалось, ими заслуженным; я никак не мог дождаться свободы и тех привилегий, которыми, я считал, наслаждаются взрослые. Вплоть до того лета мое долгое восхождение к зрелости казалось мне изнурительным и унизительным. Рэнди Уайт отобрал у меня поддельную повестку, и теперь я был еще слишком мал, чтобы купить себе пива. Я был еще слишком зависим, чтобы жить отдельно; я еще слишком мало зарабатывал, чтобы заиметь собственную машину, и ничего особенного не представлял собой, чтобы привлечь внимание женщин. Я до сих пор не соблазнил ни одной! Вплоть до лета 62 -года я воспринимал детские и подростковые годы как некое бесконечное чистилище; иными словами, юность казалась мне штукой довольно противной. Но Оуэн Мини, уверенный, что знает, когда и как ему предстоит умереть, вовсе не торопился вырасти. И в ответ на то, что я назвал наши молодые годы «чистилищем», Оуэн очень просто заметил:
— НЕТ НИКАКОГО ЧИСТИЛИЩА — ЭТО ВСЕ ВЫДУМКИ КАТОЛИКОВ. ЕСТЬ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ, ЕСТЬ НЕБЕСА — И ЕСТЬ АД.
— По-моему, жизнь на земле и есть ад, — заметил я.
— НАДЕЮСЬ, ТЫ ПРИЯТНО ПРОВОДИШЬ ЛЕТО, — ответил Оуэн.
Это было первое лето, которое мы провели порознь. Думаю, я должен быть благодарен тому лету: я впервые почувствовал, какой может быть моя жизнь без Оуэна — то лето, можно сказать, подготовило меня к такой жизни. К концу лета 62-го Оуэн Мини заставил меня бояться того, что станет следующим этапом моей жизни. Я уже не хотел взрослеть: чего теперь я хотел по-настоящему, так это чтобы мы с Оуэном до конца жизни оставались детьми, — каноник Мэки иногда довольно едко намекает, что я в этом преуспел. Каноник Кэмпбелл, упокой, Господи, его душу, всегда говорил мне, что мое стремление остаться ребенком до конца жизни — вполне достойное.
Лето 62-го я провел в Сойере, работая у дяди Алфреда. После истории с Оуэном я больше не хотел связываться с приемной комиссией Грейвсендской академии и водить по школе экскурсии. Деревообрабатывающая компания «Истмэн Ламбер» предложила мне хорошую работу. Вкалывать приходилось до седьмого пота, на открытом воздухе, но зато я все время был вместе с Ноем и Саймоном, и мы почти каждый вечер устраивали на Нелюбимом озере пикники. А еще мы почти ежедневно после работы и по выходным купались и катались на водных лыжах Дядя Алфред и тетя Марта радушно приняли меня в своем доме; они отдали мне на лето комнату Хестер. Хестер и на каникулах оставляла за собой даремскую квартиру и работала официанткой в одном из прибрежных «устричных баров» — не то в Киттери, не то в Портсмуте. После работы они с Оуэном выезжали на красном пикапе и курсировали вдоль набережной по Хэмптон-Бич — нашему маленькому местному «лас-вегасу». Соседки Хестер разъехались на лето, и Хестер с Оуэном ночевали в даремской квартире одни. Они «жили вместе как муж и жена», как холодно и неодобрительно выражалась тетя Марта, когда об этом заходил разговор, — впрочем, заходил он редко.
Несмотря на то что Оуэн с Хестер жили вместе как муж и жена, ни я, ни Ной с Саймоном так никогда и не узнали наверняка, действительно ли они занимаются «этим». Саймон был уверен, что Хестер без «этого» вообще жить не может; Ною почему-то казалось, что раньше Оуэн с Хестер этим и вправду занимались, но потом по какой-то причине перестали. Меня же не покидало странное чувство, что между ними может происходить все, что угодно: возможно, они занимались и продолжают заниматься этим напропалую; а возможно, они никогда не занимались этим, но занимаются чем-то похуже — или, наоборот, получше, — и на самом деле (не важно, занимались они этим или нет) их связывает нечто гораздо более страстное и печальное, чем секс. Я чувствовал себя оторванным от Оуэна — я работал с деревом и дышал прохладным северным воздухом, наполненным ароматами леса; он же работал с гранитом под палящим солнцем в открытом карьере и вдыхал каменную пыль и запах динамита.
Цепные пилы тогда еще только входили в обиход. В компании «Истмэн» их уже использовали при заготовке леса, но очень избирательно — они были тяжелыми и громоздкими, ничуть не похожими на те легкие и мощные, которыми работают сегодня. В те дни мы вывозили бревна из леса на конных повозках или на гусеничном тракторе, древесину чаще всего разделывали поперечными пилами и топорами и грузили вручную, с помощью багров и кондаков. В наши дни, как показали мне Ной с Саймоном, вовсю используют автопогрузчики, трелевочные тракторы и рубительные машины. Изменилась даже пилорама: теперь совсем не остается опилок! В 62-м мы на лесопилке ошкуривали бревна и распиливали их на заготовки разных размеров и сортов, и вся кора и опилки пропадали зря. А сейчас Ной и Саймон называют эти отходы не иначе как «горючим сырьем» или даже «источником энергии» — и используют его для выработки собственного электричества!
— Видишь, какой прогресс? — не устает повторять Саймон.
Теперь мы уже взрослые, — когда-то мы так торопились ими стать. Теперь мы можем пить пиво сколько влезет и никто не спрашивает у нас документы, подтверждающие возраст. Ной с Саймоном обзавелись собственными домами, у них жены и дети, и они замечательно ухаживают за старенькими дядей Алфредом и тетей Мартой, которая до сих пор остается очаровательной женщиной, хотя и совсем седой. Она сейчас очень похожа на бабушку, какой та была летом 62-го.
Дяде Алфреду сделали две операции на сердце, но он по-прежнему держится молодцом. Собственная деревообрабатывающая компания обеспечила им с тетей Мартой долгую и счастливую жизнь. Тетино давнее любопытство насчет того, кто был или есть мой настоящий отец, прорывается лишь временами. В прошлое Рождество в Сойере она ухитрилась буквально на секунду остаться со мной с глазу на глаз и спросить:
— Неужели ты до сих пор не знаешь? Ну мне-то ты можешь сказать. Да нет, спорим, ты знаешь! Не мог же ты, в самом деле, не узнать хоть что-нибудь за столько времени!
Я приложил палец к губам, словно хотел сообщить ей кое-что, не предназначенное для ушей дяди Алфреда, Дэна, Ноя или Саймона. Тетя Марта тут же встрепенулась, глаза у нее заблестели, а губы расплылись в шаловливой заговорщической улыбке.
— Дэн Нидэм — это такой отец, о котором любой мальчишка может только мечтать, — шепнул я ей на ухо.
— Да я знаю, знаю, Дэн — замечательный, — нетерпеливо произнесла тетя Марта. Это было вовсе не то, что она хотела услышать.
О чем же мы до сих пор говорим с Ноем и Саймоном — через столько лет? О том, что «знал» — или думал, что знает, — Оуэн; а еще мы говорим о Хестер. Мы, видно, и в могилах будем разговаривать о Хестер!
— Похотливая Самка! — качает головой Саймон.
— Кто мог подумать, что такое вообще возможно? — недоумевает Ной.
И каждое Рождество дядя Алфред или тетя Марта неизменно повторяют:
— Будем надеяться, в следующее Рождество Хестер уж точно приедет домой — она же обещала.
А Ной или Саймон отвечают:
— Да она всю жизнь это обещает.
Мне кажется, Хестер — единственное несчастье в жизни моих дяди и тети. Я чувствовал это даже летом 62-го. Они относились к ней не так, как к Ною с Саймоном, и она заставила их за это расплачиваться. О, как они ее разозлили! Эту злость она унесла с собой из Сойера и потом повсюду находила, что подбросить в топку своей невероятной злости.
Я не думаю, что Оуэн тоже злился — нет, вряд ли. Но их прочно объединяло ощущение некоей незаслуженной участи; их окутывало облако несправедливости. Оуэн верил, что Бог поручил ему роль, которую сам он не в силах изменить. Ощущение собственной обреченности, вера в свою исключительную миссию — все это напрочь лишило его способности радоваться. Летом 62-го ему было всего двадцать лет, но с той минуты, как ему сказали, что Кеннеди трахается с Мэрилин Монро, Оуэн перестал делать что бы то ни было ради удовольствия. Хестер просто озверела; ей стало на все наплевать. Что и говорить, веселенькая парочка!
Зато дядя Алфред и тетя Марта летом 62-го казались мне идеальной парой. И все-таки для меня в их счастье было что-то гнетущее. Оно напоминало мне о том недолгом времени, когда Дэн с мамой были вместе, и о том, как они тоже были счастливы.
В то лето мне никак не удавалось найти себе подружку. Ной с Саймоном делали для меня все, что только могли. Они перезнакомили меня со всеми девчонками на Нелюбимом озере. Это лето запомнилось мне мокрыми купальниками, которые сушились на антенне машины Ноя, и самым сексуальным моим переживанием был вид разнообразных женских купальных трусиков, что хлопали на ветру, со свистом обдувающем машину Ноя. Это был черно-белый «шевроле» с откидным верхом, 1957 года выпуска, из тех, что с задними крыльями в виде плавников. Ной разрешал мне ездить на нем в автомобильный кинотеатр, когда мне удавалось пригласить кого-нибудь на свидание.
— Как кино? — спрашивал меня Ной всякий раз, когда я возвращал машину домой — и всегда слишком, слишком рано.
— По нему видно, не пропустил ни одного кадра, — говорил Саймон, и это была правда. Я не пропускал ни одного кадра ни в одном фильме, какую бы девушку с собой ни брал. Хуже того: Ной с Саймоном бессчетное количество раз давали мне возможность побыть наедине с девушками в истмэновском эллинге. Об этом эллинге пошла слава, будто он по ночам превращается в дом свиданий, но самое большее, на что я решался, — это весь вечер метать со своей очередной знакомой дротики в мишень или сидеть на деревянной пристани и безмолвно созерцать далекие и безжалостные звезды, пока в конце концов не приедет Ной или Саймон и не избавит нас от мучительной неловкости.
Я начал чувствовать страх — и не мог найти ему никакого объяснения.
Залив Джорджиан-Бей, 25 июля 1987 года — жаль, что на станций Пуэнт-о-Бариль продаются «Глоб энд мейл» и «Торонто стар»; но слава богу, туда хоть не доставляют «Нью-Йорк таймс»! Остров в заливе Джорджиан-Бей, который принадлежит семейству Кэтрин Килинг с 1933 года (именно тогда дедушка Кэтрин якобы выиграл его в покер), находится примерно в пятнадцати минутах езды на катере от станции Пуэнт-о-Бариль. Остров лежит поблизости от Горелого острова, острова Изобилия и местечка Писэй-Пойнт. По-моему, он зовется то ли островом Гибсон, то ли островом Ормсби — в родне у Кэтрин есть и Гибсоны и Ормсби. По-моему даже, Гибсон.— это девичья фамилия Кэтрин, хотя точно не помню.
Как бы то ни было, на острове есть несколько домиков из кедровых бревен; сюда не проведено электричество, но зато налажено бесперебойное снабжение газом в баллонах: холодильники, нагреватели для воды, печи и лампы — все это работает на пропане. Баллоны возят сюда на катерах. На острове есть собственная канализация, из-за которой часто возникают споры между племенами Килингов, Гибсонов и Ормсби: все пользуются ею и боятся, как бы в один незабываемый день система не взбунтовалась.
Не хотел бы я приехать на остров к Килингам — а равно и к Гибсонам, и к Ормсби — до того, как здесь оборудовали канализацию. Но воспоминания о встречах с пауками в темноте сортира и о всяких других ужасах, связанных с его ночными обитателями, — это еще один излюбленный сюжет у многочисленных островитян. Я не раз слышал историю про дядю Булвера Ормсби: на него однажды напала сова в сортире, который стоял без дверей — «зато так он лучше проветривался», в один голос уверяют и Килинги, и Гибсоны, и Ормсби. Сова клюнула дядю Булвера прямо в макушку в тот блаженный момент, когда он предавался самому интимному человеческому занятию. Нападение совы до того испугало дядю, что он пулей вылетел из сортира со спущенными штанами и пострадал еще больше, чем от совы, ударившись в темноте головой о сосну.
И каждый год, что я приезжаю на остров, здесь ведутся знакомые споры насчет того, что это была за сова — и сова ли вообще. Чарли Килинг, муж Кэтрин, говорит, что это, скорее всего, был слепень или ночная бабочка. Другие утверждают, что дядю, конечно, клюнула сипуха — ведь сипухи так яростно защищают свои гнезда, что могут напасть и на человека. Третьи говорят, что в заливе Джорджиан-Бей сипухи не водятся и что это, разумеется, был кречет или дербник; эти птицы очень агрессивны, и ночью их вполне можно спутать с небольшой совой.
Мне уютно в кругу большой и дружной семьи Кэтрин. Разговоры в основном сводятся к воспоминаниям о легендарных происшествиях на острове, многие из которых отмечены проявлениями храбрости или трусости и относятся к эпохе старого сортира. Другая обсуждаемая тема — встреча с дикими животными; я с удовольствием учусь узнавать разных птиц, млекопитающих, рыб, пресмыкающихся и, к сожалению, насекомых — в которых почти не разбираюсь.
Кто это был — выдра, норка или ондатра? А это — гагара, утка или синьга? Оно жалит или кусается? Ядовитое оно или нет? Все эти разговоры о тонких различиях в животном мире перемежаются конкретными вопросами к детям. Ты спустил воду, выключил газ, закрыл дверь сеткой? Ты что, забыл завернуть кран (водяной насос работает от бензинового двигателя)? Ты повесил сушиться плавки и полотенце? Все это напоминает мне о днях, проведенных на Нелюбимом озере — только здесь нет всех этих мучений с девушками; кроме того, по сравнению с заливом Джорджиан-Бей Нелюбимое озеро — просто грязная лужа. Даже летом 62-го Нелюбимое озеро кишмя кишело моторными лодками, да еще в те дни многие владельцы летних домиков сбрасывали канализационные стоки прямо в озеро. Так называемая нетронутая природа здесь, в Канаде, куда величественней и прекрасней, чем в Нью-Хэмпшире во времена моего детства. И все же сосновая смола, прилипшая к пальцам, она везде одна и та же; и ребятишки, бегающие весь день с мокрыми волосами, их постоянно влажные плавки, и сбитые коленки, и занозы, и шлепанье босых ног по доскам причала, и ссоры, вечные детские ссоры… Как я люблю все это; как это умиротворяет — пусть ненадолго. Мне даже удается вообразить, будто жизнь у меня была совсем не такая, как на самом деле.
Благодаря тонким перегородкам летних домиков иногда можно узнать много интересного. Я, например, однажды услышал, как Чарли Килинг сказал Кэтрин, что я — «непрактикующий гомосексуалист».
— Что это еще такое? — удивилась Кэтрин.
Я затаил дыхание и напряг слух — что ответит Чарли: вот уже много лет я пытаюсь понять, что же это значит — быть «непрактикующим гомосексуалистом».
— Ну, ты же прекрасно понимаешь, что я имею в виду, Кэтрин, — сказал Чарли.
— Ты имеешь в виду, что он ни с кем «этим» не занимается, — предположила Кэтрин.
— Да, пожалуй, — ответил Чарли.
— Но когда он думает об «этом», то представляет себя с мужчиной, так? — продолжала Кэтрин.
— По-моему, он вообще об этом не думает, — ответил Чарли.
— С какой стати тогда он гомосексуалист, а, Чарли? — не поняла Кэтрин.
Чарли вздохнул; в летних домиках слышно даже, как вздыхают за стенкой.
— Он ведь совсем не урод, — отвечал он. — А девушки у него нет. Была у него вообще хоть когда-нибудь девушка?
— Не могу взять в толк, почему он после этого должен считаться гомиком, — сказала Кэтрин. — Он не похож на гомика. По крайней мере, мне так кажется.
— Я же не говорю, что он гомик, — возразил Чарли. — Просто непрактикующий гомосексуалист не всегда знает, кто он есть на самом деле.
— Так вот что такое — «непрактикующий гомосексуалист», подумал я, — это человек, не знающий, кто он на самом деле!
Каждый день обсуждается вопрос, что мы будем есть и кто съездит на лодке на станцию за продуктами и разными припасами. Список покупок включает лишь самое необходимое:
Бензин
Батарейки
Лейкопластырь
крупа (на усмотрение)
средство от комаров
гамбургеры (побольше)
яйца
молоко
мука
масло
пиво (побольше)
фрукты (на усмотрение)
бекон
помидоры
бельевые прищепки (для Пруди)
лимоны
мотыль для наживки.
Я уступаю детишкам помладше, когда они хотят показать мне, как научились управлять лодкой. Я уступаю Чарли Килингу, когда он приглашает меня с собой на рыбалку; мне и вправду нравится ловить маленьких окуньков — раз в год. Я предлагаю свою помощь там, где идет самый неотложный ремонт: Ормсби хотят перестроить крыльцо, Гибсоны перестилают крышу эллинга.
Каждый день я добровольно вызываюсь съездить на станцию. Закупать запасы для большой семьи — это радость, такая недолгая. Я беру с собой одного-двух ребятишек — я-то ведь не умею получать такое удовольствие от управления лодкой. А еще в моей комнате всегда живет кто-нибудь из детей Килингов, — вернее сказать, это я живу в комнате у ребенка. Я засыпаю, прислушиваясь, как он странно-тяжело сопит во сне; я прислушиваюсь, как из темной воды выкрикивает гагара, как о прибрежные камни плещутся волны. А поутру, задолго до того, как этот ребенок начнет потягиваться в своей кровати, я слушаю чаек и вспоминаю красный пикап, курсирующий по набережной между Хэмптон-Бич и гаванью Рай-Харбор. Я слушаю хриплых, в любой момент готовых к драке ворон, чьи отчаянные ссоры напоминают мне, что я проснулся в подлинном мире, в мире, который мне теперь уже хорошо знаком.
Но на какое-то мгновение, до того как вороны начнут свои яростные препирательства, я могу вообразить, будто здесь, в Джорджиан-Бей, я нашел то, что некогда назвали Новым Светом, — что я снова набрел на нетронутую землю, которую Ватахантауэт потом продал моему предку. Тут, на озере, и вправду легко представить Северную Америку, какой она была раньше — пока Соединенные Штаты не изгадили все своим подлым враньем и бездушной беспечностью.
Затем я слышу ворон. Своим карканьем они возвращают меня к реальности. Я пытаюсь не думать об Оуэне. Я пытаюсь поговорить с Чарли Килингом о выдрах.
— У них длинный сплюснутый хвост — он лежит на поверхности воды, — объясняет мне Чарли.
— Понятно, — отвечаю я.
Мы сидели на камнях у самого берега, в том месте, где, как уверял кто-то из детишек, он видел ондатру.
— Это была выдра, — сказал Чарли ребенку.
— Но ты же не видел, папа, — отозвался другой ребенок.
И вот мы с Чарли решили подождать, пока это создание не покажется из воды. Множество пустых раковинок у камней на берегу выдавали вход в нору животного.
— Выдра плавает гораздо быстрее, чем ондатра, — объяснил мне Чарли.
— Понятно, — отозвался я.
Мы сидели час или два, и Чарли рассказывал мне, как меняется уровень воды в заливе Джорджиан-Бей и во всем озере Гурон; он меняется с каждым годом. Чарли сказал, что переживает, как бы кислотные дожди — из Соединенных Штатов — не загубили озеро; по его словам, процесс уже начинается, — как всегда, с самых нижних звеньев пищевой цепочки.
— Понятно, — сказал я.
— Водоросли изменились, вся водная растительность изменилась, теперь уже не поймаешь щуку, как раньше, — а ведь одна выдра не могла убить всех этих моллюсков! — сказал он, указывая на раковины.
— Понял, — откликаюсь я.
Потом, пока Чарли ходил пописать — «в кустики», как говорят канадцы, — от берега отплыл какой-то зверь размером с небольшую гончую собаку с приплюснутой головой и темно-бурым мехом.
— Чарли! — крикнул я.
Животное нырнуло и больше не появилось на поверхности. Кто-то из детишек тут же оказался рядом со мной.
— Что это было? — спросил ребенок.
— Не знаю, — ответил я.
— У него был сплющенный хвост? — крикнул Чарли из кустов.
— У него была сплющенная голова, — ответил я.
— Это ондатра, — сказал кто-то из ребятишек.






