Если бы не генералы! Мухин Юрий
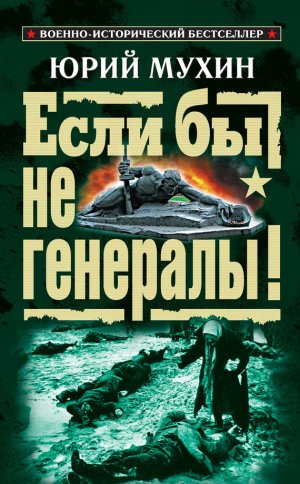
Поражение в Керчи было досадным и несло за собой тяжелые последствия для Севастополя. Поэтому Ставка отнеслась к этому чрезвычайно строго. В своей директиве от 4 июня 1942 года она указывала: «Основная причина провала Керченской операции заключается в том, что командование фронта — Козлов, Шаманин, Вечный, представитель Ставки Мехлис, командующие армиями фронта, и особенно 44-й армии — генерал-лейтенант Черняк и 47-й армии — генерал-майор Колганов, обнаружили полное непонимание природы современной войны…». Далее конкретно указывалось, в чем это выразилось. Командование Крымского фронта растянуло дивизии в одну линию, не считаясь с открытым равнинным характером местности, вплотную пододвинуло всю пехоту и артиллерию к противнику; вторых и третьих эшелонов, не говоря уже о резервах в глубине, не было создано, а потому после прорыва противником линии фронта командование не сумело противопоставить достаточные силы врагу, своевременно задержать его наступление, а затем и ликвидировать прорыв. Командование фронта в первые же часы наступления противника выпустило из рук управление войсками, ибо первым же налетом авиация врага разбомбила хорошо известные ей и длительное время не сменявшиеся командные пункты фронта и армий, нарушила проволочную связь, расстроила узлы связи. По преступной халатности штаба фронта о радиосвязи и других средствах связи забыли. Командование фронта не организовало взаимодействия армий и совершенно не обеспечило взаимодействия наземных сил с авиацией фронта. Отвод войск происходил неорганизованно.
В директиве давался анализ тактики врага, совершенно не разгаданной командованием фронта. «Противник, нанося главный удар против левого фланга фронта, — говорилось в ней, — сознательно вел себя пассивно против правого нашего фланга, будучи прямо заинтересован в том, чтобы наши войска на этом фланге оставались на своих позициях, и рассчитывая нанести им удар с выходом своей ударной группировки на тылы наших войск, остававшихся в бездействии на правом фланге. Когда же на второй день после начала наступления противника, учитывая обстановку, сложившуюся на Крымском фронте, и видя беспомощность командования фронта, Ставка приказала планомерно отвести армии фронта на позиции Турецкого вала, командование фронта и т. Мехлис своевременно не обеспечили выполнение приказа Ставки, начали отвод с опозданием на двое суток, причем отвод происходил неорганизованно и беспорядочно. Командование фронта не обеспечило выделения достаточных арьергардов, не установило этапов отхода, не наметило промежуточных рубежей отвода и не прикрыло подхода войск к Турецкому валу заблаговременной выброской на этот рубеж передовых частей».
Ставка резко осудила метод руководства войсками со стороны командования фронта и Л.3. Мехлиса. Называя этот метод бюрократическим и бумажным, Ставка считала его второй причиной неудач наших войск на Керченском полуострове.
«Тт. Козлов и Мехлис считали, что главная их задача состояла в отдаче приказа и что изданием приказа заканчивается их обязанность по руководству войсками. Они не поняли того, что издание приказа является только началом работы и что главная задача командования состоит в обеспечении выполнения приказа, в доведении приказа до войск, в организации помощи войскам по выполнению приказа командования. Как показал разбор хода операции, командование фронта отдавало свои приказы без учета обстановки на фронте, не зная истинного положения войск. Командование фронта не обеспечило даже доставки своих приказов в армии». Такой факт имел место с приказом для 51-й армии, ей было приказано прикрыть отвод всех сил фронта на Турецкий вал. Однако приказ даже не был доставлен командарму. «В критические дни операции командование Крымского фронта и т. Мехлис, вместо личного общения с командующими армиями и вместо личного воздействия на ход операции, проводили время на многочасовых бесплодных заседаниях военного совета».
Третьей причиной неуспехов на Керченском полуострове Ставка считала недисциплинированность Козлова и Мехлиса, которые нарушили указание Ставки и не обеспечили его выполнения, не обеспечили своевременный отвод войск за Турецкий вал. Опоздание на два дня с отводом войск явилось гибельным для исхода всей операции. Ставка строго взыскала с виновных, сняла их с занимаемых постов, снизила в воинских званиях. Ставка потребовала от командующих и военных советов всех фронтов и армий, чтобы они извлекли уроки из этих ошибок:
«Задача заключается в том, чтобы наш командный состав по-настоящему усвоил природу современной войны, понял необходимость глубокого эшелонирования войск и выделения резервов, понял значение организации взаимодействия всех родов войск, и особенно взаимодействия наземных сил с авиацией. Задача заключается в том, чтобы наш командный состав решительно покончил с порочными методами бюрократическо-бумажного руководства и управления войсками, не ограничивался отдачей приказов, а бывал почаще в войсках, в армиях, дивизиях и помогал своим подчиненным в деле выполнения приказов командования. Задача заключается в том, чтобы наш командный состав, комиссары и политработники до конца выкорчевали элементы недисциплинированности в среде больших и малых командиров».
Потеря Керченского полуострова поставила в исключительно тяжелое положение наши войска, защищавшие Севастопольский оборонительный район. Против них теперь были повернуты все силы 11-й немецкой армии. 250 огненных дней и ночей продолжалась оборона героического города. В начале июля 1942 года, когда выяснилось, что третье наступление врага отразить не удастся, часть защитников Севастополя была эвакуирована на Черноморское побережье Кавказа. Но на берегу оставалось еще немало бойцов, которые продолжали самоотверженную борьбу вплоть до 9 июля. Отдельные подразделения ушли к крымским партизанам и продолжали там борьбу. Военная обстановка на южном крыле советско-германского фронта изменилась в пользу врага после овладения им Крымом».
Почувствовали разницу в описании операций той войны? О Крыме Василевский чуть ли не диссертацию написал. Оказывается, Ставка, если верить Василевскому, раньше не изучала причины провала операций по отводу 2-й ударной армии и по ликвидации Демянской группировки немцев, то тут опомнилась, всё изучила и нашла виноватого — представителя Ставки Л.З. Мехлиса.
Мехлис, оказывается, не сделал то, Мехлис не сделал сё, короче — один Мехлис виноват, потому что не слушал мудрых указаний московского полководца Василевского по отводу войск за Турецкий вал.
Давайте об этом. Немцы начали громить Крымский фронт 8 мая 1942 года, приказ Ставки, исполненный и.о. начальника Генштаба Василевским, был послан Крымфронту 9 мая, а немцы захватили Турецкий вал 10 мая. Так кто начал «отвод с опозданием на двое суток» — Мехлис или Василевский? В своей директиве, анализирующей разгром Крымфронта, Ставка, как вы прочли выше, совершенно правильно учит: «…издание приказа является только началом работы и что главная задача командования состоит в обеспечении выполнения приказа, в доведении приказа до войск, в организации помощи войскам…». Согласно этим нудным указаниям, чтобы выполнить приказ Ставки по отводу войск за Турецкий вал, Мехлису и Козлову нужно было выехать в войска, но Василевский в пункт 7 этого приказа вписал: «Решительно возражаем против выезда Козлова и Мехлиса в группу Львова» — туда, откуда Крымфронт должен был нанести контрудар по немцам. Однако, как видите, «анализируя» причины поражения Крымфронта, Ставка глубокомысленно назвала метод руководства Мехлиса «бюрократическим и бумажным». А из Москвы, за две тысячи километров указывать командующему фронтом в разгар сражения, где тому находиться, — это не бюрократия?
Бросающаяся в глаза ненависть
В любом случае, уже по объёму цитаты, в которой Василевский делает всё, чтобы обгадить Мехлиса, видно, что маршал Василевский Мехлиса, мягко скажем, очень не любил. И именно поэтому Василевский так мало написал о крупнейшем после Московской битвы сражении 1941 года — о Тихвинских оборонительной и наступательной операциях. Ведь представителем Ставки в этом успешном для РККА сражении был Мехлис, и, что интересно, он организовал победу над немцами как раз в лесисто-болотистой местности. Но об этом позже.
Сведения о Льве Захаровиче Мехлисе мне, к сожалению, придётся брать из книги Юрия Рубцова «Alter ego Сталина». К сожалению потому, что автор о себе радостно пишет: «Лет десять назад, в конце 80-х, оценки героя книги были бы, безусловно, не столь жёсткими. Не потому, конечно, что автор отличается повышенным конформизмом. Просто все мы за эти минувшие годы необычайно выросли, раздвинули собственные горизонты. Невозможно не ощутить на себе благотворное влияние заметного роста политической культуры общества, приобщения к демократическим ценностям — свободе выражения мысли, отсутствию идеологического прессинга, разномыслию — в противовес бытовавшему у нас единогласию, единодушию и единомыслию».
Опыт мне подсказывает, что читать умствования лица, «приобщённого к демократическим ценностям», глупо, но «за эти минувшие годы» перед лицами, которые «необычайно выросли, раздвинули собственные горизонты», раскрылись двери архивов, и Ю. Рубцов цитирует очень много документов о Л.З. Мехлисе, в связи с чем эти документы стали доступны осмыслению и без его помощи.
Так вот, как явствует из различных фактов, собранных Рубцовым, Мехлиса явно ненавидели большинство из тех, кто входит в стандартный набор «прославленных полководцев» РККА. Точно так же, как и Василевский, Мехлиса не любил маршал Жуков (хотя я не встречал, подчеркну это, никаких упоминаний о том, что Мехлис имел хоть малейшие конфликты с ними обоими). В противном случае нельзя объяснить, почему Жуков в своих мемуарах включил Мехлиса в эпизод, в котором маршал доблестно врёт читателям о причинах своего снятия с должности начальника Генштаба РККА.
Такое же, к примеру, отношение к Мехлису маршала Конева. «Вот что, например, рассказал в 1965 году Маршал Советского Союза Конев писателю Константину Симонову. При назначении на Степной фронт Сталин вдруг заинтересовался, как Иван Степанович оценивает тогдашнего начальника штаба фронта генерала М.В. Захарова. Конев положительно отозвался о Захарове, его поддержал и присутствовавший при разговоре маршал Жуков. «Тогда Сталин расхохотался, — продолжал рассказ И.С. Конев, — и говорит:
— Ну вот, видите, какие мнения — высоко оцениваете его, хороший начальник штаба, а Мехлис поставил вопрос о его снятии, о том, что он ему не доверяет.
Так… я узнал, — заметил маршал, — ещё об одном очередном художестве Мехлиса».
В связи с этим интересно, знал ли Сталин о художестве самого Конева, ведь Конев вынужден был бить морду своему начальнику штаба, будущему маршалу М.В. Захарову. О нравах штаба Конева вспоминает генерал-полковник Г.Ф. Байдуков, командовавший авиадивизией в составе Калининского фронта: «…вызвали на Военный совет фронта. Прибыли. Из избы выходит Матвей Захаров, начальник штаба, будущий маршал Советского Союза, вытирает кровь из носа: «Ударил, сволочь!». Так что Мехлис, может быть, и не сильно ошибался, не веря в этого полководца с битой мордой, но в данном случае характерно не это, а, казалось бы, немотивированная неприязнь Конева к Мехлису.
А вот Рубцов приводит воспоминания главного снабженца советских солдат, Начальника Тыла Красной Армии, генерала А.В. Хрулева. «Хрулев приводит пример, когда на одном из совещаний с участием командующих и членов ВС фронтов Сталин задал вопрос, есть ли у кого претензии к материальному обеспечению? Промолчали все. «Только Мехлис сказал, — вспоминает мемуарист, — что тыл очень плохо работает, не обеспечивает войска полностью продуктами…». Гневный Сталин тут же вызвал на совещание Хрулева, предложил объясниться. Начальник тыла осмелился поинтересоваться, кто жалуется и на что? «А как вы сами думаете?», — последовал встречный вопрос.
Хрулев пишет далее: «Отвечаю: «Скорее всего, это Мехлис». Как только я произнёс эти слова, в кабинете раздался взрыв хохота». Он ещё более усилился, когда по требованию Верховного Главнокомандующего Мехлис изложил суть претензий: «Вы всё время нам не отпускаете лавровый лист, уксус, перец, горчицу». Тут и Сталину стала ясна вздорность претензий Льва Захаровича».
Что-то я в данном случае не верю в эту байку Хрулева ни на копейку. Даже при подготовке Берлинской операции Сталин не вызывал к себе Рокоссовского, Жукова и Конева одновременно и, тем более, с членами Военных советов — ведь это же означало бы, что Сталин обезглавил бы сразу три фронта. Так что это «одно из совещаний» — выдумка Хрулева.
Надо понять, что Мехлис очень портил жизнь Хрулеву такими телеграммами: «…проверив положение в 4-й армии, Мехлис телеграфирует 4 января начальнику тыла Красной Армии генералу Хрулеву: «Положение с продфуражом нетерпимое. На 2-е января по данным управления тыла в частях и на складах армии мяса — 0, овощей — 0, консервов — 0, сухарей — 0… Кое-где хлеба выдают по 200 грамм… Что здесь — безрукость или сознательная вражеская работа?». И уж лучше бы Хрулев в качестве примера привёл именно это требование Мехлиса, поскольку примером с уксусом и перцем он выставил себя некомпетентным идиотом.
Дело в том, что основной пищей солдата являются мучные продукты, как наиболее калорийные, и мясо. Но это пресные продукты, и без кислоты и специй они очень быстро начинают плохо усваиваться организмом, они приедаются. В мирной жизни необходимое количество кислот мы получаем из овощей, особенно квашенных, Запад — с сухим вином. Но за войсками не потащишь бочки с квашеной капустой и солёными огурцами, во время войны такие деликатесы ели только наши прославленные полководцы. А как быть с солдатской потребностью в пищевой кислоте, с тем, чтобы хлеб и каша ему не приедались?
Начиная с Петра I, очень долгое время царь обязан был поставлять солдатам только хлеб и крупу, грубо — около килограмма хлеба в пересчёте на муку и 100 грамм крупы в сутки. На остальное давались деньги, и солдаты артелью закупали овощи, мясо и прочее. В мирное время они сами сажали огороды. Но уже с 1846 года к обязательной выдаче солдатам подлежали: 22 грамма соли, 1 грамм перца и 62 грамма уксуса в сутки. А во флоте, в плавании, уксуса давалось полбутылки в сутки на матроса.
В пятом издании «Справочной книжки для офицеров», отпечатанной в 1913 году, в разделе «Продовольствие в военное время» чёрным по белому вписано: «2) Сверх всего этого командирами корпусов и равными по власти может быть для сохранения здоровья людей отпущено (в расчёте на сутки и в пересчёте на граммы): уксуса — 62 грамма; лимонной кислоты — 1 грамм».
Вот и смотрите: политический комиссар Мехлис это знает, а тот полководец, кто за снабжение солдат Красной Армии едой получал деньги и ордена, — и после войны «не в курсе дела».
Интересно и другое. Мехлис до мая 1942 года был на фронтах представителем Ставки Верховного главнокомандования, но ведь и полководцы Василевский с Жуковым тоже были в этих же должностях. Что же это они не испытывают по отношению к Мехлису хотя бы профессиональной солидарности?
Представители Ставки
Давайте немного о представителях Ставки. Дело в том, что все они после войны возглавили Советскую Армию, а бывшие командующие фронтами были у них в подчинении. Посему командующему фронтом нужно было иметь определённое мужество, чтобы в своих мемуарах рассказать то, что он к этим представителям испытывал во время войны. Я такое мужество встретил только у маршала Рокоссовского, да и то, эту часть его воспоминаний цензура вырезала. А он писал.
«Зачем же Ставка опять начала применять то же, но под другим названием — представитель Ставки по координированию действий двух фронтов? Такой представитель, находясь при командующем одним из фронтов, чаще всего, вмешиваясь в действия комфронтом, подменял его. Вместе с тем за положение дел он не нес никакой ответственности, полностью возлагавшейся на командующего фронтом, который часто получал разноречивые распоряжения по одному и тому же вопросу: из Ставки — одно, а от ее представителя — другое. Последний же, находясь в качестве координатора при одном из фронтов, проявлял, естественно, большую заинтересованность в том, чтобы как можно больше сил и средств стянуть туда, где находился сам. Это чаще всего делалось в ущерб другим фронтам, на долю которых выпадало проведение не менее сложных операций. Помимо этого, уже одно присутствие представителя Ставки, тем более заместителя Верховного Главнокомандующего, при командующем фронтом ограничивало инициативу, связывала комфронтом, как говорится, по рукам и ногам. Вместе с тем появлялся повод думать о некотором недоверии к командующему фронтом со стороны Ставки ВГК.
…Подводя некоторые итоги оборонительного сражения на Курской дуге войск Центрального фронта, мне хочется отметить характерные моменты, о которых я и раньше упоминал, поскольку считаю их принципиальными и они меня всегда беспокоили. Первый из них — роль представителей Ставки. У нас был Г.К. Жуков. Прибыл он к нам вечером накануне битвы, ознакомился с обстановкой. Когда зашел вопрос об открытии артиллерийской контрподготовки, он поступил правильно, поручив решение этого вопроса командующему фронтом.
Утром 5 июля, в разгар развернувшегося уже сражения, он доложил Сталину о том, что командующий фронтом управляет войсками твердо и уверенно, и попросил разрешения убыть в другое место. Получив разрешение, тут же от нас уехал.
Был здесь представитель Ставки или не было бы его — от этого ничего не изменилось, а, возможно, даже ухудшилось. К примеру, я уверен, что если бы он находился в Москве, то направляемую к нам 27-ю армию генерала С.Т. Трофименко не стали бы передавать Воронежскому фронту, значительно осложнив тем самым наше положение.
К этому времени у меня сложилось твердое убеждение, что ему, как заместителю Верховного Главнокомандующего, полезнее было бы находиться в Ставке ВГК». Короче, сидел бы ты лучше в Москве, полководец Жуков!
Что-то мне подсказывает, что такое же отношение к представителям Ставки было у всех командующих фронтами, — лучше бы они все сидели в Москве! И подсказывает вот почему. Почти все эти представители написали мемуары, и ни один из них не вспомнил случая, чтобы какой-то командующий фронтом просил Сталина задержать этого представителя Ставки у него на фронте. Хотя бы на час. Если бы такое было, то эти представители вспомнили бы об этом обязательно. Как мне кажется, как только представитель Ставки, сытно поев и выпив на посошок, садился в машину, командующий фронтом вместе со штабом радостно крестились.
Так вот, Мехлис в конце Тихвинской наступательной операции оказался представителем Ставки и на только что образованном Волховском фронте, которым командовал тогда генерал Мерецков. Характеризуя Мехлиса, уже маршал Мерецков, казалось бы, и хочет сказать о нём правду, но в то же время вынужден его обгадить: «Это был человек честный, смелый, но склонный к подозрительности и очень грубый… Он воспринимал всё весьма упрощённо и прямолинейно и того же требовал от других. Способностью быстро переориентироваться в часто меняющейся военной обстановке он не обладал и наличие этой способности у других рассматривал как недопустимое по его понятиям «применение к обстоятельствам».
Что значит это мерецковское «очень грубый»? Грубее остальных полководцев Красной Армии?
Вот, скажем, начальник генштаба сухопутных войск Германии Ф. Гальдер в своём дневнике за 1941–1942 годы ни разу не вспомнил о советском полководце Жукове, — это в понимании немцев был такой полководец, фамилию которого не было смысла запоминать. А вот о генерале Белове и его кавалерийском корпусе Гальдер вспоминает аж семь раз: здорово 1-й Гвардейский кавкорпус попортил немцам крови. И вот как описывает в своих воспоминаниях полковник А.К. Кононенко визит заместителя командующего Западным фронтом Жукова, генерала Г.Ф. Захарова в штаб 1-го Гвардейского кавкорпуса:
«Злоба туманила его и так не весьма ясный рассудок. Захаров говорил, то повышая тон, то снижая его до шёпота с каким- то змеиным присвистом, злоба кипела и клокотала в нём…
«Меня прислали сюда, — сказал Захаров, — чтобы я заставил выполнить задачу любыми средствами, и я заставлю вас её выполнить, хотя бы мне пришлось для этого перестрелять половину вашего корпуса. Речь может идти лишь о том, как выполнить задачу, а не о том, что необходимо для её выполнения»…
Он по очереди вызывал к телефону командиров полков и дивизий, атаковавших шоссе, и, оскорбляя их самыми отборными ругательствами, кричал: «Не прорвёшься сегодня через шоссе — расстреляю!»
Он приказал судить и немедленно расстрелять пять командиров, бойцы которых не смогли прорваться через шоссе… Этот человек, который по ошибке стал военачальником, природой предназначался на роль палача или пациента нервно-психиатрической клиники…».
19 сентября 1941 года член Военного совета 13-й армии Ганенко написал Сталину письмо с жалобой на командующего Брянским фронтом прославленного полководца Ерёменко:
«…Ерёменко, не спросив ни о чём, начал упрекать Военный совет в трусости и предательстве Родины.
На мои замечания, что бросать такие тяжёлые обвинения не следует, Ерёменко бросился на меня с кулаками и несколько раз ударил по лицу, угрожая расстрелом. Я заявил — расстрелять он может, но унижать достоинство коммуниста и депутата Верховного Совета не имеет права. Тогда Ерёменко вынул «маузер», но вмешательство Ефремова помешало ему произвести выстрел. После этого он стал угрожать расстрелом Ефремову. На протяжении всей этой безобразной сцены Ерёменко истерически выкрикивал ругательства. Несколько остыв, Ерёменко стал хвастать, что он, якобы с одобрения Сталина, избил несколько командиров корпусов, а одному разбил голову…».
А вот письмо представителя Ставки маршала артиллерии Воронова Сталину, который во время войны имел кодовые псевдонимы, в данном случае — Иванов.
«Москва. Тов. Иванову.
Вынужден Вам доложить следующее. За два года войны единственный командующий фронтом — это генерал армии т. Конев никогда не бывает доволен работой своих командующих артиллерией фронта, всегда с ними груб и нетактичен, всегда их третирует в присутствии подчиненных, всегда стремится использовать «на побегушках», не хочет видеть в командующем артиллерии фронта своего заместителя и ближайшего помощника, до сих пор не хочет понять, что командующий артиллерией фронта — крупная величина во фронте и от его работы зависит очень многое. Обычно тов. Конев не хочет заслушать своего артиллериста, сам все решает, сам всех дергает и делает вид, что он все знает.
За эти же два года, как правило, командующие артиллерией фронта, работающие в подчинении тов. Конева, просили у меня перевода на любую должность, лишь бы избавиться от совместной службы с тов. Коневым. Так было с генерал-майором артиллерии т. Матвеевым, генерал-лейтенантом артиллерии т. Ничковым, генерал-полковником артиллерии тов. Камера, и вот вчера получил ходатайство от командующего артиллерией Степного фронта генерал-лейтенанта артиллерии тов. Фомина. До работы с тов. Коневым тов. Фомин считался знающим и умеющим воевать командиром, очень опытным, твердым, волевым и умеющим организовать бой командиром. Вот, что он пишет мне в своем письме: «Бранит меня, еще более мой аппарат и артиллеристов вообще. Вынужден доложить, что в такой атмосфере я работать не могу и по-честному докладываю, что зря занимаю здесь место. Такого я еще не видал. Не успел я дописать письмо, как случилось из ряда вон выходящее: план артнаступления на один из дней августа в 53 армии, где я был сам, найден т. Коневым… преступным. Генерал Лебедев (командующий артиллерией 53 армии) был выгнан, я при всех был матерно выруган, назван обманщиком и еще бог знает кем и сейчас жду приезда прокурора, который и меня, и Лебедева должен «упечь» под суд. Слушать меня Конев не захотел, заявил, что не верит мне. Сцена была унизительная и оскорбительная до самых человеческих, командирских и артиллерийских глубин (ведь план был, конечно, грамотен). Все это произошло потому, что пехота замедлила с выполнением задачи дня. Через 2 часа после происшедшего оказалось, что пехота задачу выполнила, благополучно заняв указанные ей пункты и села. Подобного издевательства и хамства я еще не видел вообще. Сейчас я совершенно выбит и просто не знаю, что же мне делать. Ясно только одно, что здесь я не могу оставаться. Исключительно тяжело сознавать, что все это произошло в период успешного прохождения Харьковской операции. Прошу просьбу удовлетворить, если до получения Вашего решения я не буду съеден этим взбалмошным, совершенно распоясавшимся человеком».
Тов. Иванов. Я Вас прошу дать указания тов. Коневу о немедленной перестройке вообще своих отношений с подчиненными и генералами и особенно с генералами-артиллеристами. Ведь должен же тов. Конев, в конце концов, понять, что Харьковскую операцию он успешно решил не штыком и винтовкой, а артиллерией, минометами, танками и авиацией, что собранные под руководством Конева артиллерийские генералы не меньше т. Конева преданы Родине и жаждут победы, и что артиллерия работала в Степном фронте и работает хорошо не только благодаря крупным артиллерийским позхнаниям самого тов. Конева. Пора же положить конец незаслуженным издевательствам над генералами со стороны т. Конева. Очень прошу для подтверждения моего вам доклада хотя бы по телефону опросить тов. Камера о его совместной работе с т. Коневым, он вам должен сказать всю правду. Дальше терпеть нельзя, так как такие взаимоотношения тов. Конева с подчиненными прямо вред делу.
Прошу Вашего разрешения отозвать тов. Фомина, но я затрудняюсь данное время доложить Вам новую кандидатуру, который бы мог работать с тов. Коневым». 3.9.43 г. Воронов»
Так что — Мехлис был таким же грубым, как и эти коллеги Мерецкова, к которым у Мерецкова нет претензий? Да нет, что-то не похоже, поскольку на самом деле Мехлис учил подчинённых ему политработников, что командир: «…должен быть справедливым отцом бойца. Не допускать незаконных репрессий, рукоприкладства, самосудов и сплошного мата». «Подчинять людей, не унижая их», — требовал он.
Но в оценке Мехлиса Мерецковым главное не это, главное то, что Мерецков в своих мемуарах «забыл» вспомнить, что когда тихвинская наступательная операция закончилась, и Сталин решил забрать с Волховского фронта представителя Ставки Мехлиса (чтобы направить его на Крымский фронт), то Мерецков 5 января 1942 года обратился к Сталину с просьбой оставить Мехлиса на Волховском фронте, и Сталин уважил просьбу и продлил Мехлису командировку до 13 января. Это единственный известный мне случай, когда командующий фронтом хотел, чтобы представитель Ставки был у него на фронте! И если говорить в принципе — «по-крупному», то тут есть одно объяснение: Мехлис за всю войну был единственным настоящим представителем Ставки Верховного главнокомандования, а все остальные «представители» были всего лишь генерал-адъютантами Сталина, а чтобы дотянуться до «представителя Ставки», им не хватало ни культуры, ни храбрости, ни смелости, ни честности, ни любви к своей Родине.
Теперь давайте немного об этих подробностях.
О храбрости
Напомню, что храбрость — это способность человека действовать в условиях непосредственной опасности для жизни, а смелость — это способность принимать рискованные решения. Конечно, если человек трус, то в условиях непосредственной опасности для жизни он смелых решений не примет, его, скорее всего, либо парализует страхом, либо он бросится удирать или вымаливать себе жизнь. Но полководцы могут принимать решения и в условиях, когда их жизни ничего не грозит, и вот тут-то им и нужна смелость, но о ней ниже. А сейчас о храбрости наших полководцев.
Дам пример из воспоминаний Толконюка, чтобы было понятно, что такое смелость в сочетании с храбростью. Август 1942 года, 50-я стрелковая дивизия, которой командовал генерал-майор Н.Ф. Лебеденко, должна была наступать в прорыв, проделанный для неё танковой бригадой.
«После поспешной подготовки и короткого огневого налёта началась атака. Бабье и Цветки встретили атакующих шквалом огня: из противотанковых орудий, пулемётов и автоматов. Шесть танков загорелось. Но остальные с ходу перевалили оба населённые пункты и скрылись за скатом высоты. Пехота, постепенно отставая от танков, продолжала продвигаться. За бугром простирался лес с большими прогалинами. В центре полосы наступления дивизии виднелась прямоугольная поляна шириной метров восемьсот. Она с обеих сторон ограждалась густым высоким лесом и упиралась тоже в лесной массив, но не очень густой. Поляна тянулась километра на полтора в глубину. Командир дивизии перенёс свой наблюдательный пункт к основанию поляны и решил для развития успеха ввести через эту поляну полк второго эшелона. Мы с генералом Никитой Лебеденко стояли у разрушенной немецкой землянки, наблюдая за полем боя. Полк густыми цепями вошёл на поляну. Его фланги справа и слева едва не упирались в лесные опушки. Вдруг на правом фланге полка вдоль всей опушки взметнулись разноцветные ракеты, и сразу же вся опушка зарябила вспышками пулемётных и автоматных очередей. Это противник обрушился огнём по правому флангу полка. Полк оказался под губительным огнём на открытой местности. Пули свистели и над нашими головами.
Я, повинуясь инстинкту самосохранения, плюхнулся на землю, а генерал продолжал стоять, игнорируя опасность. «Ложитесь, товарищ генерал!» — дёрнул я его за полу шинели. Но он даже не шевельнулся. Пуля сбила фуражку с генеральской седой головы, но он не стал её поднимать, а весь как бы загоревшись, не отводил глаз от кипящей боем поляны. Без какой бы то ни было команды, с ходу, правофланговый батальон развернулся вправо и с криком «ура» кинулся на лес, из которого стрекотала свинцовая смерть. После кратковременного жаркого боя полк продолжал наступление вслед за танковой бригадой, далеко уже оторвавшейся от пехоты.
В самый разгар этой неожиданной схватки с врагом я наблюдал, лёжа в траве, как пожилой генерал Н.Ф. Лебеденко спокойно стоял под градом пуль, приговаривая: «Оцэ бой! Давно не бачыв такого славного бою…».
Дело не в храбрости Лебеденко, это само собой разумеется, а дело в его смелости: ведь он мгновенно принял рискованное, но единственно верное решение — не ложиться!
Он стоял на виду проходящего мимо него полка, немцы в засаде пристреляли поляну и прицельно могли её простреливать метров на 400 — это минимум. Если бы полк залёг — а это первое, что пришло в голову всем, — то немецкая засада фланговым огнём выбила бы половину полка в лучшем случае. Правильным было решение не ложиться, а броситься на немцев в атаку и преодолеть тот десяток метров, который был от правофлангового батальона до засады. И если бы генерал залёг, то залёг бы и весь полк, но генерал стоял! Что оставалось офицерам правофлангового батальона, как не скомандовать: «Огонь вправо и вперёд!»? Было ли это решение старого генерала осмысленным или уже давно его честь приняла за него смелое решение никогда не ложиться, когда его солдаты атакуют во весь рост, но в любом случае это было смелое решение и оно резко уменьшило потери полка в том бою.
Я уже об этом неоднократно писал, но это то, что следует подчёркивать каждый раз, — после прихода к власти хрущевцев была дана команда как угодно клеветать на Сталина, но из архивов запрещалось выносить хотя бы строчку документов, свидетельствующих о трусости, подлости и других негативных качествах не то, что советских генералов той войны, но даже офицеров. Кадровое воинство СССР стало вне критики — её запретила хрущевская цензура.
Но помимо этой была и другая трудность в исследовании вопроса храбрости полководцев. Они были слишком объединены Министерством обороны, они были знакомы друг с другом и посему просто не могли написать о подлости и трусости коллег. Не могли написать это прямо, но ведь многие из них были очень неглупыми людьми, а посему были способны высказать своё отношение к коллегам между строк.
Возьмём, к примеру, их отношение к генералу В.Н. Гордову, Герою Советского Союза. Его в 1950 году расстреляли вместе с маршалом Куликом за создание антисоветской организации, а при Хрущеве, само собой, немедленно реабилитировали и объявили жертвой сталинизма. После этого ну какая цензура разрешила бы нашим полководцам написать правду об этой «жертве сталинизма»? Все обязаны были писать или хорошо, или ничего.
А теперь давайте попробуем прочесть между строк воспоминания двух советских военачальников. Вот воспоминания маршала В.И. Чуйкова «Начало пути», изданные в 1959 году. Прошло всего шесть лет после того, как Гордов был реабилитирован, посему максимум негативного, что цензура разрешила Чуйкову прямо сказать о Гордове, звучит так: «…обстановки на фронте не знает. Он принимал желаемое за действительное…». Вместе с тем, Чуйков почему-то очень подробно описывает, как летом 1942 года 64-я армия, которой он первоначально командовал, по железной дороге выдвигается к Сталинграду, и как он по пути заехал в штаб 21-й армии, якобы узнать обстановку. Но эта обстановка ему и даром не была нужна, поскольку его-то армия ехала дальше и даже соседом 21-й никогда не была. Вот и спросите себя, зачем он вставил в свои мемуары вот этот эпизод: «Штаб 21-й армии был на колёсах: вся связь, штабная обстановка, включая спальный гарнитур командарма Гордова, — всё было на ходу, в автомобилях. Мне не понравилась такая подвижность. Во всём здесь чувствовалась неустойчивость на фронте, отсутствие упорства в бою. Казалось, будто за штабом армии кто-то гонится и, чтобы уйти от преследования, все, с командармом во главе, всегда готовы к движению»? К чему это?
Другого ответа нет — маршал Чуйков между строк внятно заявляет, что Гордов был трус.
А вот посмотрите, как ту же характеристику Гордову между строк даёт маршал Рокоссовский. Вот он описывает, как принял Донской фронт, выделенный из Сталинградского фронта, и знакомится с войсками.
«Прибыв на командный пункт 66-й армии, я не застал там командарма. Встретивший меня начальник штаба армии генерал Ф.К. Корженевич доложил, что командарм убыл в войска. …Меня несколько удивило, что командующий армией отправился в войска, не дождавшись меня, хотя и знал, что я к нему выехал. Корженевич хотел вызвать командарма на КП, но я сказал, что сам найду его, а заодно и познакомлюсь с частями.
Я побывал на командных пунктах дивизий, полков. Добрался до КП батальона, но и здесь не удалось встретиться с командармом. Сказали, что он находится в одной из рот. Я решил отправиться туда.
Нужно сказать, что в этот день здесь шла довольно оживленная артиллерийско-минометная перестрелка, и было похоже на то, что противник подготавливает вылазку в ответ на атаку, проведенную накануне войсками армии. Где в рост по ходу сообщения, а где и согнувшись в три погибели по полузасыпанным окопам добрел я до самой передовой. Здесь и увидел среднего роста коренастого генерала. После церемонии официального представления друг другу и краткой беседы я намекнул командарму, что вряд ли есть смысл ему лазать по ротной позиции, и порекомендовал выбрать более подходящее место, откуда будет удобнее управлять войсками. Родион Яковлевич Малиновский замечание выслушал со вниманием. Угрюмое лицо его потеплело.
— Я сам это понимаю, — улыбнулся он. — Да уж очень трудно приходится, начальство нажимает. Вот я и отправился подальше от начальства».
Задайте себе вопрос: зачем Рокоссовский написал, что Малиновский прятался от начальства на передовой? Ведь на момент написания мемуаров Рокоссовским, Р.Я. Малиновский был министром обороны СССР и вполне мог обидеться. И снова остаётся один ответ — Рокоссовский хотел показать, что то начальство, которое было у Малиновского до него, Рокоссовского, фронта боялось и ближе штаба армии или дивизии к передовой не подходило. И те, кто это поймут, тут же полюбопытствуют, — а кто же это был начальством Малиновского до Рокоссовского? И выяснится, что это был генерал Гордов. Два маршала эпизодами из 1942 года между строк говорят о Гордове одно и то же — трус. И надо ли искать дополнительные документы о том, за что Сталин снял Гордова с командования Сталинградским фронтом?
Гордов является хорошим примером для показа того, что такое смелость и что являлось лекарством от трусости. Но об этом чуть позже, а сейчас я хочу закончить тему того, как читать мемуары. Дело в том, что мемуаристы, как и все писатели, о чём бы ни писали, всегда дают характеристику и себе, вне зависимости от того, что именно они хотели сообщить читателю и какой именно свой образ они хотели читателю навязать.
Вот, к примеру, маршалу Василевскому можно было просто сообщить читателям, что 30 июля 1941 года он был назначен заместителем начальника Генштаба РККА. Василевский, видимо, решил, что при такой простоте изложения читатели не оценят всю значимость этого события — не оценят того, насколько его ценили Сталин и начальник Генштаба РККА маршал Шапошников. И Василевский не скупится на слова.
«30 июля для рассмотрения мероприятий, проводимых по усилению обороны Ленинграда, в Ставку вызвали главкома Северо-Западного направления К.Е. Ворошилова и члена военного совета А.А. Жданова. В обсуждении вопроса принимал участие и Б.М. Шапошников. По возвращении из Ставки в Генштаб (это было около 4 часов утра 31 июля) Борис Михайлович объявил мне, что в Ставке среди других вопросов стоял вопрос об усилении аппарата командования Северо-Западного направления и что Ворошилов по окончании заседания предложил назначить меня на должность начальника штаба. Б.М. Шапошников поинтересовался моим мнением. Я совершенно искренне считал, что если Климента Ефремовича не удовлетворял в этой должности такой способный, всесторонне подготовленный оперативный работник, как М.В. Захаров, то уж я, безусловно, вряд ли ему подойду. Б.М. Шапошников предупредил меня, что вечером Ставка вновь будет заниматься Северо-Западным направлением и что, видимо, вопрос о моем назначении будет решен. Он рекомендовал использовать оставшееся время для более детального изучения оперативной обстановки на этом направлении.
Весь день я просидел, погрузившись в карты и бумаги. А глубокой ночью Борис Михайлович, вернувшись из Кремля, ознакомил меня с новым решением Ставки: я назначался начальником Оперативного управления и заместителем начальника Генштаба».
И в связи с этим эпизодом у наблюдательного читателя обязаны возникнуть вопросы.
Во-первых. Неужели Ворошилов был более требователен к подчинённым, нежели Сталин? Если квалификация Василевского удовлетворяла Сталина, то почему Василевский вдруг забеспокоился, что она не удовлетворит Ворошилова?
Во-вторых. Если М.В. Захаров (которому Конев бил морду за нерадивость) как штабной работник превосходил Василевскогог (по мнению самого Василевского), то почему это Василевский работал в Генштабе, а не Захаров?
В-третьих. Чуть позже, в цитате о Керченской операции Василевский сообщает о назначении его Сталиным исполняющим обязанности начальника Генштаба, и Василевский не высказывает ни малейшего сомнения, что он с этой должностью справится. Получается, что быть на фронте начальником штаба двух фронтов для Василевского не по уму, а быть в Москве начальником штаба десятка фронтов и десятка военных округов всего СССР, для Василевского в самый раз.
Вот и получается, что Василевский боялся фронта, как огня, правда, трудно понять, чего в этом страхе было больше — отсутствия храбрости или отсутствия смелости.
Однако давайте поговорим и о лекарстве от страха.
О наказаниях
Вообще-то нет другого лекарства от страха, кроме наказания, а традиционным наказанием является наказание от собственной совести, но при этом для хорошего эффекта лечения совесть человека должна быть большой и сильной. А если совесть маленькая и хилая, или её вообще нет, то тогда лечиться человеку нечем, тогда его приходится лечить другим людям, но, опять-таки, при помощи того же самого лекарства — наказания.
У людей наказания самые разнообразные: от порки до расстрела, от призыва к совести до снятия с должности. Такой широкий ассортимент обусловлен целью наказания — предотвратить трусость в обществе. И, как и полагается наказанию, его тяжесть зависит от того, насколько эта трусость вредит обществу. За одну и ту же трусость в мирное время могут высмеять, а в военное — расстрелять.
Если наказание не заканчивается смертью наказуемого, то оно имеет две цели: предотвратить собственную трусость наказуемого и явиться примером, предотвращающим трусость других. Если труса казнят, то тогда преследуется только вторая цель.
Следует добавить, что биологически лекарством от страха является не собственно наказание, а тренировки в подавлении собственного страха, при этом угроза наказания всего лишь заставляет тренироваться. Такой вот пример: XVIII век, эпоха Екатерины II, её бессменный фаворит князь Григорий Потёмкин пишет наставления своему внучатому племяннику Николаю Раевскому. Начинаются они словами (выделено мною): «Во-первых, старайся испытать, не трус ли ты; если нет, то укрепляй врождённую смелость частым обхождением с неприятелем…». Это старинный слог разговора, а сегодня сказали бы попроще, т. е. так, как я написал выше — тренируйся в подавлении собственного страха.
Но для массовой армии, комплектуемой из всего народа, несправедливо опираться в боях только на тех, у кого смелость врождённая. Вот поэтому у тех, у кого она не уродилась, храбрость должна взойти от страха наказания за трусость. А дальше тренировки храбрости — и ты честный солдат.
Честный потому, что если ты трус и хочешь, чтобы за тебя на фронте погиб кто-то другой, а ты отсиделся в тылу или в плену, то ты — подлец. И не жалуйся, если тебя расстреляют, поскольку для общества людей уничтожение подлеца — это благо. Ещё большим благом является только случай, когда подлец преодолеет свой страх и станет честным человеком. Это, само собой, касается любого человека. Но в тысячу раз больше это касается кадрового военного. Если он трус, но поступил на службу, то значит он подлец, к которому не может быть никакой пощады. Ведь он, паразит, в мирное время объедал свой народ, какое же он имеет право трусить во время войны?
Беда, однако, в том, что они, эти кадровые военные, какие ни есть, а всё же профессионалы, и перестрелять всех трусов, даже если надо и очень хочется, невозможно. Кое-кого, конечно, расстреливали в назидание другим, но большинство приходилось ставить под контроль их совести более мягкими наказаниями — снятием с должностей. Беда, однако, и в том, что ещё в мирное время каста профессионалов составляет некое братство, по-итальянски, мафию и, так или иначе, поддерживает и выдвигает вверх только «своих», но об этом мы ещё поговорим позже. Сталин, безусловно, из нескольких сот тысяч советского офицерства без труда мог бы сам отобрать честных, умных и храбрых кандидатов на должности командующих фронтами и армиями, но для этого он должен был их знать, а это невозможно. Сталин знал только тех генералов, которые крутились возле него или кого он успел заметить по каким-либо причинам, а остальных кандидатов ему подсовывала сама эта мафия.
Вот, к примеру, генерал-лейтенант Д.М. Карбышев. В военных кругах СССР он был широко известен, поскольку преподавал инженерное дело в Академии генштаба, других академиях и был героем гражданской войны, в частности, героем Каховского плацдарма, который тогда оборудовался в инженерном отношении под его командой. До войны по своему званию генерал-лейтенанта, Карбышев входил в число первых полутора сотен военачальников страны. И вот 26 августа 1941 года у Сталина состоялся такой разговор с командующим Ленинградским фронтом генерал-лейтенантом М.М. Поповым.
«ПОПОВ. Товарищ Сталин, маленькая просьба.
СТАЛИН. Пожалуйста. Слушаю.
ПОПОВ. Если сейчас свободен инженер Карбышев, были бы рады иметь его у себя.
СТАЛИН. Кто он такой? Я его не знаю.
ПОПОВ. Генерал-лейтенант инженерных войск, преподаватель Академии Генштаба.
СТАЛИН. Постараюсь удовлетворить вашу просьбу».
Из этого разговора следует, что Сталин первый раз узнал о Карбышеве из этого разговора, более того, он даже не знал, что 8 августа Карбышев, руководя оборудованием оборонительных позиций на Западном фронте, был ранен, контужен и попал в плен.
Но ведь узнать человека — это лишь 1 % дела. Это только повод назначить его на должность. А потом ведь надо проверить, как он работает, для чего нужно получить надёжные данные о его работе, а не туфтовые отчёты. Да, в ходе войны люди быстро показывают себя, и Сталин заметил и генерал-майора Рокоссовского, и генерал-майора Горбатова, и даже полковника Черняховского. Но в основном ему приходилось тасовать всё ту же засаленную колоду уже известных ему полководцев, в которую новые карты вкладывали в основном сами генералы. Вот и приходилось генералов из этой колоды наказаниями приводить в божеский вид: снимать и снова назначать, и снова снимать, пока одни генералы окончательно отправлялись куда-нибудь в тыловые округа, чтобы не гробили людей на фронте, а другие генералы действительно становились какими никакими полководцами.
В сборнике «Военно-исторический архив» (№ 10) злобствует на Г.К. Жукова полковник в отставке В.М. Сафир, большей частью по делу, но часто и просто от собственного непонимания затрагиваемых вопросов. Вот он попрекает Жукова жестокостью.
«Допустив грубую ошибку и загнав в ходе Ржевско-Вяземской операции (1942 г.) буквально в западню под Вязьму главные силы 33-й армии, Жуков стал искать “виновных”. Нашёл быстро: это командир 329-й СД полковник К.М. Андрусенко, которого он, не мешкая, приговорил к расстрелу. Однако несправедливый смертный приговор Президиумом Верховного Совета СССР и на этот раз был отменён. “Недорасстрелянный” же Андрусенко 15 января 1944 г. получил звание Героя Советского Союза (войну окончил командиром 55-й СД)”.
А кто сказал, что Андрусенко до приговора (до наказания) и после приговора — это один и тот же человек? Ведь наказание для того и назначается, чтобы исправить человека. И очень может быть, что Андрусенко до приговора действительно был трус, а после приговора — герой. Говорят же, что за одного битого двух небитых дают. Особенно хорошо видна разница между битым и не битым на примере упомянутого выше генерала Гордова. Но я хотел бы этот пример совместить с назревшим разговором о смелости.
Смелость
Повторю, если человек по своей натуре трус и находится в условиях непосредственной опасности для жизни, то ему уже не до рискованных решений — не до смелости. Но полководцы, принимая рискованные решения (а их боевые приказы являются таковыми по своей сути), редко находятся в условиях непосредственной опасности для жизни и им нужна просто смелость, смелость даже без храбрости. Но вот отдал полководец боевые приказы, а в результате их исполнения не победа, а поражение. Кто виноват? Тот, кто принял эти рискованные решения — полководец. И что толку в его оправданиях, что противник был силён, что свои войска не обучены или что начальники ему не помогли?
Если генерал действительно полководец, если цель его жизни в победе над врагами, то для него возможность воплотить в бою своё собственное решение — это то, зачем он жил и живёт. И такой генерал всю свою жизнь, даже мирную, будет неустанно учиться тому, как воевать, причём учиться будет сам, ему не потребуются для этого училища и академии, как не потребовались они ни одному гитлеровскому фельдмаршалу — ведь в Германии училищ и академий, в советском понимании, просто не было. Такой генерал учится сам, потому что если он в возможном бою примет решение, не зная, как воевать, то это решение закончится крахом и его войск, и его лично.
А если генерал пошёл в армию не для того, чтобы воевать, а чтобы иметь большую зарплату и пенсию, красивый мундир и уважение общества, то зачем ему учиться, как побеждать? Тогда ему надо учиться не воевать, а тому, что обеспечит его карьеру в мирное время, — как закончить военное училище, чтобы иметь диплом, обеспечивающий получение офицерского звания, как окончить академию, чтобы её диплом помог стать генералом, как провести парад или учения, чтобы понравиться начальству, кого, как и в какое место лизнуть, чтобы получить очередное звание, и т. д. и т. п.
Но вот начинается война, и тут сразу же выясняется, что дипломами и погонами противника разбить невозможно, что для принятия решения на бой нужны военные знания, а их-то и нет! И вот тут возникает страх за последствия своих решений, такой страх, что для смелости уже не остаётся места, — такого человека переполняет малодушие.
Вот строки из воспоминаний Рокоссовского: «Весьма характерен случай самоубийства офицера одного из полков 20 тд. В память врезались слова его посмертной записки. «Преследующее меня чувство страха, что могу не устоять в бою, — извещалось в ней, — вынудило меня к самоубийству». Как видите, у этого офицера хватило храбрости застрелиться, но не хватило смелости воевать.
Фельдмаршал Кейтель в ходе Нюрнбергского трибунала возмущался Гитлером — тот всё время утверждал, что ответственность за действия немецкой армии полностью лежит на нём, главнокомандующем, а когда подошло время отвечать, он просто застрелился и этим переложил ответственность на своего начальника штаба — Кейтеля. Адвокат Кейтеля вспоминал: «Кейтелю даже в самом страшном сне не могло привидеться, что Гитлер избегнет ответственности, покончив самоубийством. Уход Гитлера из жизни глубоко потряс Кейтеля, ибо он, самоотверженно борясь до конца, воспринял это как трусость». Но Гитлер не покончил бы с собой и принял бы смерть от петли трибунала, если бы у него было, что достойно трибуналу ответить, однако что отвечать, Гитлер не знал. Это пример того, что где бы то ни было, но малодушие (отсутствие смелости) имеет общие корни — отсутствие знаний для принятия решений.
А вот характерный эпизод из воспоминаний Толконюка. Начало октября 1941 года. Немцы окружают под Вязьмой четыре наши армии. Капитан Толконюк в это время служил в оперативном отделе 19-й армии, которой командовал генерал-лейтенант М.Ф. Лукин. В один из моментов, когда штаб 19А находился в лесу, отделённом от дороги полем около 300 м шириной, на дорогу выехали немецкие танки с десантом и открыли по лесу огонь. Лукин приказывает собрать всех офицеров штаба, числом около двухсот, и через поле с пистолетами в руках атаковать немецкие танки, а Толконюку поручают командовать правым флангом цепи. Офицеры рассыпались вдоль опушки, и назначенный Лукиным майор поднял цепь в атаку, а сам вернулся в лес. Само собой, изумлённые немцы подождали, пока цепь добежит до середины поля, и шквальным огнём расстреляли её. Оставшиеся в живых и раненые залегли в бороздах и лежали часа три, пока немцы не ослабили внимание, после чего отползли обратно в лес.
Однако Лукин уже удрал из леса, не оставив для посланных им в бой людей ни связного, ни санитаров. Группа офицеров, среди которых было 12 раненых, не способных ходить, и до десятка легкораненых, остались и без командира, и без приказа, но они пока ещё были связаны дисциплиной и, следовательно, стояли перед необходимостью разыскать свой штаб. Чтобы действовать вместе, им, как людям военным, требовался командир, но этот командир стал бы отвечать за судьбу всех. И вот тут случилась интересная ситуация, которую Толконюк вряд ли выдумал.
«— Пробираться к своим войскам, — предлагали одни. — Искать штаб, — высказывались другие. — Разбиться на группы по два-три человека и лесами идти на восток, — раздавались голоса. — А как же мы? — забеспокоились тяжело раненые.
Выслушав такую разноголосицу, я снова взял слово: «Так мы ничего не решим. Прения разводить не время и не место. Здесь требуется единая воля, которой все должны беспрекословно повиноваться. Среди нас есть старшие по званию товарищи: одному из них и следует взять на себя командование и ответственность…».
Но меня прервали голоса: — Я инженер, а не строевой командир, — возразил майор инжвойск. — А я связист и не смогу командовать… — А я политработник и мои обязанности известны, — высказался офицер с двумя шпалами на петлицах. — В любой обстановке моя обязанность — политобеспечение. Поэтому связывать руки командованием мне не следует. Ты, хотя и младше по званию некоторых из нас, — обратился ко мне на ты выдавший себя за политработника, — но ты окончил академию, оператор, тебе и карты в руки. Да и зачем нам выбирать командира? Мы пока не партизаны, чтобы выбирать руководителя. Тебе командующий поручил командование правым флангом при обороне штаба, а это значит, что ты назначен старшим, и не увёртывайся: всё равно за нашу группу отвечать тебе.
Откровенно говоря, мне не хотелось вручать свою судьбу людям, не желающим брать на себя ответственность, и я согласился. «Хорошо, я беру на себя командование. Но потребую подчинения и высокой дисциплины как законный единоначальник, отвечающий за свои решения и действия только перед старшим командованием. Кто не согласен, говорите сразу». Несогласных не нашлось. «Молчание — знак согласия. Решение принято», — подытожил я короткую дискуссию. «Подготовиться к походу на поиски штаба! Раненых будем нести. За каждым из них закрепляю по два человека. Носилки сделать из подручного материала».
Несколько часов назад эти люди безоружными храбро бежали на немецкие танки, а смелости взять на себя ответственность, как видите, у них не было. И дело не в образовании — командовать стрелковым взводом и ротой учат во всех училищах (Толконюк окончил артиллерийское). Но в училищах эти офицеры не воевать учились, а сдавали экзамены, поскольку без сдачи экзамена офицерского звания не получишь и, следовательно, не получишь вожделенных денег, полагающихся за то, что ты, якобы, в случае войны, будешь защищать Родину. Но вот война пришла, и выяснилось, что как именно Родину защищать, даже командуя взводом, мало кто знал.
Тогда как же они воевали, не имея смелости принять собственное решение? А вот так и воевали — что начальник сказал, то и нужно тупо заставить выполнить своего подчинённого. Скажет: «Вперёд!» — гони подчинённых на пулемёты, скажет: «Ни шагу назад!» — заставляй рыть окопы. Ведь в нашей мемуарной литературе надо ещё поискать воспоминания военачальников (таких как Горбатов или Архипов), в которых бы описывалось, как и когда эти военачальники по своей инициативе принимали решение нанести потери немцам, а не просто тупо бежали туда, куда их пошлют, и только тогда, когда их пошлют.
Наше военное образование, надо отметить, достигло больших успехов в производстве импотентов военного дела.
Исправившийся Гордов
Дальше мне надо будет привести большие отрывки из воспоминаний уже цитированного генерал-лейтенанта И.А. Толконюка. В мемуарах, как известно, все храбрые, но Толконюк, судя по всему, таким и был. Если тысячи командиров его армии вместе с генералом Лукиным сдались немцам в плен под Вязьмой, то Толконюк, будучи ранен, из окружения вышел. Затем, уже дважды награждённый, он снова был тяжело ранен, едва не лишился ноги и был признан негодным к военной службе, но порвал заключение медкомиссиии и добился отправки на фронт. Согласитесь, что эти факты, зафиксированные в его послужном списке, достаточно хорошо о нём говорят даже без описания им своего поведения в тех переделках, в которые он попадал во время войны.
Толконюк два года служил с генералом Гордовым, причём, Гордов был, как и генерал Лукин, штабист (оба эти генерала были назначены командовать армиями с должности начальника штаба округа). По воспоминаниям Толконюка, Гордов как бы приближал его, толкового молодого штабного офицера, к себе, но одновременно стремился сломать и подмять его под себя, а Толконюк, как и полагается упрямому хохлу, упирался, в связи с чем Гордов несколько раз посылал Толконюка в качестве наказания в такие дела, в которых риск гибели офицера был очень велик, но после этого не награждал, объясняя, что за наказания не награждают. В связи с этим, Толконюк, скорее всего, Гордова очень не любил, хотя и старается быть объективным. По крайней мере, он только раз, описывая поведение Гордова, дал деталь, которую можно было бы и опустить.
«В блиндаже комдива начался разнос. Отчитав без всякого стеснения генерала Киносяна за плохую работу штаба, упрекая его в том, что, наверное, немцы и кашу получают из котлов штаба армии с согласия беспечного начальника штаба, Гордов переключился на комдива, спрашивая и не давая сказать слова, почему ему не выгодно бить немцев. Неистово почесав внутреннюю часть ног, запустив руку в ширинку (он так поступал всегда, когда сильно возмущался), командующий переключил свой гнев на меня: «Вы, операторы, всё время болтаетесь по войскам, по крайней мере этого я от вас требую, при беззубом начальнике штаба. Почему вы смирились с таким безобразием?».
Толконюк пишет, что он несколько раз пытался уйти на нижестоящую должность, чтобы только не служить вблизи Гордова, но тот его не отпускал.
«Молокосос! — завопил генерал, дав волю нервам. — Из штаба ты можешь уйти только в штрафной батальон. Другого пути не будет! В штрафники могу составить протекцию, у меня на это и власти и воли хватит. Подумать только, Степан Ильич, — обратился Гордов с насмешкой к Киносяну, — он хочет быть начальником штаба дивизии. Губа не дура. Я ещё посмотрю, как он будет впредь работать. А начальником штаба батальона не хочешь? — резко обернулся ко мне разгневанный командующий. — Об этом можно подумать.
Оскорблённый таким оборотом дела, я вызывающе ответил: «Пойду и на штаб батальона… Хоть буду подальше от вас», — невольно вырвалось у меня.
— Нет, штаб батальона я тебе не доверю. Хотя и там я бы тебя нашёл. Не за горами.
Как-то вызвал меня Киносян и завязал спокойную беседу, почему-то сделав страдальческое выражение лица: «Я докладывал командарму, что ты стал за последнее время ещё больше, чем раньше, раздражителен, болезненно реагируешь на замечания и упрёки, свои суждения отстаиваешь, как непогрешимые. А ведь на начальство обижаться нельзя. Знал бы ты, сколько мне приходиться терпеть и сносить обид. Но ведь я не обижаюсь. Служба есть служба».
Я знал, конечно, что начальнику штаба с генералом Гордовым было нелегко работать, и сочувствовал ему. Но всё же возразил: «Любая служба должна быть разумной…» Но генерал прервал меня: «А хочешь знать, как на это среагировал командующий? Он сказал по твоему адресу: «Ничего, сломится. Не такие сламывались».
И вот то, что у Толконюка с Гордовым были паршивые отношения, делает, на мой взгляд, нижеприведённые воспоминания Толконюка очень достоверными. Напомню, что Чуйков и Рокоссовский между строк отметили, что Гордов трус и боится бывать на командных пунктах, расположенных вблизи передовой. Но это было летом 1942 года, когда Гордов командовал 21 и 64 армиями, а затем — Сталинградским фронтом. В августе его с этой должности сняли и, надо думать, и за трусость тоже. Снятие — это наказание, а наказание даётся для исправления. В октябре 1942 года Гордова назначают командующим 33-й армией, здесь с ним знакомится Толконюк, и оставляет о Гордове вот такие воспоминания.
«Почти ежедневно объезжая войска, придирчиво распекая командиров по всяким поводам, он искал всем работу. Мне часто приходилось ездить с ним по участкам обороны, на передний край, в нижестоящие штабы. Иногда он забирался на наблюдательные пункты полков, в первую траншею и даже в боевые охранения, демонстрируя бесстрашие и пренебрежение опасностью, хотя для командарма это не вызывалось необходимостью. Припоминаются такие примеры. Однажды я был с ним на НП командира одной из дивизий. В прочном блиндаже командующий заслушивал доклады офицеров дивизионного штаба. Вдруг послышался гул самолетов: сначала слабый, а затем все нарастал, мешая разговору. Генерал вопросительно обвел взглядом присутствующих.
— Сейчас будут бомбить, — сказал кто-то. Гордов быстро вышел из блиндажа и остановился перед входом. Я последовал за ним, а следом за нами вышли остальные.
— Скажите ему, чтобы зашел в блиндаж, — шепнул мне командир дивизии, — опасно.
Ярко светило утреннее солнце, ослепляя глаза после полумрака блиндажа. На голубом небе ни облачка. Еле различимые силуэты юнкерсов, вперемежку с белесыми шапками разрывов зенитных снарядов, полукругом заходили над нами, переходя в пикирование один за другим. Вскоре загромыхали потрясающие землю взрывы. Один из бомбардировщиков спикировал прямо на нас. Вот уже из его брюха вывалилось четыре черных продолговатых бомбы, летящие с душераздирающим визгом. Я инстинктивно толкнул плечом легкое тело генерала и, не удержавшись на ногах, повалился на своего командующего. Вокруг блиндажа все было перемешано бомбами; щекотала в носу и въедалась в глаза смрадная гарь взрывчатки. Над нами впились в дверь блиндажа два огромных осколка: если бы мы не упали, то они наверняка перерубили бы нас пополам. Генерал медленно поднялся, отряхнул и поправил красиво сидевшую на нем бекешу с серым каракулевым воротником и молча вернулся в блиндаж.
— Что, прикрыл своим телом командующего? — сказал В.Н. Гордов, уставившись на меня колючими глазами. — За меня ордена не получишь. За таких как я ордена не выдаются, — почему-то сказал он, ни к кому не обращаясь. — Едем в штаб!
Дорога сначала шла вдоль фронта, а затем поворачивала в тыл через лесной массив. Конфигурация линии фронта проходила так, что шедшая с севера на юг шоссейная дорога на отрезке километра полтора занималась нашими войсками. Чтобы не объезжать открытый участок шоссе, по нему нужно было проскочить метров шестьсот на виду у противника, передний край которого проходил на удалении 800 метров от дороги. Наш «виллис» остановился перед выездом на открытый отрезок шоссе. Тент машины был спущен для лучшего обзора.
— Ну что, Толконюк, рискнем? Попробуем проскочить? — с лукавой искринкой в глазах сказал генерал. — Как ты настроен, Николай? — перевел он взгляд на водителя машины, — не подкачаешь?
— Можно и попробовать, товарищ командующий, — неопределенно ответил шофер, — как прикажете…
Отговаривать командарма от этого шаловливо-ухарьского поступка не было смысла: все равно не отступится. К тому же он мог заподозрить меня в трусости. И я, скрывая досаду, поддержал его намерение: «Рискнем! Но надо сдать назад и выскочить на шоссе с разгону. Чем быстрее проскочим открытый участок, тем меньше вероятность попадания».
— Давай! — скомандовал смельчак шоферу. И тот, сдав назад метров па тридцать, разогнал машину и, ревя мотором, выскочил на шоссе. Я с тревогой смотрел в сторону противника: четко вырисовывалась плохо замаскированная траншея с рыжеватым бруствером, виднелись бугорки пулеметных капониров. Вдруг в расположении немцев ярко вспыхнул орудийный выстрел и тут же над нашими головами провизжал снаряд. Били прямой наводкой. Снаряд разорвался по другую сторону дороги. Потом — второй, третий, четвертый… Шофер жал на газ, то прибавляя, то сбавляя скорость. Нас ужасно бросало в машине, трудно было удержаться, чтобы не вылететь вон. Проскочив опасное пространство и слетев с шоссе на лесную дорогу, «виллис» резко остановился. Шофер молча обошел вокруг машины и пробормотал себе под нос: «Всего две пробоины. Могло быть хуже. Вы в рубашке родились, товарищ командующий». Генерал молчал и звучно сопел, как после резкого бега. Мы поехали дальше.
— Скажите, товарищ командующий, для чего вы так бессмысленно рискуете своей жизнью? — спрашиваю. — Не думаю, чтобы это доставляло вам удовольствие. Или вы демонстрируете свою храбрость? Перед кем?
— Не только своей жизнью рискую, ты хочешь сказать, а и жизнью своих подчиненных: вот твоей и его, — недовольно мотнул командарм головой сначала в мою, а затем в сторону водителя.
— И нашей тоже, — поддакнул я.
— Вот что я на это скажу, — Гордов резко обернулся ко мне. На войне все связано с риском. И прятаться от паршивых фрицев, ложиться перед ними, падать ниц не буду и вам не советую. Кончится война и может больше не представится случая погибнуть по-солдатски, на поле боя, с почетом. Тогда будешь гнить, как старый пень, живя в тягость себе и людям. Засядешь за мемуары и станешь врать самому себе и другим, какой ты был герой на войне, стыдясь сказать правду.
Уловив мечтательное расположение собеседника, я поддержал его настроение:
— Война не скоро кончится, и будет еще не один случай сложить голову. Но разумно, может быть, с пользой. Я не вижу героизма в том, чтобы добровольно подставлять себя под пулю или снаряд врага. Читал я, кажется у Драгомирова, что героический поступок совершают или люди очень смелые, от храбрости, или последние трусы — из трусости теряют контроль над собой, утрачивают самообладание и внешне смело бросаются навстречу смерти, — порассуждал я вслух, делая вид, что не отвечаю командарму, а говорю сам с собой.
— Ты что, считаешь меня трусом? — угрожающе повысил голос генерал.
— Нет, не считаю. Но и не вижу разумного смысла в подобного рода героизме.
Командарм промолчал».
Пусть извинит меня Илларион Авксентьевич Толконюк, но последний диалог, как мне кажется, он придумал уже после войны. А вот слова Гордова, что за таких, как он, ордена не дают, скорее всего, правда, и показывают глубокую обиду Гордова на Сталина за своё снятие с должности командующего фронтом.
Но оцените воспитательный эффект этого наказания! К Гордову не только вернулась храбрость, но он стал демонстративно ею бравировать — он специально создавал ситуации, при которых его могли убить. А говорят, что наказание ничего не даёт. Даёт, да ещё и как!
Исправленный не во всём
Для генерала храбрость важна, как и для любого воина, но её генералу очень мало, генералу нужна и смелость. А вот за это Гордова не наказали, и он тупо и бездумно исполнял приказы фронта, не внося в них никакого элемента творчества. Никак не применяя приказы фронта к конкретной обстановке в полосе 33-й армии, он гнал и гнал вверенные ему соединения в атаки на немцев строго по директивам, поступившим из штаба фронта. Собственные решения он принимать боялся.
При этом, как утверждает Толконюк, начальник штаба 33-й армии Киносян был бессилен предложить командующему более разумные решения, ведь Гордов сам был штабист, и его штабные амбиции не позволяли ему оценить решения своего штаба, а малодушие не позволяло положить эти решения в основу собственных приказов. Поэтому гибель солдат 33-й армии была огромна, но Гордов тупо гнал их остатки на немецкие укрепления.
Такой пример. В октябре 1943 года, в качестве наказания за настырность в предложении решений, Гордов назначает Толконюка командиром 620-го стрелкового полка взамен убитого предшественника, и ставит задачу как для полка с полным штатом, т. е. численностью 1582 человека. Толконюк вспоминает:
«К рассвету я прибыл на КП командира 164 дивизии и представился по всей форме генералу В.А. Ревякину. Тот никак не мог поверить, что начальник оперативного отдела, заместитель начальника штаба армии прибыл к нему командовать полком. Но факт — упрямая вещь, и я отправился искать свой полк. Солнце уже поднялось над горизонтом, когда я перед высоким лесом увидел на поляне группу людей, завтракавших, рассевшись на пнях когда-то вырубленного леса. Это был мой полк. Им временно командовал заместитель начальника оперативного отделения штаба дивизии майор Марченко, недавно переведённый в дивизию из моего отдела. Он обрадовался моему появлению, доложил состояние полка, представил адъютанта — рослого лейтенанта с голубыми глазами — и сдал мне должность. В полку оказалось, без учёта тыловых подразделений, 130 человек, две 45-мм пушки на конной тяге, два станковых пулемёта и две малочисленных миномётных роты: 6 82-мм и 4 120-мм миномёта. Мне дали котелок с какими-то тёплыми оладьями и чаю, и я тоже сел на пень перекусить. Вдруг вижу странное явление: один солдат свалился раненым, другой, третий… выстрелов не слышно. «Что происходит?» — спрашиваю, не успев разобраться в обстановке. Мне спокойно пояснили, что из леса стреляют снайперы. Пришлось, прервав завтрак, приступить к своим новым обязанностям. Приказываю обстрелять лес из станкового пулемёта и атаковать. Немцы не стали сопротивляться, и мы беспрепятственно вошли в лес. Слышу взрыв: это одно орудие попало на мину, две лошади из упряжки убиты и ранен один ездовый. На лесной дороге виднелись кучки пыльной земли, под которыми замаскированы противопехотные мины. Требую позвать полкового инженера, чтобы организовал разминирование, но мне отвечают, что инженера давно нет; его заставляли лично обезвреживать мины, и он бесследно исчез: наверное, или подорвался где, или убит. Пришлось протаскивать пушки вне дороги, лавируя между деревьями. Полк вышел на западную опушку леса, встреченный сильным артиллерийским и пулемётным огнём. Немцы стреляли разрывными пулями, которые рвались, ударяясь в деревья, и создавалось впечатление, что стреляют где-то сзади, в тылу. Крупнокалиберная пуля, пробив погон на моём правом плече, угодила в живот шедшему следом за мной адъютанту. Я вышел на опушку и увидел за лесом оборонявшееся противником село Губино. Для меня быстро вырыли окоп в песчаном грунте, и я вскочил в него, спасаясь от пуль и осколков. Появился командир поддерживающего полк гаубичного артдивизиона, представился и стал подавать команды на открытие огня. Дальше мы не продвинулись. Наступила ночь. Поручаю заместителю прочесать полковые тылы и всех солдат, способных воевать, поставить в строй. Удалось набрать 20 бойцов».
Замечу, что в 9 ротах стрелкового полка должно было быть 738 человек, а в 620-м полку армии Гордова, как видите, осталось 20, но Гордов гнал этот «полк» в наступление, исполняя решение фронта и этим рекомендуя себя фронтовому начальству как прекрасного командующего армией, чётко исполняющего приказы.
(Между прочим, Толконюк в этой ситуации разумно воспользовался тем, что у него было — миномётами и приданным гаубичным дивизионом. Он, бывший артиллерист, в считанные минуты того единственного момента, когда немцы сосредотачивали силы для удара, не растерялся и организовал на них налёт огнём своей артиллерии. Этим он заставил немцев отойти, и 620-й «полк», захватив в результате этого боя три подбитых танка и шесть артиллерийских орудий, в результате взял пункт Губино, которым на тот момент стремилась овладеть 33-я армия. Гордов за этот бой наградил всех, — заместителю Толконюка дал орден Красного Знамени, — но самого Толконюка не наградил ничем. Отказ Толконюка уходить с должности командира 620-го полка тоже был проигнорирован — его приказом Гордова снова вернули на прежнюю должность в штаб 33-й армии. Вообще-то в описании Толконюка Гордов предстаёт тем ещё самодуром.)
Итак, Гордова наказали снятием с должности командующего Сталинградским фронтом за трусость, это его оскорбило, в результате он исправился и даже стал бравировать своей храбростью, но ему не объяснили, что он не пригоден ещё и из-за своего малодушия, из-за отсутствия смелости — из-за неспособности принимать собственные решения. И он продолжал губить людей. Смотрите, что произошло дальше.
Наказание за отсутствие смелости
«Анализируя результаты многочисленных наступлений армии на оршанском направлении и под Витебском, приводивших, как мне казалось, к неоправданным потерям, я все больше и больше убеждался, что наша армия не только с согласия, но и по прямому требованию командования фронтом, действует неправильно. Я считал, глядя со своей невысокой колокольни, не только нецелесообразным, но и вредным воздействовать на противника «булавочными уколами», проводя частые наступательные операции при малых силах и средствах. Мне представлялось, что вместо нескольких мало результативных попыток прорвать оборону противника следовало провести одно солидное наступление, хорошо подготовленное и надежно обеспеченное материально-техническими средствами, с наличием сильных вторых эшелонов для развития прорыва и достаточных резервов для замены в ходе наступления утративших наступательные возможности соединений», — пишет Толконюк.
«Я откровенно высказывал свои суждения начальнику штаба и командующему, настойчиво предлагая прекратить наступление и готовить солидную операцию. Начальник штаба отмахивался от меня, требуя не заниматься не своим делом, а выполнять то, что от меня требуется. Командарм, напротив, с интересом выслушивал мои рассуждения, но каждый раз отклонял предложения, указывая на тот факт, что я, как начальник оперативного отдела, не несу ответственности ни за армию, ни за её действия, а поэтому мне, дескать, легко рассуждать. А командарм не волен обрекать армию на пассивность и бездействие. К тому же ему не дано определять армии оперативные задачи.
Не получив поддержки внутри армии, я решил обратиться непосредственно к командующему фронтом генералу армии В.Д. Соколовскому. О своем намерении я сообщил начальнику штаба и командарму. Генерал Гордов, к удивлению, отнесся к моему замыслу спокойно, сказав, что он не возражает и препятствовать мне не намерен. Вскоре в армию приехали основные члены Военного совета фронта: командующий генерал армии В.Д. Соколовский, член Военного совета генерал-лейтенант Л.З. Мехлис, командующий артиллерией генерал-полковник М.М. Барсуков — мой бывший командир дивизиона по артучилищу. В блиндаж, где находились эти начальники, а также генералы Гордов, Бабийчук и Киносян, меня вызвал командарм и дал задание подготовить какие-то справки и расчеты, касающиеся дальнейшего наступления. Когда настало время мне уходить, командарм задержал меня и объявил, что я хочу обратиться к командующему фронтом с предложением. Генерал Соколовский заинтересовался и выразил готовность выслушать. Слушая мои соображения, генералы Соколовский и Мехлис загадочно переглядывались, что невольно вызывало бег мурашек по моему хребту. Я опасался реакции Мехлиса, разговоры о беспощадности и свирепости которого мне случалось неоднократно слышать. Ходили слухи, что он вгорячах мог запросто расстрелять любого офицера, поступок которого ему покажется заслуживающим наказания. Но отступать было некуда и я высказал все, что намеревался, закончив предложением прекратить не сулившее успеха наступление.
Высокие начальники какое-то время молчали, а я с тревогой ждал их реакции.
— Мы вас, полковник Толконюк, выслушали с вниманием, — прервал томительное молчание генерал Соколовский. — Вот что я вам скажу: наступать будем.
В пользу наступления командующий фронтом не привел никаких доводов, и это меня огорчило. «Будем, так будем. Дело ваше», — ответил я грустным голосом и попросил разрешения идти работать.
И мы снова наступали, но по-прежнему без ощутимых территориальных результатов и с большими потерями в людях.
И вот ко мне пришло решение обратиться со своими соображениями к Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину. В коротком письме я изложил свое суждение, указав, что Западный фронт ведет операции неправильно, в результате чего несет огромные потери в людях, боевой технике и расходует массу боеприпасов и других материальных средств распыленно по времени и месту, а не сосредоточенно для достижения решающего успеха. Приведя некоторые цифровые показатели на примере 33-й армии, я утверждал, что если бы все израсходованные на мало результативные операция людские и материальные ресурсы были использованы в одной хорошо во всех отношениях подготовленной наступательной операции, то результаты были бы значительные. Одним словом, я выступал против распыления сил и средств по времени и месту.
Содержание письма носило сугубо секретный характер, и отправить его в Москву можно было только по линии фельдъегерской связи. Но и в этом случае пакет, адресованный И.В. Сталину, непременно был бы перехвачен и доложен командованию армии или фронта. В то время при армии состоял офицер — представитель Генерального штаба подполковник Резников, с которым у меня сложились доверительные дружеские отношения. Я обратился к Резникову за советом, дав ему прочитать послание. Он одобрил содержание письма и взялся доставить его офицеру — представителю Генштаба при штабе фронта полковнику Соловьеву, а тот, заверял Резников, лично доставит пакет в Генштаб. Так и поступили. Письмо дошло до адресата».
Поскольку Толконюка по-сути похвалили за это письмо (кто похвалил, Толконюк не пишет), то он подспудно считает, что послужил причиной снятия генерала армии Соколовского с должности командующего Западным фронтом. Между тем, наслушавшись, скорее всего, послевоенных сплетен о Мехлисе, Толконюк совершенно не воспринимает Мехлиса как человека, внимательно выслушавшего его предложения и оценившего ситуацию с командными кадрами Западного фронта самостоятельно. А напрасно.
Дело в том, что Сталин, даже по правильному письму полковника, не принял бы мер против генерала армии, поскольку что-что, а доносы друг на друга наши полководцы писать умели — один 1937 год чего стоит. Скажем, генерал Горбатов отсидел в лагере (откуда его вытащил Будённый) только потому, что на него написали доносы и показали, что он, Горбатов, враг народа, сразу двенадцать его коллег — офицеров и генералов. Более того, наши генералы умели писать доносы и от лица «народа», т. е. заставляя какого-нибудь подчинённого их подписывать, чем придавали таким доносам вид «голоса снизу».
Вот характерный пример, который, сам того не понимая, даёт «приобщившийся к демократическим ценностям» биограф Мехлиса Юрий Рубцов.
«В сентябре 1943 года в войсках Брянского фронта работал корреспондент «Красной звезды» майор В. Коротеев. Чего же надо было наслушаться рядовому журналисту, чему же стать свидетелем, чтобы решиться на письмо в адрес секретарей ЦК партии Маленкова и Щербакова, полностью посвящённое отношению в войсках фронта к Мехлису. «Его боятся, не любят, более того, ненавидят, — заявлял Коротеев. — Происхождение этой неприязни вызвано, видимо, крутыми расправами т. Мехлиса с командирами на юге, на Воронежском и Волховском фронтах, известия, о которых распространились, по-видимому, в армии и о которых здесь, на Брянском фронте, тоже знают».
Корреспондент привёл несколько фактов, подтверждающих, что крутой нрав, резкость, безапелляционность Мехлиса и здесь цвели пышным цветом. Некоторые из фактов для любого другого политработника такого уровня были бы просто убийственны. «Каждую смену в командном или политическом составе на Брянском фронте, наверное, не без оснований приписывают новому члену Военсовета. В первые дни приезда т. Мехлиса сюда был заменён зам. начальника штаба фронта полковник Ермаков. Ермаков пользовался большим уважением людей как умный и опытный, по-настоящему обаятельный командир, который умел организовать порядок в штабе…
На место Ермакова был поставлен полковник Фисунов — бывш(ий) секретарь т. Мехлиса. По мнению командиров, которое надо разделить, после замены Ермакова порядка в штабе ничуть не прибавилось, т. к. заботы Фисунова главным образом касаются Военторга».
Такие примеры не единичны, люди запуганы, подчёркивает Коротеев, признаваясь, как нелегко было ему решиться на письмо и что он единственно стремился раскрыть глаза руководству, «чтобы ЦК нашей партии, тов. Сталин знали бы это настроение командиров и политработников по отношению к генералу Мехлису». Наивный, будто для них это было тайной».
Тут то ли наивным, то ли просто дураком выступает сам Юрий Рубцов («приобщение к демократическим ценностям», как известно, для мозгов даром не проходит). Это каким же жизненным опытом нужно обладать, чтобы штаб фронта представлять в виде оптового рынка, куда любой корреспондент, посланный отыскивать подвиги солдат на передовой, может зайти, чтобы «побазарить» с тамошними генералами и полковниками? Да не о ком-нибудь, а о втором должностном лице фронта! Ведь ежу понятно, что этому, уклоняющемуся от передовой корреспонденту, посулили боевой орден, если он своим именем подпишет сведения, которые подготовил какой-то штабной чин, имевший основания боятся Мехлиса, может тот же полковник Ермаков.
Но биограф Мехлиса Ю. Рубцов невольно подтверждает, что Толконюк действительно играл роль в вопросе снятия Соколовского и Гордова со своих должностей, но только не ту, которую сам Толконюк предполагает. Не его письмо к Сталину сыграло роль, а то, что он свои предложения высказал Соколовскому в присутствии Мехлиса. Западный фронт, которым с февраля 1943 года командовал Соколовский, нёс большие потери, а результаты имел скромные, и в декабре 1943 года Сталин назначает членом Военного совета этого фронта Мехлиса, и цель этого назначения очевидна — Мехлис должен был понять, в чём дело.
Представьте, что вы честный, умный человек, беззаветно преданный Родине, и представьте себя на совещании, описанном Толконюком. В результате вы увидите ситуацию глазами Мехлиса, и она будет выглядеть так.
Штаб командующего 33-й армией генерала Гордова вносит очень толковое предложение, которое сбережёт жизнь советских солдат и позволит быстрее разгромить немцев. Соколовскому требуется принять это решение, но это решение смелое — ведь нужно будет убедить Генштаб, что планы, по которым действует Западный фронт, и которые уже утверждены Генштабом, на самом деле не хороши, нужно будет убедить Сталина приостановить фронт в наступлении, дать фронту пополниться, дать перегруппироваться. И полезность этого Соколовский не мог не понимать. Но тогда будущая операция будет плодом решения только самого Соколовского (на полковника Толконюка ответственность ведь не переложишь), и если будущая операция окончится провалом, то Соколовскому не на кого будет свалить вину за этот провал. После принятия предложения Толконюка, операция будет принадлежать только Соколовскому, а не Генштабу и не Сталину. И Соколовский малодушничает — он отказывается от предложения Толконюка. Сам Толконюк мотивов поступка Соколовского не понял, но ведь Мехлис-то не вчера родился…
Не понял Толконюк и причин снятия Гордова. Сам Толконюк, сообщив о снятии Соколовского, эти причины и процесс снятия с должности Гордова описывает так.
«Тем временем генерал-полковник В.Н. Гордов, не знавший ни минуты душевного покоя, дошел до крайнего морального истощения, переутомившись физически и морально и теряя контроль над своими поступками. Его грубым обращением с подчиненными и некоторыми действиями как командарма высшее руководство было недовольно. Особенно неприязненно к нему относился генерал Мехлис, к которому Гордов, в свою очередь, не питал уважения и не скрывал этого. Достаточно было какого-то толчка, чтобы генерал Гордов расстался с армией, которой он за полтора года командования отдал все, что может отдать честолюбивый человек, не щадивший ни себя, ни подчиненных в тяжелых боях за интересы Родины, которой он, несмотря на недостатки характера, был беспредельно предан. И такой толчок не заставил себя ждать.
Одна из дивизий нашей армии в ходе наступления захватила небольшой плацдарм на р. Лучеса и, отражая многочисленные контратаки, с трудом удерживала занимаемые позиции, неся большие потери в людях. Командарм, не имея возможности оказать дивизии существенную помощь и опасаясь за плацдарм, находился в степени крайнего возбуждения. В это время кто-то доложил ему по телефону, что дивизия истекает кровью в тяжелом бою на плацдарме, а некоторые её офицеры во втором эшелоне штаба пьют водку и играют в карты. В частности, был назван капитан Т. Возмущенный генерал не нашел ничего другого, как приказать расстрелять капитана за трусость и уклонение от боя. Почему этот офицер политотдела дивизии оказался в тылу, никто не разобрался, и трагическое приказание слепо было выполнено. За самоуправство и превышение власти Военный совет фронта объявил генералу Гордову выговор и записал в своем решении, что о случившемся доложит Ставке. В.Н. Гордов обиделся и послал шифровку в Москву, высказав недовольство, что ему, дескать, мешают требовать от подчиненных добросовестно воевать и наказывать трусов. Поскольку так обстоит дело и ему не доверяют, то пусть, писал он, снимут его с должности командарма. В итоге он был освобожден от должности командующего 33-й армией и отзывался в Москву. Это произошло в середине марта. Вместо Гордова командармом назначался генерал-полковник Иван Ефимович Петров.
Замена командующего была воспринята в штабе армии по-разному: одни одобряли снятие Гордова и откровенно радовались, другие жалели боевого генерала и сочувствовали ему, третьи отнеслись безразлично, по пословице: «Для нас что ни поп, то дядько».
Сдавая должность, генерал Гордов пригласил меня к себе и попросил подготовить для него справку, характеризующую результаты боевых действий армии под его командованием. Мне не потребовалось много времени, чтобы с помощью имевшихся отчетных документов и чертежника отдела, художника своей специальности, сержанта В.И. Кондратьева отработать наглядную топокарту с показом территории, освобожденной армией от фашистских оккупантов за время командования генерала Гордова. В написанной на карте легенде мы указали, сколько освобождено квадратных километров советской земли, населенных пунктов и населения. В прилагавшейся справке говорилось о количестве уничтоженных и плененных солдат и офицеров противника, поврежденной и захваченной боевой техники и т. п. Справка о наших потерях была умышленно подготовлена отдельно.
Генерал Гордов, рассмотрев документы, спросил, почему я не указал наши потери?
— Сколько советских людей я отправил на тот свет и сделал калеками, тоже придется отчитываться, — заметил он иронически!
Я передал ему и эту справку, но порекомендовал не показывать И.В. Сталину, если тот не потребует».
Толконюк здесь не прав, поскольку снят Гордов с должности был не как бандит, а как полководец. Ещё раз поставьте себя на место Мехлиса на совещании, описанном Толконюком. Если бы Гордов разделял планы Толконюка, то он сам бы доложил их командующему фронтом, возможно только сославшись, что это идеи одного толкового полковника из его штаба. Если не разделял, то зачем загрузил Соколовского докладом Толконюка? Мехлис сразу понял «проститутскую» позицию Гордова — если начальство — Соколовский — одобрит идею Толконюка, то это его, Гордова, заслуга — это же он предложил выслушать Толконюка. Если не одобрит, то Гордов не виноват — это же не его идея, а какого-то молодого чудика-полковника из его штаба, которого он предложил Соколовскому выслушать для развлечения.
Поэтому по предложению Мехлиса с командования 33-й армии сняли сначала Гордова, а с командованием фронта разобрались позже. Ю. Рубцов, чтобы исказить образ Мехлиса в угоду «демократическим ценностям», редко цитирует его документы в объёме, позволяющем понять их контекст, поэтому в чём обвинял Гордова Мехлис, придётся понять из вот такой цитаты Рубцова.
«Крайне отрицательные отзывы дал член ВС начальнику артиллерии Западного фронта генерал-полковнику артиллерии И.П. Камера и командующему 33-й армией генерал-полковнику В.Н. Гордову. «Стиль работы — штаб побоку. Болтовня и разглашение тайны по телефону», «ненависть к политсоставу и чекистам» — после таких оценок оба генерала были отозваны с Западного фронта».
Начальник артиллерии не командует ею отдельно от командующего фронтом, этот начальник по сути и является начальником штаба артиллерии фронта. Посему характеристика Мехлиса: «Стиль работы — штаб побоку», — может относиться только к командующему армией Гордову. И вы видите, как воспоминания Толконюка совпали с документами Рубцова: поприсутствовав на совещании, Мехлис понял, что из себя представляет Гордов, понял, что Гордов боится предложений своего штаба, посему и «штаб побоку».
Но в данном случае характерно, как это второе наказание (второе снятие с должности) повлияло на Гордова. Теперь его сняли, как видите, за отсутствие смелости — за отсутствие собственных творческих идей, применительно к задачам, стоящим перед армией. А в 33-й армии ему эти идеи давал полковник Толконюк. И смотрите, что делает Гордов после того, как ему объяснили его полководческий дефект и назначили командовать 3-й Гвардейской армией. Толконюк сообщает: «До победы он успешно командовал этой армией и окончил войну Героем Советского Союза.[14] Мне он прислал несколько коротких писем как из Москвы, так и из армии. Как ни странно, но генерал Гордов, от которого я имел массу неприятностей, став командующим другой армией, настоятельно ходатайствовал о назначении меня к нему начальником штаба. А мне он писал так: «Приезжай ко мне, пожалуйста. Мне, старику, трудно без тебя». Но моя дальнейшая служба сложилась так, что я больше с ним не служил и не встречался. До меня лишь дошли слухи о его незавидной судьбе в послевоенные годы».
Вот и скажите после этого, что от наказаний, наложенных Сталиным, не было эффекта. Не будь этих наказаний, то сколько бы ещё советских солдат положили на полях боёв той войны наши доблестные полководцы?
Как выше уже говорилось, анализ обстановки с командованием на Западном фронте, который подготовил и послал Сталину Мехлис, в конечном итоге привёл к снятию с должности и командующего фронтом В.Д. Соколовского, но, конечно, Сталин выслушал мнение не только Мехлиса. Рубцов пишет:
«После письма Мехлиса в адрес Верховного Главнокомандующего в войска Западного фронта прибыла чрезвычайная комиссия Ставки ВГК, которая выясняла причины неудач в наступательных операциях конца 1943-начала 1944 года. Здесь были действительно допущены серьёзные провалы: ни одна из одиннадцати наступательных операций не принесла успеха, несмотря на большие потери. Тем не менее, комиссия, которую возглавлял член ГКО Маленков, в основном разбиралась не по существу дела, а искала виновных в соответствии с готовыми установками Сталина. Последние же сформировались на материалах доклада Мехлиса.
И полетели головы, посыпались взыскания. Прежде всего своей должности «за неудовлетворительное руководство фронтом» лишился генерал Соколовский. Досталось и генерал-лейтенанту Булганину, к этому времени уже несколько месяцев как покинувшему фронт. В приказе Ставки ВГК от 12 апреля 1944 года ему объявлялся выговор — обратим особое внимание — «за то, что он будучи длительное время членом Военного совета Западного фронта, не докладывал Ставке о наличии крупных недостатков на фронте».
Любопытно, что, очевидно, в обвинительном раже члены комиссии Маленкова в своём докладе Сталину, на основе которого были приняты постановление ГКО и процитированный выше приказ Ставки, такое же взыскание предлагали объявить Мехлису. И за ту же самую вину: мол, не докладывал Ставке. В тексте приказа от 12 апреля этого пункта, однако, уже нет — здесь, видимо, не обошлось без вмешательства вождя. Он-то знал, что доклад был, и к тому же, вероятно, посчитал не «гуманным» дать своему верному информатору на себе ощутить, что стоит за народной мудростью: доносчику — первый кнут».
По поводу последней сентенции Ю. Рубцова остаётся только пожалеть, что в этих одиннадцати наступательных операциях, которые бездарно провёл Соколовский, не участвовали прямые родственники Рубцова, а то, может быть, мы сегодня имели бы на одного «приобщившегося к демократическим ценностям» поменьше.






