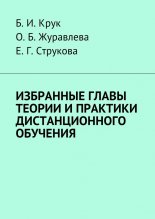Ворон. Сыны грома Кристиан Джайлс
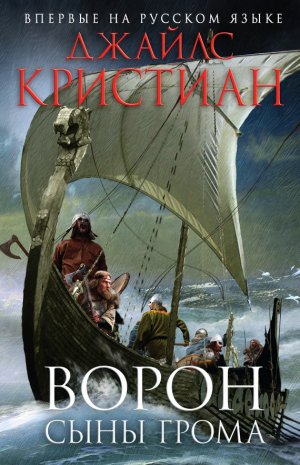
– Ты хочешь, чтобы я просил эту кунью морду молиться христианскому богу? – произнес я, преувеличив свое негодование.
Пенда пожал плечами, словно спрашивая, какой от этого может быть вред.
– Да я скорее соглашусь прожевать горсть гвоздей, – ответил я, а он, почесав свой длинный шрам, пожал плечами снова.
Сказать правду, я уже почти готов был подбежать к монаху, схватить его за тощую шею и вытрясти дюжину молитв из той дырки на его лице, что никогда не закрывалась. Может, я так бы и сделал, если бы не боялся еще пуще разгневать Одина, ведь мы и без того словно шагали по тонкому льду. Мои надежды были в руках Всеотца, как знамена, вывешенные на столбе, и, призвав на помощь другого бога, я мог навлечь на нас такой ветер, который вырвал бы столб из земли. Поэтому я решил не трогать Эгфрита с его распятым Христом и вновь принялся шептать, взывая к Одину, Великому Страннику. Я молился до тех пор, пока мое горло не пересохло, будто старый заросший сорняками колодец.
Нить жизни Сигурда натягивалась и скручивалась, но не рвалась. Улаф, Асгот и Кинетрит, объединив свои познания, ухаживали за ним так усердно, как только могли. Они обмывали его раны, прикладывали к ним припарки из подорожника и других растений, которых я не знал, затем туго перевязывали каждое больное место чистыми тряпицами. Сигурду давали мясо для силы и травы для облегчения страданий, в горло ему вливали воду и мед. Асгот непрестанно окуривал его густым дымом, обладавшим удивительной способностью навевать больному сон, чтобы тот не чувствовал боли. Даже Эгфрит не остался безучастным: он куда-то исчез, а затем вернулся с пригоршней семян фенхеля, сказав, что сам император Карл повелел сажать это растение во всех огородах своей земли из-за его целебных свойств. Асгот скривил губу, но Улаф убедил его попробовать христианское снадобье: мол, тот, кто молится богу, который, как говорят, воскрес из мертвых, должен знать толк в укрепляющих травах.
Викинги ждали. Мы не способны были сами решить, что делать дальше. Кто-то предложил повести корабли на север. Иными словами, не ждать новых потерь и вернуться домой. Но большинство не согласилось, ведь повернуть назад сейчас означало признать поражение. Викинг, поступавший так, отдавался во власть волн. Он не заслуживал покровительства богов и мог вскоре, никем не замеченный, отправиться на дно. Уж лучше плюнуть в глаза тем, кто плетет судьбы, и будь что будет!
Наши пленные приобрели жалкий вид и уже начинали вонять. Мы их почти не кормили. То и дело рассерженный викинг бил или пинал сакса в лицо. Чтобы получить затрещину, англичанину довольно было косо на нас взглянуть. Мы винили этих людей в том, что скамьи у весел наших кораблей опустели, равно как и во всех прочих постигших нас невзгодах. Эльдреда, однако, никто не трогал – Сигурд сам должен был поквитаться с этим ползучим гадом. Правда, Асгот, которому не терпелось принести кого-нибудь из англичан в жертву Одину, не раз собирал вокруг себя толпу, призывая всех, кто желал слушать, обагрить свои мечи английской кровью. Единственное, чем радовали меня эти речи, было то, что, едва жрец начинал говорить, Кинетрит подходила ко мне и садилась рядом. Слов старика она, конечно, не понимала, но звериная жестокость, какою наливались его глаза, внушала ей отвращение. Взяв меня за руку и почти ничего не говоря, Кинетрит безотрывно смотрела в дальний конец лагеря, где сидел ее отец. Иногда я замечал, что они обмениваются взглядами, вопросительными или удрученными, хотя предпочел бы этого не видеть.
На четвертый день Асготу как будто удалось добиться своего. Одного из англичан, дюжего воина с густой черной бородой и длинными редеющими волосами, оттащили от соплеменников и поставили к столбу, который Свейн Рыжий вбил в землю. Я, оставшись в стороне, принялся укрывать шкурами поленницу, хотя на небе не было ни облачка. В последние дни я более, чем следовало бы, помешал плетению наших судеб, и теперь соглашался со всем, что бы ни решили другие.
– Боги любят старые обычаи, и мы не станем их нарушать, – сказал Асгот, указывая на столб худым узловатым пальцем. Голос жреца был трескуч, как горящая древесина. Некоторые из викингов кивнули и одобрительно забормотали. Иные, менее знакомые со старыми обычаями, нахмурились. Асгот провел невидимым лезвием по животу англичанина: – Я вспорю ему брюхо, выну конец его кишки и прибью к столбу. Он будет ходить по кругу, – Асгот начертил в воздухе петлю, – как змей Йормунганд, что кусает собственный хвост, дабы опоясать мир. Он будет ходить, пока кишки не размотаются и не потянут за собою мясо. Да, с виду он сильный. – Жрец ухмыльнулся, оглядывая английского воина. Челюсти пленника были стиснуты, но глаза превратились в две дыры, наполненные страхом. Даже не зная норвежского, он понял, какая смерть ему уготована. – Он выдержит все до конца, – продолжал Асгот, – ну а если нет, то пожалеет, что не засох в гнилой утробе своей потаскухи-матери.
Я едва не улыбнулся. Смотреть, как твои кишки наматываются на столб, – ничего хуже этого уже не придумаешь.
– Бедный ублюдок! – пробормотал Пенда, которому тоже не потребовались мои объяснения.
– Так поступали наши деды. – Жрец взмахом велел Флоки Черному поднять пленного на ноги. – Так поступим и мы.
Все, кроме шестерых или семерых дозорных, собрались, чтобы смотреть обряд. В дрожащем воздухе пахло ожиданием кровопролития. Флоки толкнул англичанина к столбу, а двое других викингов схватили его за руки: любой попытался бы выскользнуть, как скумбрия, при виде клинка, направленного на свой живот.
Асгот со свистом вынул нож из кожуха. Кинетрит, сидевшая рядом со мной, сжалась.
– Убери оружие, годи! – Мы обернулись. Сигурд. Его лицо посерело, как пепел, и так исхудало, что скулы, казалось, могли прорезать кожу. Почти раздетый (на нем были лишь грязные штаны да повязки, запятнанные потемневшей кровью), он с трудом встал. – Сегодня мы не будем приносить жертву.
Взгляды викингов обратились на Асгота.
– Но Всеотец ждет, мой ярл! – произнес жрец, взмахнув обеими руками, одна из которых по-прежнему сжимала страшный нож.
По его лицу я понял, что он не меньше нашего удивился, увидев Сигурда на ногах. Казалось, ярл вот-вот упадет ничком. Он походил на мертвеца, покинувшего могилу, чтобы устрашать живых.
– Хольмганг удался на славу. Не каждый день посчастливится завалить такого злого старого кабана, как Маугер. – Позеленевших губ Сигурда коснулась болезненная улыбка. – И потому эти саксы будут жить.
Викинги зароптали. На их потемневших лицах явственно выразилось недовольство.
– Что он сказал? – спросила Кинетрит, сжимая мою руку.
– Он помилует их, – ответил я. – Может быть.
Сигурд указал на жалкую горстку англичан, которые сидели за камнем, истертым волнами и наполовину утонувшим в песке.
– Воины будут жить, но Эльдред умрет.
Кинетрит снова спросила, что сказал ярл, но на сей раз я солгал, будто не понимаю некоторых норвежских слов.
Раздался одобрительный гул. Еще мгновение назад викинги бы с радостью стали смотреть, как их жрец потрошит пленных одного за другим. И все же норвежские воины поняли и разделили уважение своего ярла к достойному врагу. Никто не поспорил бы с тем, что Маугер сражался как храбрый и сильный воин, тем самым усилив блеск Сигурдовой славы. Но Эльдред в их глазах был жалкой кобылой, трусом и не заслуживал милости.
От Асгота я все же ожидал, что он расшумится, будто море в непогоду, однако годи лишь кивнул, вложил нож в кожух и махнул викингам, чтобы те отпустили дюжего сакса. Флоки Черный толкнул англичанина, и тот заспешил к своим соотечественникам.
– Ты хочешь просто их отпустить? – спросил Улаф, с сомнением глядя на Сигурда. – Они же христиане! Они отыщут там, в глубине суши, какое-нибудь селение, а то и прибегут к самому Карлу, и на наши головы свалится целое полчище полоумных рабов Белого Христа.
Сигурд устало покачал головой:
– Нет, Дядя, никуда они не побегут. У них нет больше господина, а у нас не хватает гребцов.
Лицо Улафа под кустистой бородой побагровело как ошпаренное.
– Ты хочешь, чтобы они плыли с нами на наших драконах? Чтобы их руки касались наших весел?
– Они могут выбрать смерть, Дядя. Я оставляю им это право.
Мы переглядывались, как тролли-полудурки. То, что наши недавние враги могут быть удостоены мест на борту «Змея» или «Фьорд-Элька», возмутило нас. Но Сигурд сказал правду: нам не хватало сильных рук. Даже пяти пар было бы недостаточно.
Скорчившись от боли, ярл подошел к пленным. Как только он пошевелил левой ногой, на льняной повязке ниже колена расцвело ярко-красное пятно.
– Мои весла или его нож, – сказал Сигурд, кивнув в сторону Асгота. – Выбирайте прямо сейчас. – Голос ярла был ослаблен болью, однако тверд, как скала. Воины невольно посмотрели на Эльдреда, но Сигурд покачал головой. Вялые пряди волос упали на лицо. – Не спрашивайте у него. Он теперь ничто. Он решает меньше, чем побитая собака, и скоро станет едой для червей. Выбор только за вами. Весла или смерть.
Большой косматый воин, который недавно был так близок к тому, чтобы познать себя изнутри, поглядел на нас, затем остановил взгляд на Сигурде и, кивнув, осмелился спросить:
– Мы сможем, как и прежде, молиться Господу?
– Белому Христу? – Сигурд поморщился от боли. Англичанин снова кивнул, слегка съежась. Ярл пожал плечами: – Мне все равно.
– Тогда мы будем грести, – заявил сакс, не советуясь с остальными.
Эльдред посмотрел на дочь глазами человека, который видит, что на голову ему вот-вот рухнет дуб и уже поздно пытаться убежать.
Итак, включая Пенду, среди наших гребцов появились шестеро англичан. Еще недавно мы считали этих людей смертельными врагами.
Вскоре им было суждено спасти наши жизни.
Глава 9
Еще два дня Сигурд не вставал со своего ложа из кож и мехов. Мы радовались тому, что вокруг, сколько видит орлиный глаз, не показалось ни единой живой души. Правда, начался дождь, и Улафу было нелегко оберегать раны Сигурда от влаги, чтобы те не загноились. Кинетрит и Асгот вместе ходили в лес на поиски лекарственных трав, что не слишком-то мне нравилось, но ради ярла я готов был проглотить даже такое.
– Этим двоим под силу оживить и мертвого. – Улаф, приподняв брови, кивком указал на девушку и жреца, приготовлявших какую-то непривлекательную на вид припарку. – Клянусь собственным носом. – Видимо, заметив, что мне неприятно видеть Кинетрит рядом с Асготом, он едва заметно ухмыльнулся: – Странная парочка, верно? Они как кошка с собакой, которые делят подстилку у очага.
– Греясь у одного огня, кошка и собака не становятся друзьями, Дядя, – угрюмо ответил я.
Улаф усмехнулся и, оставив меня наедине с моими думами, пошел смотреть варево, бурлившее в котле. Тогда мне еще не было известно, что старый жрец уже вонзил в Кинетрит свои когти, но, даже знай я это, что я мог с ним сделать, пока он был нужен Сигурду?
Я проводил время, обучаясь обращению с топором у Свейна и Брама. Это был не простой одноручный топорик, какой многие из нас носили за поясом и использовали для обороны, если мы выстраивали стену из своих щитов, или же просто для того, чтобы рубить ветки для костра и взламывать вражеские двери. Это был двуручный топор с длинной рукоятью. При построении стеной он неудобен: когда орудуешь им, нужно свободное место, и живот твой остается неприкрытым. Зато стоит тебе подобраться с ним к неприятелю – и он покойник. Держа в руках такое оружие, проникаешься почтением к тому, кто его изготовил. По счастью, мне, как подмастерью плотника, было не впервой браться за топор. А гребля закалила мышцы моих плеч и спины, дав им необходимую силу. Я еще не умел выписывать топором в воздухе такие узоры, как Свейн, Брам Медведь или Улаф, но знал, что однажды научусь: я заставлю его петь и шептать, сверкая на солнце. Ну, а пока упражнения отгоняли от меня мысли о судьбе Сигурда и моем участии в ней.
На третий день ярл вновь встал и на сей раз сам свернул свою постель, как бы показывая, что его болезни положен конец. Он все еще был слаб, и раны отнюдь не затянулись, хотя, по заверению Улафа, они заживали быстро. Асгот признал: если Сигурд, пролив так много крови, так скоро поднялся, то милость Всеобщего Отца, должно быть, по-прежнему с ним. Однако к этому жрец прибавил, что глуп тот, кто укусит монету Сигурдовой судьбы и крикнет: «Серебро!» – ибо благоволение Одина изменчиво и быстро улетучивается. «Проще прибить к двери воздух, чем узнать волю Копьеметателя», – проворчал Асгот.
Я, обливаясь потом, чертил в воздухе петли топором Брама и вдруг краем глаза увидел Сигурда. Он смотрел на меня, и я стал упражняться с особым тщанием, чтобы один круг плавно перетекал в другой, как рисунок, вырезанный искусным мастером на броши или на носу корабля. Увы, то, что у меня выходило, скорее походило на те узоры, которые пьяница выводит мочой на стене.
– Подойди, Ворон, – сказал ярл, и от этих двух слов я ощутил такую тяжесть, будто проглотил моток заледенелой веревки.
– Что-то будет, – вполголоса пробормотал один из викингов.
– Ты был славным малым, парень, – рыкнул другой.
– Скажи ему, что он по-прежнему хорош собой, – прорычал Брам Медведь, заслоняя рукой рот. – А то потом можешь не успеть.
Обод Маугерова щита резался Сигурду в висок, и теперь на этом месте была сморщенная гнойная рана, которая, верно, очень болела. Щеку рассек обломок стали, и пальцы англичанина расковыряли надрез, точно когти орла, вонзенные в рыбье тело. Ясно было, что останется большой шрам.
Собравшись с духом, я преодолел десять шагов, отделявших меня от моего ярла. Они показались мне десятью милями.
– От одного вида секиры[14] враг утратит мужество. – Сигурд произнес норвежское слово argr, которое само по себе разит, как удар топора, ибо означает «недостойный мужчины». – Дай-ка сюда.
Он протянул руку. На костяшках темнели кровяные корки. Когда я передал ему топор, он, кивнув, взял его обеими руками и, прежде чем я успел попросить его не утруждаться, описал в воздухе два круга-близнеца, перетекших один в другой с восхитительной плавностью. При этом сосредоточенное лицо ярла искривилось. Он едва встал со смертного одра, и все равно мои потуги были барахтаньем утопающего в сравнении с его искусством. «На то он и ярл», – сказал я себе в утешенье, когда Сигурд резко остановил вращение секиры и передал ее мне. Тяжелый пот струился по его болезненному лицу и грязной бороде.
– Боевой топор – достойное оружие. – Ярл тяжело дышал, и я видел, что ему больно. Свежий гной, желтый, точно сливки, выступил на израненном лице. – Превосходная вещь! Кишки врага растают, и он со страха опоганит собственные башмаки. Упражняйся как следует, Ворон. Хотя на твоем месте я отыскал бы учителя получше.
Брам сделал знак, который я бы ни с чем не перепутал, находясь даже на вершине горы. Теперь Сигурд подмигнул мне. Медведь зарокотал, как вода, падающая с далекой скалы, и ярл слабо улыбнулся. Одно мгновение мы молчали, после чего Брам, верно истолковавший эту тишину, удалился, оставив нас двоих на краю рощи. Небо над морем почернело. Где-то далеко зрела буря.
– Может, если б во время хольмганга секира была при мне, я бы отделался парой волдырей на ладонях.
После этих слов серебряное кольцо на моей руке словно врезалось мне в кожу. Я дернул его, пытаясь снять, но вдруг Сигурд дотронулся до меня, я посмотрел в суровые голубые глаза своего ярла и чуть не заплакал.
– Ты правильно поступил, Ворон, – сказал он.
– Господин?
– Маугеру повезло, что ему достался такой щитоносец.
– Но господин… я…
– Ты сделал то, что я велел тебе делать. И сделал хорошо. Даже немного слишком хорошо – это верно… – Сигурд поморщился, прикоснувшись к ране на виске.
– Я думал, ты отрежешь мне яйца, – сказал я, сдерживая улыбку облегчения.
– Если одна из этих ран позеленеет, то как знать… А почему, ты думаешь, именно тебя я назначил щитоносцем Маугера?
Я пожал плечами:
– Самим норнам не разгадать твоих замыслов, господин.
Сигурд приподнял бровь.
– Я назначил тебя щитоносцем Маугера, потому что знал: ты будешь его защищать. Я мог бы попросить Флоки, Бьорна или Бьярни. Да любого из них. – Он кивнул на своих викингов. – Но разве их сердца позволили бы им встать между моим мечом и таким куском дерьма, как Маугер? Флоки, к примеру… Он махал бы щитом туда-сюда, чтобы все до поры до времени выглядело, как надо. Однако мне пришлось бы убить Маугера при первой же возможности. – Сигурд провел рукой, будто ножом, по внутренней стороне бедра. – Иначе Флоки бы мог перерезать англичанину вены, пока никто не видит.
– Именно так мне и следовало поступить, – сказал я, вспомнив, каков был Маугер – этот полутролль, гнилая жабья икра.
– Нет, Ворон, и я знал, что ты так не поступишь. По крайней мере, надеялся. – Он чуть отступил назад и провел руками по телу. – Посмотри на меня, парень, я цел. Получил только несколько новых царапин в дополнение к старым. Они станут напоминать мне, что с врагами нужно расправляться быстро, а не играть, словно кошка с мышью.
Неужто Сигурд вправду верил, будто сам определял ход поединка? В моих глазах эта битва была отчаянным, ожесточенным спором, в котором судьба благоволила то одной, то другой стороне, как морские волны, то наступающие на берег, то отступающие от него.
– Люди видели, что я выиграл поединок. Хей, да еще какой поединок! Скальд мог бы сложить о нем песню, причем хороший скальд! Когда наши дети состарятся, сага об этой битве будет согревать их кости холодными вечерами.
По лицу Сигурда мелькнула тень: у него был маленький сын, которому лошадь разбила голову копытом.
– Я никогда не видал ничего, что могло бы сравниться с этим боем. Даже боги, сдается мне, разинули рты.
Сигурд гордо улыбнулся.:
– И я победил, Ворон. Я уничтожил первого воина англичан, сделал его пищей червей – несмотря на все твои усилия. Кто теперь посмеет сказать, что от Сигурда, сына Харальда Сурового, отвернулась удача?
Ярл захохотал. Вместе с ним рассмеялся и я. Мой господин был не только свиреп, как Тор, но и хитер, как Локи.
Тем же утром, несколько часов спустя, с запада прикатился гром. В воздухе запахло плесенью, как обыкновенно бывает перед сильным дождем. Мы завернулись в кожи, пропитанные свежим тюленьим жиром, и, когда ливень начался, вода стала скатываться с них блестящими бусинами, точно со шкурки выдры. Горели факелы: густое, мрачное облако накрыло мир железно-серым сводом, прежде времени погасив свет дня. Кто-то из викингов посетовал на то, что мы будто вернулись домой, на фьорды, – не хватает только брюзжания жены.
Волчья стая собралась на берегу. Дождевая вода мочила наши волосы, стекала по бородам и уходила в песок, оставляя на нем пенистые следы. Пленным мы тоже дали шкуры. Как сказал Брам, теперь, раз уж мы взяли англичан к себе, было бы обидно заморозить или утопить их под этим мерзким франкийским дождем. Мы встали полукругом перед Асготом, Сигурдом и Эльдредом: сегодня олдермен должен был умереть. Он являл собою жалкое зрелище. Высокомерие, сверкавшее в его глазах осколками стали, исчезло. Усы, которые он прежде смазывал жиром на тогдашний английский манер, обвисли и трепались на ветру, как обрывки старой мокрой веревки. Плечи печально ссутулились, руки были сжаты. У него отобрали все знаки отличия, включая кольца, золотую застежку и, конечно, превосходный меч, который Сигурд отдал Флоки Черному за то, что тот охранял серебро своего ярла на уэссексском берегу.
Флоки решил продать трофей.
– Это оружие запятнала рука труса, – заявил он, плюнув на лезвие. – Оно может принести только неудачу.
Поняв, что происходит, отец Эгфрит засуетился вокруг Сигурда, умоляя его пощадить олдермена. Асгот метал в монаха убийственные взгляды, однако ярл обращал на куницу в рясе не больше внимания, чем на болтливую птицу. Наконец, оскорбленный таким пренебрежением, Эгфрит топнул ногой и воздел руки к небу:
– Tu ne cede malis, sed contra audentior ito![15] – Это заставило Сигурда обернуться. – Tu ne cede malis, sed contra audentior ito! – повторил монах своим тонким дребезжащим голоском, похожим на звук, какой дети выдувают из травинок.
Чело Сигурда потемнело, ладонь упала на рукоять меча.
– Ты бормочешь христианские заклинания, коротышка? – произнес он, склонив голову набок.
Монах испуганно отпрянул:
– Я говорю на латыни, Сигурд, на языке римлян и всех ученых людей. Я сказал, что ты должен не отступать перед злом, но смело идти ему навстречу.
И он перекрестился.
– Ах вот оно как! – воскликнул Бьярни, взмахнув руками, будто падал с вершины скалы. – А я-то думал, у тебя припадок.
Кунья рожа монаха покраснела от злости. Мы расхохотались. Кинетрит стала между Пендой и мною. Пальцы ее сжатых рук переплетались, будто черви. Я обнял ее за плечи, но женщина, съежившись, высвободилась и устремила на меня взгляд своих изумрудных глаз.
– Не дай им убить моего отца, Ворон, – вдруг сказала она, и слова эти были точно камни, брошенные мне в лоб. Струи дождя хлестали нас по лицам, тяжелое серое небо сотрясалось от грохота колесницы Тора. Я взглянул на Пенду, однако тот лишь пожал плечами и поднял ладони в знак своего бессилия.
– Что же я могу сделать? – пробормотал я.
Смирившись с предстоящим насилием, Эгфрит принялся готовить душу олдермена к вознесению на небеса.
– Сигурд тебя послушает, – сказала Кинетрит. – Ты – его талисман. – Она сделала шаг вперед, взяла мои руки в свои, и я почувствовал, как холодна ее влажная кожа. – Я знаю: ты сможешь убедить его помиловать Эльдреда.
– Я думал, ты его ненавидишь. Из-за него погиб Веохстан. Разве ты забыла?
При упоминании имени брата она сжалась, а я прикусил язык: конечно, она не забыла.
– Он – мой отец. – На это мне нечего было возразить. – Кроме него, у меня никого из родных не осталось. И даже после всего, что он сделал, я не могу смотреть, как он умирает. Пойми, Ворон!
– Homo homini lupus est[16], дочь моя, – сказал Эгфрит, с грустной покорностью покачав выбритой головой. – Человек человеку волк.
– Продолжай упражняться в скороговорках, монах, и отправишься к римлянам! – прорычал Брам по-норвежски, похлопывая свой топор.
– Крепись, лорд Эльдред, – произнес священник, не обращая внимания на угрожающие движения Брама, и подошел к олдермену, чтобы приложить к его лбу деревянный крест. Прежде я видел в руках Эгфрита серебряное распятье, усыпанное драгоценными каменьями, но оно, как видно, было разломано и плесневело в темном дорожном сундуке у кого-то из викингов. – Да простит Господь твои грехи, и да вознесется душа твоя в Царствие Небесное.
Лицо Эльдреда было искажено, как у того, кто готовится испытать боль. Его люди – воины, что должны были защищать его, – со стыда уткнули бороды в грудь. Лишь изредка кто-нибудь из них на миг поднимал взгляд, подобный жалу гадюки, чтобы изведать вкус смерти своего господина.
– Ворон! – зашептала Кинетрит. – Не молчи же!
Мой разум затрепетал, словно птица в клетке. Я ничего не мог сделать – и все-таки должен был сделать что-то: ведь об этом меня умоляла моя возлюбленная, а ради нее я прошел бы по мосту Гьялларбру, ведущему в Царство мертвых, и плюнул бы в глаза великанше Модгуд.
– Сигурд, постой!
Произнеся эти два слова, я сперва остолбенел, потом пришел в ужас. Они выскочили из моего рта, как пара блох из меха, – я понял это, увидев лица викингов. Глаза Асгота, которому снова помешали, когда он собирался пролить человечью кровь, зло засверкали. Сигурд раздраженно нахмурился. Он не мог постоянно противоречить жрецу, поскольку знал: этот старик ждет кровавых жертвоприношений и даже нуждается в них, особенно на христианской земле.
– В чем дело, Ворон? – спросил ярл.
– Евангелие, мой господин, – произнес я, хватаясь за мысль о книге, как рука, опущенная под воду, сжимает пойманную семгу. – Что ты станешь с ним делать?
Тяжесть устремленных на меня взглядов сдавила мне грудь и наполнила живот расплавленным железом. Сигурд почесал бороду.
– Не знаю. Решим после, когда это дерьмо уже не будет дышать воздухом, предназначенным для лучших людей.
По низкой облачной кровле, с которой сливались промокшие снасти кораблей, прогрохотала железная колесница Тора.
– Эльдред собирался продать евангелие императору франков, – сказал я, заглушая голоса, сыпавшие в олдермена оскорблениями. – Знаем мы немного, но одно ясно: за книгу можно выручить целый клад. Этот, – я указал на Эльдреда, – ужасно жаден до серебра.
– Ну так что? – Сигурд нетерпеливо взмахнул рукой.
– Мы поплывем вверх по реке и продадим евангелие императору, – выпалил я, борясь с соблазном взглянуть на Кинетрит и увидеть, довольна ли она моими стараниями.
Неодобрительный гул в толпе Сигурдовых волков, точно эхо, подхватил доносившиеся с запада раскаты грома.
– Мы будем мертвы прежде, чем успеем сойти на берег, – отрезал Улаф так, будто никто не говорил ничего глупее с тех самых пор, как Тюр вложил руку в пасть волка Фенрира. – Император не слишком-то любит язычников. Или ты, парень, об этом не слыхал?
– Христианских стрел из тебя будет торчать больше, чем волос из Брамова носа, – добавил Флоки Черный, бессмысленно плюнув в дождь.
– Нет, если за нас будет говорить христианский лорд! – Я кивнул на Эльдреда. – И еще христианский монах. То, что могло бы достаться англичанам, достанется нам. Пусть франкийское серебро послужит нам платой за людей, которых мы потеряли.
После мгновения тишины, тяжелой, как гора, рыжую бороду Свейна раздвинула плутоватая улыбка:
– Слыхал я, этот король франков до того богат, что даже яйца у него из чистого золота.
– А мочится он святой водой, – сказал Улаф, предостерегающе подняв толстый палец, – и от этой святой воды с грязного язычника вроде тебя, Рыжий, тут же слезет шкура.
– Так мы отрежем его змею, прежде чем украсть яйца, – брякнул Брам Медведь.
Раздался хохот, перешедший в возбужденное бормотание. Моя затея начинала нравиться волкам.
– Мы поставим на носах кресты, как сделали они. – Кнут кивнул в ту сторону, где сидели саксы.
– Что скажут на это боги? – выпалил Асгот, но его никто не услышал.
В головах викингов уже звенели монеты, бряцали драгоценности. Улыбка расплылась по моему лицу, и я молчаливо возблагодарил Локи: ведь не кто иной, как он, Отец Хитрости, внушил мне эту мысль. Волки, окружавшие меня, усмехались, сверкая во мгле желтыми клыками. Я понял, что победил.
Глава 10
Итак, Эльдред был спасен – по крайней мере, на время. Однако лицо его выражало не счастье, а скорее разочарование, уныние, стыд. Позже олдермен вновь начал строить коварные планы, надеясь, что ложь и алчность помогут ему обогатиться, но сейчас он пребывал в тени, лишившись воинов, удачи и сына. Дочь могла бы вплести новую нить в едва не оборвавшуюся тесьму жизни Эльдреда, однако Кинетрит больше не желала его знать. Ему отказали даже в смерти – единственном спасенье от позора. Она, сулившая освобождение, ускользнула от него, как дождевая вода стекает с лезвия меча, и моя ненависть к нему сменилась жалостью. Нелегко ненавидеть поверженного, кем бы он ни был прежде.
Я ждал, что Кинетрит обовьет меня руками и, целуя, станет благодарить за жизнь отца, украденную мною из могилы. Может, она даже отведет меня в укромное место и ее признательные губы заставят мою душу трепетать от блаженства. Я был еще молод, и в моей голове не перевелись такие выдумки. Но Кинетрит никуда меня не отвела, ничего не сказала и не сделала. Видно, две стороны ее ума не прекратили бороться, как две обвившие друг друга змеи: одна требовала смерти Эльдреда, а другая – спасения. Я не желал участвовать в этом хольмганге и потому не стал преодолевать преграду, которую Кинетрит воздвигла между нами. Держась особняком, я слушал, что викинги говорят о Карле, императоре франков.
В такую погоду большинству мореплавателей не пришло бы в голову сняться с якоря, однако Сигурд был не из большинства. Кнут и Улаф в один голос подтвердили, что отдаленные раскаты грома и вспышки молний под кровлей мира – последние приступы утихающей бури. Хотя где-то в вышине Тор убивал гигантов, нам ничто не угрожало, следовало лишь держаться ближе к берегу. Неглубокий трюм «Змея» был до отказа набит серебром, янтарем, мехами, оленьими рогами и оружием, поэтому половину захваченных трофеев мы поместили во чрево «Фьорд-Элька», сперва постлав шкуры поверх гладких камней, которые мы взяли на берегу и уложили в днище взамен старых, позеленевших и пахнущих гнилью. Затем мы отвязали наших драконов от вбитых в песок причальных столбов, подналегли плечами и принялись изо всех сил толкать. Мы пыжились, пыхтели и сыпали проклятиями. Бедра у меня горели так, словно вместо костей мне в ноги вставили прутья из докрасна раскаленного железа, и все же корабли не сдвигались с места. Уродливый длиннолицый викинг по имени Хедин усмотрел в этом дурной знак, но Бьорн обозвал его лошадиной мордой с яйцом вместо носа и проворчал, что знаки тут ни при чем, а дело в дожде, который вымочил берег, отчего песок и гравий жадно всосали тела судов. Кили и нижние доски обшивки увязли так, что мы вынуждены были разбивать топкие наносы копьями, а затем раскапывать руками. К тому времени вода отступила, и нам пришлось толкать корабли еще дальше.
Саксов взяли на борт «Змея». Они лучше знали «Фьорд-Эльк», чьи весла уже побывали в их руках, однако его высушенные доски впитали много английской крови, и Сигурд счел, что недальновидно пробуждать в воинах враждебный дух, который может толкнуть их на глупость.
– Ни к чему напоминать людям о поражении и о гибели друзей, – сказал ярл, – во всяком случае, если мы хотим, чтобы они нам служили. Пускай лучше полюбят «Змея», как любим его мы.
– И так мне легче будет за ними присматривать, – проворчал Улаф, бросив взгляд на англичан.
Они вместе с нами откапывали корабль, а теперь уселись на скамьи гребцов, тяжело дыша и морщась от вида собственных изломанных и окровавленных ногтей. По счастью, ветер был достаточно сильным, чтобы мы смогли поднять парус при убранных веслах. Правда, шли мы на юг, а дуло с юго-востока, поэтому продвигались мы небыстро, но все равно охотно предпочли не грести. Те, кто был на носу, хлопотали с парусом: привязывали гик[17] толстой веревкой, чтобы край большого шерстяного крыла неподвижно смотрел вперед. Так «Змей» не выходил из ветра, и Улаф с Брамом могли поворачивать нас при помощи булиня[18].
За семь дней все на корабле – наши сундуки, палуба, мачта, бочки с водой, оснастка и блоки – насквозь промокло, замшело и осклизло. Пришлось очищать дерево ножами, тереть грубой тканью и смазывать жиром: жизнь на судне достаточно тяжела, даже если тебе не приходится скользить по грязи. И все же приятно прибираться на корабле-драконе, особенно таком, как «Змей» или «Фьорд-Эльк». Сам того не замечая, начинаешь нежно бормотать или нашептывать: «Ну вот, сейчас мы тебя почистим… Так-то лучше, правда? Да, теперь ты снова красавец!» Если любишь судно, оно отвечает тебе взаимностью. Даже когда волны вздымаются до верхушки мачты или море набухло так, что еще чуть-чуть и вода польется через борт, корабль старается для тебя. Благодаря ему твои легкие наполняет воздух, а не соль.
Я посмотрел в небо и поначалу увидел лишь маленькие черные пятна, сновавшие среди густых серых облаков. Потом мои глаза различили чаек и ласточек, напоминавших наконечники стрел, а над ними трех ворон, чье карканье то и дело прорывалось сквозь туманную пелену.
Сигурд держал Эльдреда на корме рядом с собой и рулевым Кнутом, но остальным англичанам велел стоять у мачты и смотреть, как викинги управляются с парусом. Три человека должны были постоянно подтягивать подпоры. Этому нехитрому делу Улаф научил саксов довольно быстро. Работали они неплохо, и я мог поклясться, что гордость распрямляла их спины.
– «Англичане ходят по морю не лучше, чем цыплята летают», – говаривал мой отец, – сказал Сигурд по-английски, чтобы Эльдред его понял, и мне подумалось, что воины-саксы явно намерены опровергнуть суждение Сигурдова отца.
Ярл тоже это заметил и, поймав мой взгляд, кивнул в сторону англичан. Одна бровь его приподнялась, а сжатые губы подавляли веселую усмешку.
Мы медленно шли вдоль берега, когда прямо на нас откуда ни возьмись налетело грязное облако кусачих мошек. Они забивались к нам в рот и под одежду, а некоторых даже кусали в глаза, что, по всеобщему признанию, было редкой подлостью. Мы, взревев, стали просить, чтобы Улаф и Кнут вывели нас из этого царства Хели, но ветер не позволил повернуть. Вынужденные терпеть, мы, точно испуганные женщины, кутались в меха и кожи. Едва мошкара оставила нас в покое, мы рассмеялись: Свейн, заползший под шкуру белого оленя, был похож на снежную гору, что внезапно свалилась на палубу. Так, хохоча, дразня друг друга и почесывая укусы, мы подошли к устью Секваны: это стало ясно, когда показались три широких кнорра, шедших каждый своей дорогой на запад или на юг. Скоро перед нами возник кряжистый полуостров, а на нем стояли дюжины домов, которые, словно кашляя, пускали в серое небо черный дым. Улаф сказал, что за поворотом нам откроется река.
Мы шли недостаточно близко к берегу, чтобы видеть людей, но они-то наверняка увидали паруса «Змея» и «Фьорд-Элька», даже если сами корабли были скрыты от их глаз волнами.
– Одному Иисусу известно, что франки с нами сделают, – сказал Пенда, сидевший позади меня.
– До того как «Змей» подошел к моей деревне, даже Гриффин, самый опытный воин, вообразить себе не мог, каково это – шестьдесят человек в кольчугах, да еще у каждого меч, копье и топор! – сказал я, вспомнив ужас, который испытал при виде такого полчища вооруженных викингов. – Надеюсь, что и франки ничего подобного не видывали. Было бы лучше, если б они нас опасались.
– Они будут нас опасаться, парень, даю свой лучший зуб! Еще бы – такое сборище головорезов!.. А что стало с Гриффином?
От этого вопроса у меня подвело живот.
– Началась битва, он убил одного из их людей. Корабельного плотника, – сказал я, и в моей душе на мгновение расцвел теплый отзвук гордости. – Тогда они распороли Гриффину спину, порубили на куски ребра и вынули легкие. – Я почувствовал, как искривилось мое лицо. – У них это зовется «кровавым орлом».
– Знаю, парень, как это у них зовется, – ответил Пенда. – Лютые язычники! Дикари!
Перед тем как причалить, Бьорн и его брат Бьярни срубили четыре швартовых столба и связали из них два креста, которые Сигурд велел водрузить на место змеиных голов. Дабы наши боги не слишком на нас за это прогневались, Асгот развязал мешок, что бился у его ног, достал оттуда ламантина и перерезал ему горло, сбрызнув кровью сливочно-белую пену под носом «Змея». Пена порозовела, жрец, подняв руку, показал нам всем извивающееся животное и швырнул его за борт, проводив странными заклинаниями.
Ламантин, само собою, был лучше, чем тот паршивый заяц, которого мы поднесли Ньёрду, когда отчалили от уэссексского берега. Брам пошутил, что мясо следовало съесть самим, а в воду бросить лишь шкуру, набитую соломой, – глядишь, боги не заметили бы обмана.
– Бьюсь об заклад, что пузо старика Ньёрда никогда не урчит, как мое, – заявил Брам, хлопая себя по твердому, хотя и бочкообразному животу.
– Так, как твое пузо, даже колесница Тора не грохочет, – сказал Бодвар – викинг, чья кожа была серой, словно пепел.
Брам Медведь лишь кивнул и гордо улыбнулся.
Тем временем мы обогнули мыс и вошли в устье огромной реки. Далеко впереди, за нашим деревянным крестом, сходились зеленые берега. Мы видели это и ощущали. Хедину Длиннолицему показалось, будто это место похоже на Фенсфьорд – родину многих Сигурдовых волков. Однако Улаф рявкнул, что в нем просто говорит тоска по дому. Хедин, поразмыслив, согласился с Улафом: море здесь не так глубоко и прозрачно, горы не так высоки, а воздух не так сладок, как на норвежском фьорде.
На пути нам встречались суда всевозможных мастей и размеров: широкие торговые кнорры, утлые корабли пилигримов, рыбацкие лодки, двадцативесельный корабль, собиравший подати (его капитан благоразумно направил нос не в нашу сторону), и даже изящный дракон, спешивший на юг – как видно, после набега. Кнут предположил, что ладья датская: она была длиннее «Змея» и узкая, точно стрела. По мне, волны захлестнули и опрокинули бы такое судно, как бревнышко, но, когда я сказал это Пенде, он почесал свой длинный шрам и ответил, что если дракон забрался так далеко от дома, то те, кто его строил, должны немного смыслить в мореходстве.
– Обыкновенно я не связываюсь с судами, из которых нужно вычерпывать воду чаще, чем трижды в два дня, – сказал Улаф, стоя у мачты и обыскивая реку опытным взором. – Но если б наш «Змей» пропускал чуть больше, я бы охотно посмотрел, как вы, ребята, пыхтите. Во времена моего отца мы гребли так гребли! Сбивали море веслами, пока оно не делалось густым, как каша. Никто не сидел и не ждал, когда ветер подует, куда нам нужно! – Послышалось недовольное фырканье (мы слыхали эту песню уже раз сто), но старик как ни в чем не бывало продолжал: – Все вы рыхлые, будто горячий конский навоз. Такая нынче молодежь, что я готов поклясться: Один смотрит, куда катится мир, и его единственный глаз плачет.
Над головой Улафа трепетал и хлопал выцветший красный парус, а викинги начинали беспокойно ерзать, ведь мы подошли к чужой земле. Населявшие ее люди и духи могли оказаться враждебными, особенно если узнали бы, что мы язычники. Поскрипывание досок и канатов «Змея» вдруг стало казаться мне похожим на человечьи крики и стоны. Я будто слышал, как испуганное дитя спрашивает меня: «Ты уверен, что нам нужно сюда идти? Это не опасно? Нам не сделают больно, как в прошлый раз?» Теперь, когда вместо головы Йормунганда на носу возвышался крест, «Змей» казался другим. Он будто стал уязвимым. И не я один испытывал зловещую тяжесть оттого, что за нами наблюдали. Пока мы шли вдоль франкского берега, нас пронзали острые, как буравчики, взгляды. Хотя мы не вывесили щитов и не надели ни кольчуг, ни шлемов, те, кому принадлежала власть в королевстве, должны были скоро пронюхать, кто мы такие: корабли, подобные нашему, нечасто появлялись в этих водах.
Кнорр, собиравший подати, не исчез, как я предполагал, а входил в устье, держась у противоположного берега, подальше от нас. Он следовал за нами, как птица, которая кормится падалью и следует за волками. Похоже, франки с опаской встречают чужестранцев, и даже морские границы их государства, хоть они и удалены от столицы, охраняются. Как объяснил нам Сигурд, Карл овладел необозримыми землями и провозгласил себя императором по примеру древних римлян. Тот, кто обладает такой властью, наверняка осмотрителен, умеет навести порядок и, что для нас особенно тревожно, располагает большим войском. Если в открытом море мы чувствовали себя как дома, то, оказавшись в устье реки, я ощущал в животе ледяной страх, который никак не мог растопить.
Отец Эгфрит вышел, держа в руках свернутую шкуру, на нос «Змея», где, смущенно ежась, стояла Кинетрит. Затем развернул шкуру и поднял ее, а женщина, чуть улыбнувшись, скрылась за этим занавесом, чтобы справить нужду в ведро. Эгфрит почтительно отвернулся, и я с неохотой подумал о том, что должен благодарить его за заботу о ней. Бедная! Верно, несладко женщине жить одной на корабле среди нас, звероподобных воинов. А ведь она еще и дочь уэссексского лорда.
Как бы то ни было, опасность ей угрожала так же, как и всем нам. Отец Эгфрит не преминул сообщить, что на востоке, между Эльбой и Эмсом, многих саксов убили по приказу Карла за преданность старым верованиям. Служитель Белого Христа хотел макнуть их в воду, но они не дались, а потому их головы и плечи разлучились навсегда. Когда я пересказал историю другим по-норвежски, Брам сомкнул мохнатые брови и, откусив от ломтя хлеба, который сжимал в кулаке, сказал:
– Что-то непохоже, чтобы этот Карл был христианином.
– Может, саксы просто воняли, как овечий зад? – предположил Бьорн. – Королю надоело зажимать нос, и он приказал священникам, чтобы их помыли, а когда они стали противиться… – Бьорн провел ребром ладони по горлу.
– Это называется крещением, – сказал я. – Тебя толкают в воду. Ты ныряешь язычником, а выныриваешь христианином.
Мои слова показались викингам нелепицей, и волки Сигурда встретили их возгласами недоверия.
– Они, что же, думают, будто Одина и Тора можно смыть с нас водичкой? – проговорил Арнвид, и лицо его сморщилось, как огузок.
– Хотел бы я посмотреть на раба Христова, который решится макнуть меня головой в воду, – громко сказал Свейн Рыжий, глядя на отца Эгфрита (монах смотрел на нас и, как мне показалось, пытался улавливать нить нашего разговора).
– Нет такой глубокой реки, Свейн, – сказал я, подразумевая, что вымыть богов из его головы не легче, чем зацепить багром луну и стащить ее с неба.
Мое немудреное замечание положило конец беседе о крещении, и я взглянул на Эльдреда: станет ли он говорить с франками от нашего имени, как я пообещал Сигурду? Выбирать олдермену не приходилось, но и терять ему было нечего, кроме своей жалкой жизни. Поэтому мы не знали, согласится ли он. А кроме того, здешние господа могли ему не поверить. Это показалось мне вполне вероятным, когда я увидел, как он скорчился на корме «Змея», точно овчарка, которую побили за украденную еду.
Там, где соленая вода смешивалась с пресной, устье сужалось. Берега заслонили нас от морских ветров, и пытаться идти под парусом стало бесполезно, особенно против течения. На обоих кораблях застучали весла: мы приготовились грести. Улаф, Флоки Черный и Брам спустили парус и тоже сели на скамьи. По берегам, что казались нам створками каких-то ворот, тянулись песчаные холмы, наметенные ветром, а на них рос тростник, похожий на вздыбленную шерсть злой собаки. Там, где вода соприкасалась с сушей, волны вырубили в песке ступеньки, над которыми вились сотни стрекоз. Я видел их даже издалека: они неистово мелькали, наполняя воздух странным мерцанием. Жирные чайки с воплями кидались под корму «Змея», жадные до рыбьих потрохов, что люди выбрасывают за борт, входя в реку из моря. Над носом корабля, словно туча выпущенных стрел, пронеслась стайка стрижей. Все они, как один, резко метнулись в сторону, огибая песчаную отмель.
Я греб, мои мышцы то сжимались, то расслаблялись, и тепло от них разливалось по всему телу. Наконец мы увидели первых людей: словно вырастая из тростника, они появлялись среди песчаных холмов и стояли неподвижно, как камни. Казалось, целое войско мертвецов восстало из земли. Я прикоснулся к висевшему у меня на шее оберегу – маленькому резному изображению головы Одина, которое прежде принадлежало Сигурду. Слаженно погружаясь в воду, наши весла и весла «Фьорд-Элька» издавали сладостный мерный звук, извещавший о нашем прибытии христианского бога и его рабов, что смотрели на нас с берега. Помыслы здешних людей были известны лишь им самим, но я мог побиться об заклад, что они объяты страхом: во Франкию пришли волки Сигурда.
Глава 11
На борту «Змея» разгорелся спор о том, смогут ли франки, если они нам не рады, поразить нас из своих луков. В конце концов все согласились, что идем мы далеко от берегов и движемся быстро, а потому стрелки должны будут метить туда, где мы окажемся лишь через несколько мгновений. Чтобы такой выстрел стал смертельным, нужно обладать редким мастерством или быть удачливым, как Тор.
– Давайте надеяться, что попадут они не в нас, а в то козлиное дерьмо на «Фьорд-Эльке», – пошутил Бьярни, показывая большим пальцем назад, но лишь немногие из викингов улыбнулись.
Франков, следивших за нами с берегов, стало так много, что, пускай сейчас их стрелы были не слишком опасны, потом, на суше, нас могли ожидать немалые трудности.
«Плывем, точно лосось в ивовый садок! Того и гляди штаны намочишь», – думал я, когда Пенда, сидевший позади, вполголоса прорычал:
– Если у франков достаточно лодок, они могут перекрыть ими реку у нас за спиной, и будем мы заперты, как мед во фляге.
– Наши драконы прорежут себе дорогу, даже не сбавляя хода, – ответил я, хотя, по правде, сомневался, что прорваться сквозь стену вражеских судов будет так уж просто. – Таких отважных мореходов, как Сигурд, во Франкии не сыскать.
В это я и в самом деле верил, однако наш ярл, при всей своей храбрости, был бледен и измучен болью. Даже теперь, когда мы подошли к чужой земле, он сидел рядом с Кнутом у румпеля, закутавшись в мех, и смотреть на него было тяжко: на лице, лоснящемся от пота, залегли глубокие тени, а волосы, которым прежде мог бы позавидовать сам Бальдр, свисали безжизненными сальными прядями.
Река вилась и петляла, как человечьи кишки, но кормчий Кнут знал свое дело, а Улаф, стоявший на носу «Змея», кричал ему, если видел отмели и наносы ила либо угадывал опасные течения. К тому же Дядя следил, чтобы мы не налетели на затонувшее судно: по Секване издревле ходили корабли, и немало из них она, должно быть, забрала себе, а о том, где покоились их останки, могли знать лишь местные жители.
Англичане, сидевшие на веслах, пыхтели, как волы. Им еще повезло, что Улаф вел «Змея» медленнее обыкновенного. Он делал это намеренно – ведь если б мы, пусть даже без шлемов, стали сбивать реку, как масло, франки решили бы, будто мы пришли их грабить.
Пахло очажным дымом, слышался лай собак. Повернув голову, я понял, что мы подплываем к бойкому месту: в небе висела серо-коричневая пелена, кричащие чайки тучами кружили над берегом, где рыбаки выгружали улов, чинили сети и перевернутые днища своих лодок. Город был раз в сто больше, чем Эбботсенд (уэссексская деревушка, в которой я прожил два года). Никогда прежде я не видал такого многолюдья и такой кипучей жизни. От этой мысли сердце у меня забилось быстрее и кровь энергичнее побежала по жилам. Те, кто стоял у воды, бросали работу и провожали нас настороженными взглядами. Позади них, за земляными насыпями (которые, как мне подумалось, служили защитой от наводнений, а не от незваных гостей) выглядывали соломенные крыши домов, почерневшие и обветшалые от времени, дыма и непогоды.
Внезапно над водой разнесся торжественный звон. Он стал таять и почти стих, когда такой же звук раздался снова, и его подхватили на противоположном берегу. Казалось, два могучих кузнеца вздумали изготовить меч для самого бога и соревновались друг с другом. На лицах викингов выразилось недоумение.
– Так звучит вера! – вскричал отец Эгфрит, чьи глазенки вдруг жадно загорелись. – Это звон надежды, что сияет на темном горизонте!
Монах стоял, вцепившись в ширстрек, поскольку не был достоин грести – даже теперь, когда рук не хватало.
– Клянусь волосатым задом Одина! – воскликнул Брам. – Шум такой, будто сам Велунд стучит молотом по наковальне!
Кто-то из викингов с опаской посмотрел на небо, кто-то – на отца Эгфрита, кто-то стал оглядывать берег, пытаясь понять, откуда доносится мерное железное пение. Многие дотронулись до своих оберегов или колец, приносящих удачу.
– Это церковные колокола, Брам, – сказал я, разрезая воду веслом. – В богатых церквях их льют из бронзы, а в бедных куют из железа.
– Хотел бы я думать, будто этот жуткий гул не в нашу честь, – сказал Бьорн, работая веслами и глядя прямо перед собой, – но чую, что именно в нашу.
Он улыбался, и мне не нужно было видеть его лицо, чтобы это понять.
– Сигурд, христиане дуют в штаны! – прокричал Улаф с опустелого носа «Змея», где теперь возвышался лишь крест, источавший странное тихое высокомерие. – Бегают вокруг своих церквей, прячут серебро и золотишко да пердят со страху себе под юбки!
– Как, по-твоему, верят они, что мы рабы Белого Христа? – крикнул Сигурд в ответ, кашляя от напряжения в горле, и кивком указал на крест.
– По-моему, даже христиане не так глупы, как нам бы хотелось, – отозвался Улаф.
В самом деле, среди людей, собравшихся на берегу, появились воины, чьи щиты были видны нам издалека. Они упорно двигались туда, куда смотрели носы наших кораблей.
– Сохрани нас, Господи! – пробормотал Эгфрит.
Сигурд беспокойно шелохнулся. Его лба словно коснулось черное облако.
– А вот и они, – зловеще произнес Пенда, вертя шеей.