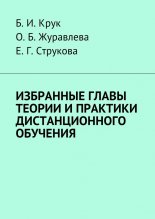Ворон. Сыны грома Кристиан Джайлс
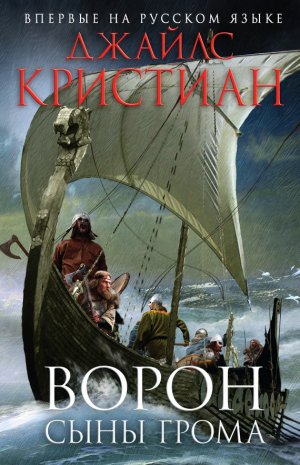
Сперва я подумал, будто он говорит о кнорре, который шел от противоположного берега в сторону «Фьорд-Элька», плывшего прямо за нами. Но оказалось, дело в другом.
– Как будем действовать, Сигурд? – крикнул Улаф по-английски, чтобы ввести в заблуждение франков, если они нас слышали, хотя имя Сигурд делало эту нехитрую уловку бесполезной.
Я, как ни крутился, не смог увидать ничего, кроме изогнутого носа «Змея».
– Там три корабля, парень, – сказал Пенда. – Идут быстро и прямо на нас!
Сигурд рявкнул:
– Всем грести! А ты, Ворон, быстро сюда!
Втащив весло через прорезь и поместив его на подставку рядом с запасными, я подошел к ярлу: тот, корчась от боли, встал на ноги и ухватился за тугую оттяжку.
– Подыщи для этого паршивого козла что-нибудь, чтоб он имел значительный вид, – сказал Сигурд по-английски, показывая пальцем на Эльдреда, который сидел, забившись, как кусок дерьма, в углубление на корме.
Потрепанные усы олдермена дернулись, обнажив улыбку, тугую, как влагалище монашки, когда я развернулся и заспешил к трюму. Отодрав несколько слабо прибитых досок, я заглянул туда, где мы складывали наиболее ценный или хрупкий груз, затем поднял крышку сундука, отогнул покров из пахнущей жиром кожи и на миг позволил себе насладиться видом несметного богатства: серебряных монет, что лежали передо мной, хватило бы на покупку еще одного судна вроде «Змея» или «Фьорд-Элька». Но монеты были нам сейчас не нужны, и я раскрыл другой сундук. В нем, также под слоем кожи, хранилось то, за что любой викинг продал бы зубы собственной матери: серебряные кубки, серебряные цепи, браслеты и кольца, дюжина (если не больше) брошей с янтарем, изумрудами и красивыми завитками из меди, несколько золотых запястий, серебряные ожерелья и кресты (простые и с каменьями), украшенный чеканным золотом переплет какой-то давно пропавшей книги, множество слитков и осколков серебра (иные были длиною с мой указательный палец, а толщиною с большой). На всех изделиях имелись метки, которые оставили владельцы, испытывая добротность металла (а теперь сами кости этих людей помечены клювом ворона или зубами крысы). Мой взгляд привлекло к себе толстое ожерелье, похожее на отрезок крученого серебряного каната. Я, не устояв, провел по нему пальцами: оно было прохладным даже в тот теплый день и увесистым, будто якорная цепь. Носить это ожерелье было под стать ярлу, а то и самому Тору, и я отдал бы что угодно, лишь бы ощутить на своей шее его холодящую тяжесть. Однако оно сделалось бы еще тяжелее под грузом моей гордыни, ибо я не заслуживал вещей и вполовину менее прекрасных. Носить ожерелье ярла, если ты не ярл, – значит навлечь на себя гнев богов и, вероятно, приблизить свой смертный час. Поэтому я бережно отложил драгоценность в сторону, а взамен взял круглую брошь из золота и меди размером с мою ладонь и деревянный крест с рубинами на кожаной веревке.
– Смотри, Эльдред, лицедействуй, как следует! – прорычал Сигурд олдермену. Тот злобно взглянул на него, приколов брошь к плащу и повесив крест на грудь, у сердца. – Ты – английский лорд и хочешь видеть императора по делу.
Сигурд кивком указал на самый большой из франкийских кораблей; тот отделился от двух других и приближался теперь к «Змею» с правого борта. Эти три широких судна не были драконами, однако людей, заполонивших палубы, защищала броня, а в руках многие из них держали боевые луки.
Я стал у мачты рядом с воинами Эльдреда и, схватившись за рукоять меча, висевшего у бедра, сказал по-английски:
– Если хотите жить, не забывайте, что вы добрые христиане.
Великан, избежавший Асготова ножа, достал из-под рубахи деревянное распятие и положил его сверху. Двое других сделали то же. Я кивнул, надеясь, что вкупе с крестами на носах кораблей это поможет нам одурачить подданных Карла.
Один из франков сложил руки у рта и что-то прокричал нам с борта головного корабля на наречье, которое состояло на треть из английского, а на две трети из чего-то еще. Другие корабли остановились чуть поодаль: они опасались подходить к «Змею» или «Фьорд-Эльку» слишком близко, однако, если бы завязалась битва, им хватило бы нескольких взмахов весел, чтобы принять в ней участие. Человек закричал снова. Он был в железном шлеме и голубом плаще, но лица я не видел, а видел только длинные усы. Мы стали переглядываться, пожимая плечами и качая головами. Вдруг отец Эгфрит наградил меня своей куньей ухмылкой и, перекрестясь, произнес:
– Alea iacta est. Жребий брошен, Ворон.
Затем он перешел к правому борту и излил поток звуков, похожих на бессмысленный лепет младенца. Однако теперь мы знали: это латынь – язык римлян.
– Dominus vobiscum! Gloria in excelsis Deo, Dominus illuminatio mea![19]
Коротышка-монах был битком набит таким добром. Оно сыпалось из него, как помет из оленьего зада.
– Если он говорит им, что мы язычники, я глотку ему перережу, – прорычал Флоки Черный сквозь стиснутые зубы, продолжая грести.
Но Эгфрит улыбался, радостно размахивая руками. Нет, он не выдал нас. Он с наслаждением лгал франкам, будто мы рабы Белого Христа, пришедшие к ним с миром как к братьям по вере.
Выслушав Эгфрита, Голубой Плащ поднял руку, начертил ею невидимый крест и что-то ответил на своем скользком наречье. Эгфрит повернулся к Сигурду:
– Его зовут Фулькариусом, он начальник императорской береговой охраны. Говорит, что ему и его людям впору прибить ноги к палубе подобно тому, как ноги Господа нашего Иисуса были прибиты ко кресту: целый божий день они проводят в море, – Эгфрит махнул рукой туда, откуда мы пришли, – ибо супостаты-язычники непрестанно омрачают горизонт, будто черная туча. – Я мог бы побиться об заклад, что монах украдкой прожевал улыбку. – Не далее как нынче утром Фулькариус прогнал датскую ладью из реки в пролив, прежде чем эти черти успели разграбить храм Божий или убить кого-нибудь из христиан.
Вспомнив длинный узкий корабль-дракон, который нам повстречался, я спросил себя, известно ли Фулькариусу, что он прогнал датчан не так уж далеко. Скрывшись от франкского кнорра, они, без сомнения, крались вдоль берега в поисках легкой добычи. Может статься, Фулькариус об этом знал, но не слишком беспокоился. А может, он не желал признавать, что его горстке кнорров не под силу охранять все побережье. Правда, могли быть и другие воины, которым вменялось в обязанность защищать Франкию от набегов. Что до него, Фулькариуса, то он налетел на нас точно остроглазый филин, который, завидев мышь, кидается со стропил замка на устланный тростником пол. Сейчас франкское судно уже подошло к нам на расстояние выстрела из лука и продолжало двигаться вдоль нашего борта медленно и ровно, чтобы капитан мог лучше нас рассмотреть.
– Суши весла! – сказал Сигурд. Собрав волосы на затылке, он открыл отощавшее лицо. – Пускай эти псы нас обнюхают.
Фулькариус, опершись о ширстрек, продолжал лопотать. Верно, расспрашивал монаха о нас, а тот как будто за словом в карман не лез. Теперь я мог отчетливо видеть лица франкских воинов: их взгляды были точно пятна крапивницы, что с ног до головы осыпают больного. Франки табанили, борясь с течением, чтобы держаться с нами борт к борту. «Фьорд-Эльк» притаился слева от нас, в трех весельных взмахах, а другие франкские корабли стояли в некотором отдалении, сверкая доспехами копьеносцев и лучников. Ветер, дувший с северо-востока, доносил едкий запах пота, а также жира: значит, по меньшей мере на одном из судов парус и плащи людей пропитаны топленым свиным салом, чтобы не промокали. Если корабль содержится как следует, то и воины, надо полагать, хороши.
Мы постарались принять спокойный вид, будто никого не боимся и никому не угрожаем. Но я знал: викинги смотрят на кнорр глазами цыплят, надеясь, что тот не подойдет еще ближе. Хотя мы и не двигались с места, волна могла поднять франков так, что они увидели бы оружие и кольчуги, лежавшие у наших ног. К счастью, вода была спокойная, однако Сигурд и Кнут все же совещались вполголоса: по-видимому, решали, куда бежать, если люди императора нападут. Повидав, как викинги сражаются на море, я верил, что мы выстоим и против четырех кораблей. Но франки смыслили больше людей Эльдреда и могли нанести нам тяжкий ущерб. Даже сумей мы оторваться от этих кораблей, нас, вероятно, встретили бы другие еще до того, как мы успели бы выйти в открытый канал.
– Фулькариус говорит, мы похожи на датчан. И корабли похожи на датские, при всем его почтении к святому распятию, – молвил отец Эгфрит, указывая тонким пальцем на крест на носу «Змея». – Но я рассказал ему, как присутствующий здесь олдермен Эльдред с Божьей помощью храбро сразился с язычниками, напавшими на королевство Уэссекс, и уничтожил их. – Один из англичан громко выругался и стал втаскивать свое весло на борт. – Я сказал, что у нас дело к самому императору, властелину и светочу христианского мира. – Весло англичанина со стуком опустилось на доски. Эгфрит тем временем продолжал: – Боже, спаси и сохрани Карла!
Из этой речи многие викинги поняли не больше, чем если бы монах говорил по-латыни, но возмущенный сакс вскочил и, сжав нательный крест, обратил к франкам свирепое лицо.
– Ты, грязный франкийский ублюдок! – прокричал он. – Кого ты обозвал датчанами?! Да мой меч еще не перестал звенеть после того, как крушил языческие черепа! Эти гады налетели на нашу землю, что голодные псы, и мы их побили! Дали каждому по семь футов земли! Да, вот так! И если ты еще раз назовешь нас датчанами, я доберусь до тебя и отрежу твой гнилой язык! Чертовы франки!
Викинги насторожились. Некоторые из них потянулись за шлемами, думая, что нас предали. Но другие англичане, сидевшие у правого борта, вынули из воды весла и свободными руками показали Фулькариусу кресты, висевшие у них на шеях. «Молодцы, парни», – подумал я и, бросившись к левому борту, обнял разбушевавшегося англичанина за плечи.
– Успокойся, Годрик, – сказал я с улыбкой. – Фулькариус не хочет нас обидеть, он лишь исполняет свой долг.
Эгфрит посмотрел на меня, приподняв брови, после чего его проницательные глазенки сверкнули, и он вновь обернулся к начальнику охраны, который говорил с каким-то толстым франком.
– Негоже называть сакса датчанином, Фулькариус, – сказал я, пожав плечами. – Мы люди богобоязненные, но нас легко разозлить. Лучше не дразни быка.
Толстяк опять забормотал, и я понял, что он знает английский. Эльдред понял это тоже.
– У меня дело к императору, и путь впереди неблизкий, Фулькариус, – выкрикнул олдермен, плюя на руки и приглаживая растрепавшиеся усы. Ростом он был невелик, и оттого крест на его груди казался еще внушительней. – Если мы должны уплатить налог, то давай покончим с этим поскорее. Нам нужно спешить.
Фулькариус и толстяк снова принялись совещаться. Эгфрит, стоявший рядом со мной, беспомощно вскинул ладони и, нахмурясь, покачал головой.
– Auribus teneo lupum! – каркнул он. – Держу волка за уши, Фулькариус!
Наевшись вдосталь этой каши, начальник франкской береговой охраны понял, что не следует затевать войну с лордом-христианином, который пришел из Уэссекса и привел своих воинов на двух ладьях. К тому же Фулькариус, как видно, полагал, что получает за свою службу слишком малую плату: он пошептался с толстяком, тот, кивнув, улыбнулся и крикнул нам:
– За то, чтобы пройти вверх по реке, два фунта серебра монетами. Или три фунта серебряного лома, если ничего другого нет.
– Франкские недоумки, – тихо пробормотал Пенда.
Улаф подавил ухмылку. Эльдред согласился заплатить. Держать наших драконов на привязи посреди быстрой реки было не просто, но викинги работали веслами искусно, да и англичане, сидевшие между ними, старались, как могли.
– Тащи монету, Ворон, – сказал мне Сигурд, а затем с притворной почтительностью поклонился Эльдреду и сквозь улыбку прорычал: – Откуда нам знать, что, если мы десять раз взмахнем веслами, выше по течению нас не заставят платить снова?
Олдермен кивнул и повторил вопрос Фулькариусу, а я посмотрел на берег. Пока шли переговоры, местные обитатели не сводили глаз с наших кораблей, а воины, вооруженные копьями и щитами, стояли в боевом порядке. Их собралось не меньше сотни. Я хотел было сосчитать точно, но меня отвлек лосось, плеснувший за кормой «Змея». Тело рыбы показалось мне полоской серебра, а вода в послеполуденном свете походила на кованое железо. Над нашими головами темнело и пузырилось низкое серое облако, медленно поглощавшее остатки голубизны. Нетрудно было предвидеть, что скоро оно помешает дыму франкских очагов подниматься ввысь и тот начнет стелиться над рекой удушливым покрывалом.
– Если вы заплатите еще фунт серебра, Фулькариус даст вам особый знак, – крикнул толстый англичанин с борта кнорра, – флаг, который вы повесите на ванту, чтобы все видели, что вы идете вверх по реке с позволения береговой охраны его императорского величества.
– Какого черта англичанин делает среди франков? – с отвращением произнес Пенда, по выговору поняв, что толстый подручный Фулькариуса не из здешних.
– Какого черта англичанин делает среди норвежцев? – тихо буркнул я.
Мой друг нахмурился и стал почесывать свой длинный шрам с таким видом, будто я попросил его сосчитать крупинки соли в море или волосы в бороде Брама.
Переговоры завершились. Я стоял посреди палубы с тремя кожаными мешками, набитыми серебряным ломом и монетами, а Фулькариус, бывший от нас на расстоянии полета копья, отдавал приказы своим людям. Воины, что держали наготове стрелы и пики, опустили оружие, расслабив тугие узлы железных мышц. Гребцы взялись за весла.
– Они идут за серебром, Сигурд, – предостерегающе произнес Улаф, сведя брови.
Он знал, что англичане увидят наше боевое снаряжение – кольчуги, мечи и шлемы, – сложенное на палубе.
– Просто держи это поганое ведро подальше от «Змея», Дядя, – сказал Сигурд, следя за франкийским кораблем ястребиным взором.
Израненное лицо ярла лихорадочно лоснилось. Улаф, кивнув, взял одно из свободных весел, Брам последовал его примеру. На носу кнорра франки уже вооружились длинными шестами и приготовили канатные кранцы[20], чтобы, двигаясь по течению, подойти к нам вплотную. Теперь я ясно увидел выражение морщинистого обветренного лица Фулькариуса и понял: он вряд ли заметит, даже если на борту «Змея» появится сам Хеймдалль и затрубит в Гьяллархорн, возвещая Рагнарёк. Взгляд начальника императорской охраны прилип, точно слизняк, к богатству, которое я держал в руках. Впрочем, его люди непременно поняли бы, кто мы такие, хотя, возможно, и не показали б виду, пока не получили бы серебро.
Десять весельных взмахов – и они здесь. «Всеотец, дай мне силы и удачи!» – прошептал я и, отклонившись назад, что было мочи швырнул в воздух первый мешок. К моему удивлению, тот упал прямо в руки франкам, которые, не веря собственным глазам, зло взревели.
– Ты с ума спятил, Ворон? – прорычал Улаф по-норвежски.
Другие викинги, потрясенные не менее капитана, разразились приглушенной бранью, но я уже запустил второй мешок. Он приземлился у мачты и, как видно, лопнул, отчего монеты высыпались на палубу: потому-то франки и устроили такую давку. Фулькариус неистово замахал руками и завопил, веля своим людям показать ему поднятые ладони.
Слыша слова Пенды: «Ворон, ты чертов дурень!» – я кинул третий мешок, но на этот раз бросок оказался чересчур сильным. Я не учел того, что кнорр подошел к нам ближе, и теперь серебро должно было бы плюхнуться в воду за кормой. Один из франков подхватил мешок в невероятном прыжке, однако потерял равновесие и кувыркнулся за борт вместе с ним. Это оказалось для нас удачей, посланной, возможно, самим Одином: франки незамедлительно дали задний ход, спасая своего человека, а вернее, свое серебро. Все они кипели от злости, а Эльдред, пытаясь оправдать мою выходку, прокричал, будто у нас слабовата обшивка и потому мы боимся столкновений, однако едва ли его кто-нибудь слышал в поднявшейся суматохе. Весла бились и цеплялись друг о друга, неподвижный воздух сотрясался от франкийских проклятий. Лишь когда Сигурд приказал нам трогаться и Улаф, помогая гребцам, стал мерно выкрикивать свое «хей!», на кнорре раздались ликующие вопли. Беря весло и просовывая его в отверстие, я увидел, как франки втащили через борт едва не потонувшего героя. В окружившей его толпе на мгновение открылась брешь: он стоял, запыхавшийся, но торжествующий, с видом победителя держа над головой мешок и во весь рот улыбаясь товарищам. Те приветствовали его радостными криками, показав нам спины, а мы, меся веслами серое железо реки, проплыли мимо.
Глава 12
И Сигурд, и Эльдред усомнились в том, что кусок голубой ткани, который мы привязали к ванте, стоит хотя бы выеденного яйца. Могло статься, Фулькариус даже просто отрезал его украдкой от собственного плаща, только бы выманить у нас лишний мешок. Но и три фунта серебра казались невысокой платой за то, чтобы, избежав боя, продолжить путь по реке. Это был, как выразился Брам, плевок в бушующем море против тех сокровищ, которые мы могли получить за евангелие. К счастью для меня, все завершилось благополучно, однако некоторые викинги продолжали осуждающе трясти бородами, не в силах простить мне то, как я обошелся с серебром, заработанным кровью и потом. Дольше всех не мог угомониться Аслак.
– За эти мешки можно получить славную кольчугу и добрый крепкий шлем, – крикнул он со своего сундука у левого борта, – а то и двух-трех большегрудых рабынь, чтобы согревали твою постель. А ты чуть не отправил такое добро на дно! Чертово сумасбродство – вот как я это называю. Сдается мне, ты налакался из тайных запасов Брама!
Тоже мне тайна! Все знали о бурдюках, полных медовухи, что Медведь прятал под двумя серебристыми волчьими шкурами в трюме «Змея», но только храбрец или полудурок отважился бы окунуть бороду в этот нектар без позволения хозяина. Не знаю, был ли я тем или другим, когда втихомолку уменьшал запасы Брама, чтобы Пенда смачивал язык и не болтал обо мне и Кинетрит. «Теперь уж все равно», – подумал я, откидываясь назад при взмахе веслом и через плечо глядя на Аслака. Когда-то я сломал ему нос, хотя сейчас, к моей досаде, это не было заметно. Он тоже сломал мне нос, который с тех пор стал кривым, как задняя лапа зайца.
– Если б какой мешок и упал, – сказал я Аслаку, – мы задобрили бы Ран, а ее милость нам, пожалуй, не помешает.
Про себя я подумал, что, встреться мне тот франк, который поймал серебро и наглотался речной воды, я бы купил ему рог меда величиной с мою ногу, чтобы бедолага промыл забитую илом глотку.
– Милость Ран? – взревел Брам. – Да за три фунта серебра старая сука влезет к нам на борт и будет тебя употреблять, пока ты весь не высохнешь!
Как бы то ни было, мешки достались не Ран, а Фулькариусу, благодаря чему мы сейчас плыли вверх по франкийской реке, и солнце, как расплавленное железо, жгло наши лица, опускаясь в море, что осталось далеко позади. Франки, долгое время шедшие по берегу вровень с нами, теперь стали рассеиваться. Либо они сочли нас неопасными, либо просто поняли: нападать на их дома мы не намерены, стало быть, пускай беспокоится кто-то другой. Я испытал облегчение, избавившись от груза враждебных взглядов. Секвана стала широкой, и никакие преграды не затрудняли ее движения. Здешний берег был довольно пустынным, потому что при таком быстром течении трудно спустить судно на воду или даже поставить его на якорь. Малейший промах – и оно даст стрекача быстрее, чем пленный ирландец, вымазанный гусиным жиром, так что поминай как звали. Впереди, там, где река снова начинала петлять и ее бег замедлялся, домов и причалов становилось больше. А значит, больше любопытных франков.
Англичане неплохо помогли нам одурачить Фулькариуса и его людей. Выставив напоказ свои кресты, они все сыграли нам на руку, но в особенности мы были обязаны одному из них – тому, кто набросился на Фулькариуса с бранью и пригрозил отрезать ему язык. Звали сакса на самом деле не Годрик, а Виглаф. Это был коренастый воин с короткими редеющими черными волосами, которые он зализывал вперед, так что редкие пряди прилипали к потным вискам. На красном лице торчал длинный острый нос, а круглый подбородок походил на дикое яблоко. Вероятно, Виглаф вовсе не думал нам помогать, а вправду рассвирепел оттого, что его назвали датским язычником, и готов был не шутя прыгнуть за борт с ножом.
Так или иначе, он казался ошарашенным, когда Сигурд подозвал его к себе, на корму «Змея», и подарил ему золотое кольцо, снятое с собственной левой руки. После битвы мы отобрали у англичан все сколько-нибудь ценное: мечи, ножи, кольчуги, поясные пряжки и наконечники, застежки, кольца. Им оставили лишь одежду, что была на них, да деревянные кресты, к которым мы предпочитали без надобности не прикасаться. Полученная Виглафом награда стала для него первым шагом на пути к тому, чтобы вновь обрести утраченную воинскую гордость. И хотя он принял суровый вид, беря кольцо из рук Сигурда на глазах у Эльдреда и других англичан, в его груди наверняка затеплились угли надежды. Ведь он был не только христианином и слугой олдермена, но и воином, видевшим, как Сигурд победил Маугера – грозного противника. Он, Виглаф, мог ненавидеть нашего ярла, но при этом не мог им не восхищаться. Надев кольцо на палец, англичанин сел на свою скамью, ловко просунул весло в щель и в лад с остальными погрузил лопасть в воду. Его соплеменники ничего не сказали, однако Бальдред, великан, которого едва не распотрошил Асгот, отрывисто кивнул, и этого было довольно.
Вечером, когда наша одежда пропиталась холодной росой, да и все на борту отсырело, мы бросили якорь в укромном месте у островка на середине реки. Ровная глинистая земля блестела в лунном свете, что прорезался сквозь облака и падал кудрявыми лентами на быстро бегущую воду. Не найдя, к чему привязать корабли, мы поставили их на якори. Вбивать причальные столбы отправился Улаф с англичанами. На борт они вернулись такими перепачканными, что только глаза торчали из грязи. Потом им пришлось отмываться, цепляясь за веревки и дрожа от холода. Мы не переставая смеялись над бедным Дядей: раздевшись, он сделался похожим на большое белое рычащее чудище. После мытья они повесили одежду сушиться на ширстреке «Змея», а сами закутались в мех, и тогда Улаф спросил нас, почему он, второй по старшинству среди всех присутствующих, возился по уши в грязи и холодной воде, пока мы, молодые парни, сидели и чесали зады.
Для того чтобы плыть дальше, было уже слишком темно, а причаливать к берегу, не зная ни нрава реки, ни ее окрестностей, ни настроения местных жителей, Сигурд не хотел. Остановившись у этого болота, мы не могли отдохнуть на суше, однако корабли были защищены, и франки нам не угрожали. Назавтра нам следовало найти подходящее место для ночлега, прежде чем мы перестанем разбирать путь в темноте.
Кинетрит уснула между мною и отцом Эгфритом, а когда суровый ветер засвистел в весельных прорезях и за ширстреком, она подвинулась в мою сторону, повернувшись ко мне изгибом спины. Мне захотелось лечь на бок и обнять ее, что я и сделал. Укрыв нас обоих шкурой, я положил правую руку на бедро Кинетрит, а под ее согнутое колено уютно уткнул свое. Во сне я вдыхал умиротворяющий запах золотистых волос любимой женщины, и даже если б сам Карл взобрался на борт «Змея» с мечом, горящим священным пламенем, я бы не пошевелился.
Сырое серое утро пахло илом и водорослями, что расползлись по глинистому островку и берегам реки. Туман лениво подымался над Секваной, словно душа, не желающая покидать мертвое тело. Викинги, зевая и пуская газы, подходили к ширстрекам кораблей. Пока их дымящаяся моча лилась в реку, подымая брызги, они терли глаза и вытряхивали из голов остатки сна. Волосы были всклокочены, бороды помяты. Мы чесались и искали в одежде вшей при блеклом свете раннего утра. Когда я поднес к лицу тыльную сторону руки, у меня в животе что-то сжалось: я ощутил на своей коже запах Кинетрит.
Просыпаясь на борту корабля, испытываешь удивительное, почти неземное чувство. Да, все на тебе сырое, иногда твои кости жалуются на жесткие доски палубы, и ты частенько сам себе кажешься травой, примятой чьим-то башмаком и ждущей, когда ветер ее поднимет. Но корабль окутывают чары сейда[21], и ты словно стоишь на невидимом мосту, ведущем в мир духов. Люди разговаривают вполголоса, все звуки приглушены, и даже наши судьбы молчат. Верно, норны еще не пробудились, или им недостает света, чтобы плести вирды, – узоры наших жизней. Ну а для человека уже начался новый незапятнанный день, и, проснувшись на спине дракона, мы готовы продолжить странствие по морскому пути.
Позавтракав сыром, вяленым тюленьим мясом и остатками хлеба, который уже сделался суше выдержанного дуба, мы собрались отчаливать. Викинги притворялись, будто заняты делом, надеясь, что им не поручат отвязывать корабли от столбов, вбитых в топкую грязь. Но, как ни старайся, на то, чтобы снять с себя мех, связать волосы на затылке и взять весло, много времени не потратишь, и на сей раз Улаф выбрал себе в помощники пятерых норвежцев. Может быть, не хотел больше испытывать терпение англичан, а вероятнее, злился на нас за вчерашний смех. Среди тех, кому не повезло, оказался и я. Мы поскальзывались и падали, барахтаясь в илистой жиже, как новорожденные ягнята в утробной слизи своих матерей, пока нам не удалось наконец отвязать корабли. Грязь лежала на нас в семь слоев. Я раздраженно крикнул Бьорну, чтобы он кинул мне веревку, повиснув на которой я мог бы отмыться. Кинетрит, наблюдавшая это жалкое зрелище с носа «Змея», хихикнула, разозлив меня еще пуще.
Брам поднял облепленный грязью якорь, мы просунули весла в отверстия, окунули лопасти в спокойную воду и двинулись навстречу солнцу, которое медленно выкатывалось на хмурый небосвод в своей золотой колеснице. Я воспрял духом. Утреннее купание смыло с кожи запах Кинетрит, но при этом очистило меня и от злобы. Чувствуя, как ветер сушит мои волосы, а гребля согревает мышцы, я вспоминал недавнюю неприятность почти что весело. И все-таки я твердо усвоил: над Дядей лучше не смеяться.
«Фьорд-Эльк», шедший за нами следом, рассекал воду так же легко, как разогретый нож режет сало. Весла опускались и поднимались в безукоризненном согласии – слаженнее наших, ведь на борту второго дракона не было неопытных англичан. На носу, у креста, стоял Браги Яйцо, прозванный так за то, что от головы до пят на нем не было ни единого волоса. Сигурд сделал его капитаном «Фьорд-Элька» после того, как Глум, прежний капитан, предал наше братство. Сколь я мог видеть, Браги неплохо справлялся с делом. Кормчим был назначен его брат Кьяр, сменивший Глумова родича Торгильса, который погиб в одну ночь с самим Глумом и верзилой Торлейком возле пастушьей хижины среди валлийских холмов. Теперь, когда Кьяр стал кормчим «Фьорд-Элька», гордость выпирала из него так же, как у коня кое-что выпирает под брюхом, если он хочет вскочить на кобылу. Мне это пришлось по нраву: я радовался, видя, как он стоит на корме, держа румпель уверенной рукой.
День выдался хмурый, однако берега, вдоль которых мы плыли, были многоцветны, точно богатый ковер, и непрерывно менялись. Мы скользили мимо известняковых гор и долин, где довольный скот жевал сочную зеленую траву. Мы шли мимо бескрайних полей спелого желтого льна, мимо каштановых, буковых, дубовых, ореховых, еловых и сосновых рощ. Среди деревьев рыли землю свиньи и кабаны, чье хрюканье доносилось до нас по воде. Если вглядеться, можно было увидать оленя, а Бодвар заприметил огромного серебристого волка, бежавшего от реки в глубь берега, и крикнул, чтоб мы все посмотрели. Но зверь успел скрыться от наших взглядов.
– А кто запретит нам полакомиться мясом в землях этого императора? – прогрохотал Брам Медведь, не обращаясь ни к кому из нас в отдельности.
Мы не нашлись, что ему ответить, и потому вскоре, привязав корабли к ивам, стоявшим у реки, поймали и зарезали четырех свиней и старого кабана, да еще прибавили к ним трех заблудившихся цыплят, найденных Флоки Черным. Бьорн и Бьярни соорудили при помощи шкур и кольев коптильный шатер, внутри которого повесили куски мяса над медленно горящим костром из дубовых и яблоневых поленьев. Покончив с этим делом, братья сели вместе с нами у большого открытого огня. На вертеле поджаривался кабан с цыплятами. Кинетрит и Эгфрит ощипали птичьи тушки, начинили их луком и натерли уэссексским маслом, кориандром и солью. Дух пошел такой, что у нас потекли слюни, а когда Ирса с Хастейном Краснолицым вынесли пузатые бурдюки и стали разливать пенящийся мед в роги и чаши, я и вовсе подумал, будто попал в Вальхаллу.
– Этот край недурен на вкус, – пробормотал Брам, жуя мясо и тыльной стороной руки вытирая жир с губ. – Еды здесь больше, чем человеку под силу съесть.
– И никто ее не охраняет, – прибавил Свейн. Широкая улыбка разомкнула его блестящую рыжую бороду, и он оторвал зубами новый кусок мяса. Мясо и мед были для викингов так же дороги, как золото и женщины, а может, и еще дороже. – Эти франки слишком щедры, – продолжил Свейн, обсасывая пальцы. – Жаль только, нет свинопасов, которых можно было бы поколотить. Без них не так потешно.
Флоки Черный вздохнул и покачал головой.
– А почему? Как, по-твоему, великанова сопля? – спросил он, приподнимая брови и глядя на Свейна.
Тот поднял цыплячью ножку, словно военный трофей, и, нарочито широко разинув рот, откусил.
– Может, Белый Христос велит своим рабам кормить бедных язычников?
Высказав такую догадку, Свейн улыбнулся от уха до уха и принялся жевать. Другие викинги усмехнулись. Саксы, не понимавшие наших речей, были довольны уже потому, что могли вдосталь набить брюхо. Только Эльдред, хотя и ел вместе с ними, не разделял их радости и как будто блуждал где-то далеко.
– Скотину не держат в загонах, потому что никто ее не крадет, – невозмутимо сказал Флоки. – Здесь тебе, Рыжий, не север. Видно, в этих землях суровые законы заставляют франков ходить по струнке. – Вытащив изо рта недожеванный хрящ, Флоки изучил его при свете костра и бросил в огонь. – Император держит страну и людей мертвой хваткой.
Свейн пожал плечами и удовлетворенно зашлепал губами, будто слова товарища нисколько его не обеспокоили. Однако других они заставили призадуматься. Конечно, может, Черный и ошибался. Просто свинопас заболел и не смог присмотреть за стадом. Или животные сбежали из соседней деревушки. И все же то, что сказал Флоки, пахло правдой. Может, этот сын волчицы и имел привычку слишком много думать, но чутье у него было отменное: он пронюхивал, что к чему, прежде чем мы все успевали понять, откуда дует ветер. Кроме того, налетевшие на нас корабли береговой охраны и башни, выстроенные среди прибрежных утесов, – все это показывало нам: Карл знает, как взнуздать лошадь, и умеет держаться в седле.
В ту ночь наше братство разделилось: одни остались на кораблях, другие сошли на берег, но все спали, закрыв лишь один глаз. Наутро мы снова двинулись в путь, вволю наевшись и набив трюмы отменными кусками копченой свинины, которые должны были кормить наши мышцы, чтобы весла бойчее сбивали воду в изгибах Секваны. Изредка нам попадались небольшие суда, жавшиеся к опасным топким берегам, лишь бы быть от нас подальше. Встретили мы и один кнорр – с виду новое, хорошо защищенное от непогоды судно с тремя толстыми коровами, горой бочонков и шестью людьми на борту. Удирая от нас, они посадили судно на мель. Киль врезался в скрытый под водой нанос, кнорр намертво застрял, а люди чуть не вылетели за борт. Коровы испуганно затопотали, франки принялись на них кричать, в ответ на крики раздался рев. Мы проскочили мимо этой кутерьмы, оставив после себя лишь вспененную воду да отголоски норвежского и английского смеха.
Других происшествий в тот день не случилось. Мы махали руками и улыбались всем, кто попадался нам на пути, а отец Эгфрит приветствовал братьев по вере, выкрикивая благословения так же легко, как если бы кидал яблоки. Иногда франки с опаской нам отвечали, но чаще хмурились, потому что боялись нас и не понимали словес монаха. Вечером, когда два старых рыбака в двувесельной лодке уставились на него, недоуменно вытаращив глаза и разинув рты, он простонал, едва заметно шевеля губами:
– Моя прекрасная латынь, язык самого Папы Льва, да хранит Бог Его Святейшество, тратится впустую на этих олухов, как хорошее вино на норвежцев! – Говоря это, монах продолжал улыбаться и благословляюще махать руками. – Dominus illuminatio mea! Dominus vobiscum! – крикнул он, завершая свое краткое богослужение, а затем покачал лысой головой. – Мои речи для них будто крики гуся. Невежественные свиньи!
Эгфрит посмотрел на меня, ища поддержки, но, поняв, что не найдет ее, закатил глаза.
– Не удивляйся, монах, их ошарашенному виду, – сказал я со своего сундука, не переставая гнать веслом речную воду. – Ведь прежде они никогда не встречали говорящих куниц.
Пенда захохотал, а поглядев на рассерженную рожу Эгфрита, рассмеялся и я. Но Кинетрит наградила меня таким взором, что я незамедлительно постарался принять кроткий вид, хотя мои старания и не были слишком плодотворны.
До наступления сумерек облако укатилось на юг, и когда голубое небо потемнело, звезды стали вспыхивать на нем, будто угольки в огромном погребальном костре какого-то древнего бога. Повисла невероятно яркая луна. Она лила холодный серебристый свет на реку и на поля, тянувшиеся по обоим берегам. Мы причалили на мелководье, в зарослях камыша, спугнув куропаток и диких уток, которые захлопали крыльями, зло заверещали, заскрипели и закрякали, охраняя свои гнезда. Здесь все было не так, как в устье и низовьях реки. Солоноватые приливные воды, где водится и речная, и морская рыба, заиленные берега, где гуси и цапли клюют водоросли и личинки поденок, – все это мы оставили позади. Больше не слышались скрежещущие крики береговых ласточек, покидавших гнезда перед отлетом на юг. Здесь, в среднем течении Секваны, вода струилась мягче, и грести стало легче, хотя мы по-прежнему надеялись, что ветер переменится, позволив нам поднять парус и убрать весла. Так или иначе, завтрашний день был завтрашним днем. Теперь же мы бросили якори с кормы «Змея» и «Фьорд-Элька», а носы кораблей привязали к спутанным шишковатым корням старого дерева, которые оголила вечно бегущая река.
Те из нас, кто накануне ночевал на берегу, в этот раз остались на судне. Сигурд извлек печальный урок из того, что мы пережили на английском побережье, когда Эльдред напал на нас одновременно с суши и с моря, усадив своих людей в рыбацкие лодки и дав им в руки зажженные факелы. С тех пор на борту всегда было достаточно гребцов, чтобы мигом отвести корабль в безопасное место. Викинги, сошедшие на берег, всегда могли побежать за своими драконами следом и взойти на них позже, когда угроза минует. Мы признавали, что эта уловка разумна, и потому не жаловались, хотя половине из нас приходилось спать, прислонясь к жестким дубовым ребрам корабля или к собственным дорожным сундукам. Следы огня, до сих пор темневшие, будто оспины, на теле «Змея», служили нам болезненным напоминанием о том, как он чуть не погиб, и теперь мы видели свой долг в том, чтобы его оберегать.
На юго-востоке небо окрасилось слабым рыжеватым светом, из чего мы заключили, что в глубине материка, за вызубренной стеной леса, прячется город или, самое малое, деревня. Вероятно, франки узнали о нашем приближении и разожгли костры, чтобы мы не подошли к ним невидимыми. А возможно, огонь развели в честь какого-нибудь праздника либо для проведения свадебного или погребального обряда. Так ли, иначе ли, мы не собирались тревожить местных жителей, покуда они не собирались тревожить нас.
Пленным англичанам велели сойти на берег, но Эльдреда держали от них отдельно: Сигурд хотел разрубить связи между олдерменом и остальными саксами. Мы с Пендой, разостлав шкуры на корме «Змея», играли в тафл и пили мед. Викинги, оставшиеся на борту, расположились, как могли, на опустевшей палубе: кто-то уже спал, кто-то вполголоса разговаривал, кто-то доделывал то, что не успел за целый день, проведенный на веслах. Кинетрит с отцом Эгфритом устроились позади нас, на площадке для боя. Подивившись тому, как тихо они сидят, я вдруг понял: они рыбачат. Конопляные лесы, будто копья, стремились на дно реки под тяжестью каменных грузил. При всем своем терпении монах и девушка до сих пор не поймали ни единой рыбешки.
– Она отблагодарила тебя за то, что ты спас ее ублюдка-отца? – спросил Пенда, бросив взгляд мне за плечо. Даже сейчас, тихим вечером, когда мой приятель спокойно играл в тафл, его шрам, пики вздыбленных волос и дикие глаза придавали ему устрашающий вид. – Ты ведь заслужил небольшое вознаграждение, правда, парень? – проговорил он, приплясывая бровями. – Ложечку меда, а?
Я сердито взглянул на Пенду, боясь, что Кинетрит нас услышит, но он лишь ухмыльнулся, сделавшись похожим на проказливого мальчишку.
– Смотри лучше на доску, а они пускай себе рыбачат, – пробормотал я, двигая по полю раковину гребешка, чтобы «съесть» черно-синюю мидию. – Бьюсь об заклад, даже Свейн тебя обыграет.
Пенда нахмурился и обиженно произнес:
– Зато ты так долго думаешь перед каждым ходом, что я засыпаю, дожидаясь своей очереди. Играть с тобой не многим веселей, чем смотреть, как растет дерево.
– Кинетрит! Клюет! Тихонько, осторожно… – Я обернулся: Кинетрит легко и плавно потянула удилище. – Вот так, молодец, не давай ему сорваться, – сказал отец Эгфрит, нетерпеливо перепрыгивая с ноги на ногу.
Кинетрит, не видя и не слыша ничего вокруг, расширенными глазами смотрела на удочку и покусывала нижнюю губу.
– Видать, там что-то тяжелое, – сказал Пенда. Я кивнул, но ни один из нас не подумал предложить помощь. – Может, франкийский башмак?
В этот миг Кинетрит, восторженно вскрикнув, вытянула из воды рыбину, и та забилась о палубу «Змея».
– Щука! – взвизгнул Эгфрит, бросаясь на колени, чтобы схватить серо-зеленую крапчатую рыбу и вынуть крючок. – Берегись ее зубов! Они дьявольски острые!
Монах был прав: брызгая в него кровью и дерьмом, рыбина тщетно разевала угрожающе зубастую пасть.
– Gaddr, – произнес Ирса Поросячье Рыло, одобрительно кивнув.
– У них это зовется щукой, Ирса, – сказал я по-норвежски.
Несколько викингов подошли поздравить рыбаков и принялись спорить о том, какова остроголовая gaddr на вкус в сравнении с другими речными обитателями: плотвой, красноперкой, лещом и окунем.
– Она с мою руку длиной! – восхищенно проговорил я.
– И почти такая же длинная, как мой срамной уд, – улыбнулся Ингольф, обнажив дыры, которых у него во рту было больше, чем зубов.
– Зато гораздо краше, – гавкнул Хастейн и хлопнул Ингольфа по спине.
– Неплохо, девушка, – сказал Пенда, почесывая шрам, – тут будет чем закусить.
– А я уж думал, там, внизу, все уснуло, – задиристо проговорил я, в то время как Эгфрит поднял щуку за жабры так гордо, будто выловил ее сам.
– По-твоему, Ворон, это первая рыбина, которую я поймала? – спросила Кинетрит и выгнула брови, словно бросая мне вызов.
– Да нет, – пробормотал я, – просто…
– Играйте дальше, детишки, а дело предоставьте нам, – по-куньи осклабился Эгфрит.
Я мог бы размозжить ему голову, но вместо этого мы с Пендой понуро вернулись к нашему тафлу. Пока я обдумывал свой ход, Кинетрит сказала:
– И знаешь, Пенда? Дави-ка ты блох, что прыгают у тебя в штанах. Ворон не получил от меня никакого вознаграждения.
Глава 13
Меня разбудили проклятия. Кинетрит, лежавшая подле меня, пошевелилась. Продолжая кутаться в шкуры, мы сели, чтобы посмотреть, в чем дело. Я протер кулаками глаза. К моему облегчению, ругань Ингольфа сопровождалась смехом других викингов. Сам он, беззубый, стоял посреди палубы и тер руками свои штаны, неистово тряся головой и изрыгая такую брань, от которой покраснел бы даже Тор. Ингольф всего себя обмочил. Вернее, мочился-то он через ширстрек, но ветер решил ему помешать, и теперь он был в мокрых штанах и наихудшем расположении духа.
– Благодаренье Ньёрду! – возгласил Ирса, потягиваясь и оглушительно выпуская газы.
– За то, что я облился мочой? – недоумевающе проговорил Ингольф, показывая темное пятно у себя на левом бедре.
– Нет, тупица. Хотя… – Ирса приподнял одну бровь и склонил голову набок, – да, и за это тоже. Ветер переменился, грязная ты свинья! Теперь он дует с юго-запада. – Викинг протянул руку и дотронулся до своего весла, лежавшего на подставке среди других. – Стало быть, сегодня эти штуковины могут лежать без дела. – Он зевнул так широко, что выступили слезы, и, подмигнув одним глазом Кинетрит, с хитрой улыбкой сказал мне: – Будь я на твоем месте, Ворон, я бы целый день не вылезал из своего мешка.
– А будь я на твоем месте, Ирса, я бы привязал на шею камень и бросился за борт, – сказал я, поняв, как нелегко плыть с женщиной на корабле-драконе, особенно если ты ее любишь.
Готовя завтрак, викинги пребывали в отличном настроении оттого, что им не нужно грести. Кинетрит и Эгфрит вдвоем поймали двух крупных щук и трех окуней. Все это отправилось в котел вместе с листьями хрена и корками хлеба, зачерствевшими так, что не прожевать. Бьярни подстрелил из лука пару уток; их сварили отдельно – с чесноком и заячьими костями, которые Ирса припас с ужина. Я не знал, что едят на «Фьорд-Эльке», но пахло это отвратительно, и я был благодарен рыбацкому везенью Кинетрит и охотничьему искусству Бьярни. Однако я мог поспорить: какая бы похлебка там ни бурлила, викинги на втором корабле не меньше нашего радовались, что готовят прямо на борту. Сигурд не часто разрешал нам разводить огонь на балласте.
– Вода здесь мягкая, как молоко, а знаешь почему, парень? – спросил меня Улаф накануне вечером, бросая якорь и пропуская склизкую от тины веревку через свои заскорузлые ладони.
– Потому что мелко, Дядя?
Он покачал головой.
– Тут достаточно глубоко, чтобы утопить камень с тебя величиной. – Улаф проверил, хорошо ли затянут узел на швартовном столбе. – Нет, Секвана течет медленно, потому что ее верховье лежит всего в восьми копьях над уровнем моря. Падать ей невысоко, и она не успевает набрать скорость. Дома у нас реки другие. Несут тебя быстрее Слейпнира и выплевывают в море. Не успеешь оглянуться – уже вытираешь с морды чаячий помет.
Поскольку река была спокойная, Сигурд позволил тем, кто спал на борту, развести небольшие костры на скользких балластовых камнях и подвесить над ними котлы. Рядом мы держали ведра с водой, которой потом залили огонь. Подкрепившись, мы подняли парус, отчалили и медленно пошли вверх по Секване, запрягши ветер, который испортил Ингольфу начало дня. Восходящее солнце золотило воду и согревало наши лица. Избавленные от необходимости грести, мы уселись на носу, где высился простой деревянный крест, и чистили свое снаряжение – кольчуги, шлемы и мечи, – удаляя с них ржавые крапины, которые начали появляться после нескольких дней, проведенных на соленом воздухе.
Викинги говорили о родичах, оставшихся дома, а я больше молчал и слушал, ведь у меня родичей не было. То есть, может, и были, да я не знал, кто они и где. Я знал только, что плыву по Секване в главный город императора Карла. Больше ничто меня не заботило. Память моя превратилась в пустую темную бочку, после того как двумя годами ранее я получил удар, от которого из головы вытекли все умения и все воспоминания. Очнулся я в доме старого Эльстана. Он кормил меня и учил ремеслу, но теперь он был мертв, и с каждым днем, что я проживал на борту «Змея», мои корни врастали в него чуть глубже. Сам не зная почему, я думал, будто причудливые резные узоры на его носу, ахтерштевне[22] и стройной шее Йормунганда таят в себе сагу о моих предках. Я воображал, что мой отец, если он жив, бороздит море, как Сигурд. Выбросило ли меня за борт во время шторма у берегов Уэссекса, и я ударился головой о скалу, истертую морем? Или я был частью другого воинского братства, когда английская дубина лишила меня сознания, а после я лежал на поле, принимаемый всеми за мертвого? Может, я встал и, не разбирая дороги, добрел до Эбботсенда, где упал снова? Вероятно, мне не суждено это узнать, и потому я не перечил собственному сердцу, когда оно билось в лад с норвежскими веслами.
В полдень нам вновь пришлось грести: ветер стал слишком слабым, чтобы противостоять Секване, которая неудержимо стремилась к морю. Следующие три дня мы двигались на юг мимо ольховых и ивовых рощ, порой уступавших место пшеничным и ячменным полям, что волновались, подобно золотому океану. Мы не причаливали возле деревень, ведь их жители, высыпав на пологие или холмистые берега, так пожирали нас глазами, словно мы были зеленолицые пришельцы из их христианского ада.
– В голове у франков, поди, неразбериха, как у Свейна Рыжего, когда он считает пальцы на руках и ногах, – сказал Кнут, стоя у румпеля. – Два языческих дракона с крестами на носах! Бедолаги, верно, не знают, молиться им или бежать.
Не желая выводить местных обитателей из неведения и потому нигде надолго не останавливаясь, мы двигались по огромному медленно текущему завитку Секваны до тех пор, пока кресты на носах наших кораблей не повернулись к северо-востоку. Через два дня мы прибыли в Париж. Не знаю, чего я ожидал, но уж точно не того, что увидел. Мы словно оказались в огромной лохани: в том месте река утолщалась, готовясь обогнуть с двух сторон низкий остров. Его, по словам Эгфрита, некогда занимало племя галлов, с которыми воевал Юлий Цезарь – величайший из римских полководцев.
– Вашему ярлу Цезарь пришелся бы по душе, – сказал Эгфрит, почти не скрывая отвращения. – Он поклонялся языческим богам, и от его оружия пали бесчисленные тысячи.
– Бьюсь об заклад, умер он не на тюфяке, – произнес Улаф с восторженной улыбкой.
– Ему некогда было умирать, Дядя, – вставил я. – Он был слишком занят тем, что резал христиан.
Теперь улыбнулся Эгфрит, и его глазенки лукаво сверкнули.
– Юлия Цезаря зарезали собственные друзья, когда он обсуждал со своим сенатом римские законы.
При последних словах Улаф плюнул за ширстрек «Змея», а затем сказал:
– Законы никто не любит.
По приказу Сигурда, Кнут толкнул румпель вперед, направив судно в левый рукав реки. Тот был шире правого; значит, в случае чего мы смогли бы легче развернуться. Не сводя глаз с берега, мы работали веслами еще слаженнее обычного, ведь на нас смотрели другие корабельщики. Глинистый остров, плавно выраставший из воды, венчался рукотворным травянистым валом, на котором стояла стена из гладких заостренных бревен высотой с копье. Через равные промежутки она прерывалась воротами (тянувшиеся к ним деревянные настилы вели от воды прямо в город). Этих дыр оказалось так много, что я подумал, будто франки лентяи или глупцы, раз изрешетили собственную крепость ради удобства. Место было бойкое: дюжины рыбацких лодок и пузатых кнорров стояли, выволоченные прямо на глинистый берег или привязанные к причальным столбам. Подняв обращенные к городу носы, суда ждали своих хозяев, занятых торговыми делами. День был ясный, но, едва мы подошли к Парижу на расстояние выстрела из лука, небо превратилось в огромный клубок черного, серого и желтоватого очажного дыма, который медленно поднимался к востоку.
Время от времени за бревенчатым частоколом показывался отрезок белокаменной стены, а из нее вырастали несколько бастионов, но все эти укрепления едва ли могли обеспечить городу надежную защиту. Эгфрит сказал, что мы видим лишь остатки крепости, которую римляне построили, обороняясь от врагов. «Сейчас этим стенам пришлось бы туго, даже если б на Париж напала паршивая собака. Не говоря уж о нас», – зловеще сказал я сам себе, вспомнив, как Сигурдовы волки сожгли Эбботсенд.
– Поглядите-ка на них! Ровно крысы в выгребной яме, – ухмыльнулся Брам, когда франки, приметив нас, в страхе бросились бежать по грязным настилам.
– Видать, боятся они святого распятия, – сказал я Эгфриту, стоявшему у мачты рядом с Сигурдом.
– Крестам не под силу разогнать облако греха, что окутывает эти корабли, – отрезал монах. – Даже обув сандалии самого Иисуса Христа и надев Его ризу, вы, свиньи, не станете менее жестоки. Для Всевышнего вы потеряны.
Сигурд мог бы подхватить Эгфрита и вышвырнуть за борт, точно помои из ведра, но почему-то остался глух к его куньему писку. По правде говоря, наш ярл все еще не окреп, и некоторые из его ран по-прежнему оставляли на одежде дурно пахнущие гнойные пятна. Он слегка сутулился и был худее, чем когда-либо прежде.
– Пристанем здесь, Дядя, – сказал Сигурд, показывая на свободное от лодок место в самой узкой части берега (полоса, отделявшая воду от насыпи, была лишь в два копья шириною). Не найдя причальных столбов, я посмотрел выше: на целых сто шагов в одну и в другую сторону в частоколе не было ворот. Сигурд выбрал это место, потому что отсюда мы издалека увидели бы идущих к нам людей и успели бы приготовиться к встрече.
– Хитрый черт, – пробормотал Пенда.
Прежде чем вывести корабль на глинистый берег, мы еще несколько раз с усилием взмахнули веслами, а затем молниеносно убрали их, схватили щиты и копья, надели шлемы и прямо с борта «Змея» прыгнули в топкую грязь. Обременять себя кольчугами мы не стали. Как нам ни хотелось быть готовыми к бою, если придется драться, мы понимали: наша броня громче боевого рога протрубит франкам о том, что мы пришли убивать и грабить. Не строясь в ряды, мы обыскивали взглядами насыпь и берега. Пока мы плыли под парусом, я начистил свои изношенные башмаки и теперь мысленно бранил себя за напрасно потраченное время. Ошметки кожи, смешавшись с грязью, снова стали никуда не годны, и мои ноги были мокры, как утроба Ран.
Виглаф и другие саксы взяли на борту причальные столбы и обухами топоров вбили их в грязь, а потом толстыми канатами привязали к ним корабли. На миг повиснув на носу «Змея», Сигурд неловко упал, а вставая, поскользнулся, но я, как и многие из нас, предпочел притвориться, будто слишком увлечен созерцанием Парижа, чтобы это заметить.
– Держи слизняка на короткой привязи, – велел ярл Флоки, который соскочил на берег рядом с Эльдредом, имевшим жалкий вид, и теперь, скривившись, толкал его пред собою.
Сперва я подумал, что Флоки морщится лишь от отвращения к олдермену, но затем понял: есть и другая причина. Сладостно умиротворяющий запах древесного дыма смешивался с тяжелой вонью человеческого дерьма. Вот почему этот край берега пустовал: в пятистах шагах к северу от нас по крепостному валу стекала блестящая струя нечистот, которую потом подхватывала Секвана. Мы пристали у реки франкийского говна.
– Добро пожаловать в Париж, – сказал Улаф, харкая и сплевывая в грязь.
Передав свое копье Бьорну, я прошлепал назад к «Змею» и протянул руку, чтобы помочь Кинетрит сойти, но она, отмахнувшись, прыгнула сама – босыми ногами в грязь.
– Помог бы лучше своему ярлу.
– Кинетрит, – прошипел я.
Она выпятила губы, и мне нестерпимо захотелось поцеловать ее, когда вдруг кто-то рявкнул: «Франки идут!».
Я обернулся. Их было трое: два солдата и сановник в сапогах до колен, в не по росту длинной горностаевой мантии и остроконечной шляпе из крысиного меха. С первого взгляда я понял, что он самодовольный индюк, и мне стало жаль его людей: шлепая к нам по грязи, они старались поспеть за его сапогами и то и дело увязали по колено.
Поток непонятных слов прорезал зловонный воздух. Затем Сапоги спросил на ломаном английском:
– Кто вы? По какому делу прибыли?
Голос сановника дошел до нас прежде его самого. Однако пока он не приблизился, Сигурд не отвечал. Наконец вельможа остановился в нескольких шагах и устремил на нас злобный взгляд. Солдаты задержали дыхание и скривились от вони.
Сигурд посмотрел на Эльдреда, ожидая, что тот сыграет отведенную ему роль, как при встрече с береговой охраной. Но олдермен не сказал ни слова. Он только повел измочаленными усами и почесал подбородок, видимо, обдумывая вероятные последствия своего молчания. Кинетрит подняла на него глаза.
– Кто вы такие? – опять спросил Сапоги, на этот раз поглядев на Эльдреда.
Ярл, нахмурясь, кивнул олдермену, но тот лишь сжал тонкие губы, на которых появилась тень улыбки.
– Я олдермен Эльдред из английского королевства Уэссекс, – послышалось через несколько мгновений, и у меня вырвался вздох облегчения. – Прибыл по делу к императору, – высокомерно прибавил лорд и, взглянув на частокол, ухмыльнулся, показывая, сколь слабое впечатление произвело на него это место.
– Императора? – переспросил Сапоги, почти смеясь. – Вы думаете, он живет здесь, в этой вонючей дыре? Император приходит сюда, лишь когда ему нужно золото, чтобы строить свои церкви. – Последние слова были сказаны без злобы. – Кто обвинит его в том, что он уезжает прежде, чем успеет нагреть свой трон? Его дворец в Экс-ля-Шапеле[23], далеко к северо-востоку отсюда. И вы туда не пойдете, да и вообще никуда не пойдете, пока не заплатите причальный налог. – Сановник самодовольно улыбнулся одному из своих солдат, кусавшему нижнюю губу, а затем нахмурился. Посмотрев на «Змея» и «Фьорд-Эльк», он снова перевел взгляд на нас, на Сигурда. – Эти люди – язычники, я их чую, – сказал вельможа, обращаясь к Эльдреду, и, указав на наши ладьи, добавил: – И корабли их языческие. – На мгновение его петушье самодовольство исчезло. Солдаты беспокойно переглянулись. – А ты не олдермен.
Эльдред только пожал плечами и посмотрел на Сигурда. В крепости зазвонил колокол. Я взглянул на закопченное небесное брюхо. Несколько неряшливых стаек грачей и ласточек разом ворвались в пространство над долиной, к югу от нас, а затем скрылись за частоколом. «Сапоги может прощаться с жизнью», – подумал я.
– Мы христиане, – уверенно произнес Эгфрит и перекрестился, будто желая очиститься от скверны несправедливого обвинения.
– Вы язычники! – повторил сановник и нацелил палец на лицо Сигурда. Едва ли он мог бы сделать что-нибудь более глупое. Солдаты, стоявшие по обе стороны от него, заерзали. Костяшки рук, сжимавших копья, побелели. Желваки на челюстях задвигались. – Вы датчане, – сказал вельможа. Перестав твердить «язычники» он хотя бы внес в свою обвинительную речь некоторое разнообразие. – По запаху чую.
Эгфрит взглянул на Сигурда, словно говоря: «Разве я не был прав?» – но ярл не заметил этого взгляда. Двумя размашистыми шагами преодолев расстояние между собой и Сапогами, он схватил сановника за голову и выколол ему глаза. Солдаты побежали прочь, бросив кричащего командира на произвол судьбы. Сигурд подтянул вельможу к груди, повернулся на бедре и резко дернул. Раздался громкий треск. Сановник рухнул лицом в грязь. Все мы стояли и смотрели. Только Флоки Черный кинулся догонять убежавших франков.
– Вперед! – приказал Улаф Бьорну и Бьярни.
Братья переглянулись, бросили щиты и, словно гончие псы, спущенные с привязи, понеслись по грязному берегу.
– Вы безумны! – крикнул Эгфрит, перекрестясь на этот раз по-настоящему. – Безумны, как дикие звери!
Сигурд пожал плечами:
– Мы вряд ли столковались бы с этим пустобрехом, который визжал, как резаная свинья, что мы датчане. Мы не потерпим таких оскорблений. Ведь мы датчане не более чем он.
– А за кого, по-твоему, они примут вас теперь? – произнес Эгфрит, покачав головой и воздев руки к небу.
Сигурд издал вздох – усталый или скучающий.
– Сейчас им неоткуда знать, кто мы.
Это было правдой, однако долго ли мы могли оставаться неизвестными? Я оглянулся: вокруг никого не было. Вероятно, произошедшего никто не видел. Флоки и Бьорн возвратились к нам, волоча два извалянных в грязи трупа так же почтительно, как если бы это были мешки с конским навозом.
Эльдред ухмыльнулся. Осклабился и Асгот, подумав, видимо, что теперь Сигурд выдаст ему англичанина, а он, жрец, в свой черед передаст его Всеотцу.
– Возвращаемся на корабли, – сказал Сигурд. – Мы не знаем, с чем имеем дело, и драться здесь нельзя. – Нахмурившись, он указал на грязь под ногами.
Его волки, не жалуясь, выдернули причальные столбы и влезли на борт.
– Позволь мне остаться с монахом. – Сказав это, я сам был удивлен, но глубинным умом понимал: мои слова небессмысленны. – Мы все разнюхаем, разузнаем, что нужно.
Викинги продолжали готовиться к отплытию, и только Сигурд с Улафом посмотрели на меня. Кинетрит тоже обернулась ко мне.
– А вдруг они видели, как мы убили таможенника? – спросил капитан, кивком указав на крепостной вал.
На борту уже собрались все, кроме тех, кто должен был помочь гребцам: толкнуть корабль и только потом, пройдя по воде, взобраться по канатам.
– Не видели, Дядя, – неуверенно сказал я. – А даже если они знают, что тут произошло неладное, – рано или поздно узнают, ведь таможенник не вернется, – им вряд ли придет в голову обвинить в этом монаха.
Отец Эгфрит вынужден был со мною согласиться, когда я передал ему то же самое по-английски. Думаю, раб Христов не меньше моего хотел обнюхать город франков. Он печально кивнул, все еще потрясенный убийством сановника.
– Я тоже пойду, – сказал Пенда и, не дожидаясь от Сигурда разрешения, спрыгнул с носа «Змея».
Хлопнув Эгфрита по спине, он коварно ухмыльнулся. Ярл посмотрел на Улафа. Тот пожал широкими плечами и почесал бороду, похожую на гнездо.
– Мы пойдем вверх по реке, отыщем тихое место. Будьте здесь послезавтра на рассвете. Мы вернемся за вами.
Я взглянул на Кинетрит, и пальцы мои сами потянулись к воронову перу, которое она привязала к моим волосам. Я мысленно обругал себя за то, что решил покинуть ее и отправиться в город, где народу больше, чем я когда-либо видел, – да еще все христиане.
– Позаботься об отце Эгфрите, Ворон, – произнесла Кинетрит, нахмурив лоб.
Кожа ее щек, прежде белая, как подснежник, потемнела от ветра и солнца. И все же никого прекрасней этой женщины я в своей жизни не видал.
– Я за ним присмотрю, – сказал я, желая сказать больше.
– А я присмотрю за ними обоими, миледи, – проговорил Пенда, учтиво кивнув.