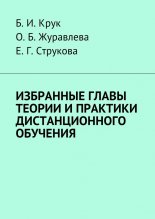Ворон. Сыны грома Кристиан Джайлс
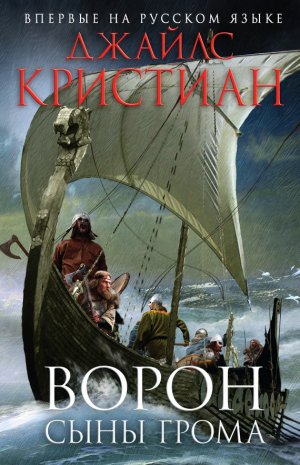
– Тогда ясно, почему аббатисе Берте не удается освободить эту суку от сатанинского семени. Я возьму ореховый прут и своими руками выбью из нее скверну, если будет на то Божья воля.
Я набросился на священника. В мгновение ока его шея оказалась у меня в руке, и я так сжал ее, что только хрящи глотки помешали моим пальцам полностью сомкнуться в кулак. В шуме других голосов я услышал голос Эгфрита:
– Ворон, нет!
Но ярость переполняла мой живот, и я по-звериному рычал, тряся священника, как собака треплет зайца. Вдруг я ощутил удар в голову и рухнул на колени. В глазах замелькали вспышки белого света. Надо мной громоздился Боргонов телохранитель. Нащупав нож, я вонзил лезвие ему в бедро, туда, где заканчивалась чешуйчатая броня. Он, взревев, ударил древком копья по моему шлему, отчего я снова упал. Небо как будто провалилось, меня захлестнула волна боли, перед глазами поплыли синие плащи императорских воинов, подоспевших на подмогу соратнику. У самого моего лица мелькнул меч, но другой меч со звоном отвел удар. Бьорн, подскочив ко мне, рассек голову франка надвое, и я, пытаясь встать, выкупался в фонтане кровавых брызг. Другой франкский воин ударил викинга в спину. Тот развернулся с яростным криком и, схватив меч обеими руками, глубоко вонзил его в грудь врага. Тем временем меня схватили, и, как я ни пытался высвободиться, мне не удавалось встать с колен. Расплывчато, будто сквозь толщу воды, я увидел Сигурда: он поскальзывался и падал, выбираясь из реки, позади него неистово барахтался Эгфрит.
– Тор! – проревел Бьорн, когда франкские клинки вонзились ему под кольчугу, смешав кровь и железные звенья в одну кровавую кашу.
– Бьорн! – закричал я.
В ответ на мой зов молниеносно вспыхнула его усмешка, а в следующее мгновение Боргонов телохранитель взмахнул своим коротким топором и отсек викингу голову. Она покатилась по высокой траве. Светлые волосы так и остались заплетенными в опрятные косы.
– Стоять! – крикнул Сигурд своей стае, увидев, что викинги начали покидать строй, бросаясь к Бьорну. – Назад! Не двигаться, чтоб вас всех! – вопил ярл, напрягши жилы на шее.
Он знал, что, если стена щитов рассыплется, участь Бьорна постигнет нас всех.
– Серебро! – прокричал Улаф и вместе с несколькими воинами подбежал к драгоценной горе.
Они встали, сомкнув щиты и нацелив копья на франков, которые, казалось, не знали, что делать дальше.
– Довольно! Прекратите! – крикнул Алкуин сперва по-английски, затем по-франкски. Нож, зажатый в руке одного из тех, кто меня держал, стал врезаться мне в горло. – Именем императора, вложите клинки в ножны! – приказал советник. Как ни стар и ни тщедушен он был, синие плащи ему подчинились. – Дети мои, мы пришли сюда не для того, чтобы драться с этими людьми. Не будем проливать кровь в светлый праздник святого Криспина и брата его Криспиниана. Сегодня мы и сами все должны быть братьями!
– Этот дьявол пытался убить служителя Господа нашего! – возмутился Боргон, брызгая слюной из старого рта, и указал на рябого червя, которого я не успел придушить.
Тот, хрипя, держался за шею, в углах его губ выступила пена. Другие рабы Христовы пытались успокоить собрата. Викинги большею частью стояли плотной стеной, повернувшись спинами к «Змею» и «Фьорд-Эльку». Только Улаф и еще дюжина людей, среди которых я заметил англичан, стояли над серебром, совершенно незащищенные. Франки могли обступить их со всех сторон, как река обступила костлявое тело монаха. Я знал: Улаф и его воины готовы умереть за наше богатство. Мне внезапно припомнилось, что имя Одина означает «неистовство». Всеотец видел нас и, возможно, даже приложил руку к случившемуся, двигая нами, как ракушками для игры в тафл. Верно, он захохотал, когда хлынула кровь.
Эгфрит в рубахе, с которой стекала вода, трясся подле Сигурда. Ярл уже взял свой меч и приблизился ко мне, направив острие на франков, все еще державших меня.
– Отпустите его – или умрете не сходя с места! – прорычал он.
Франки, взглянув на Алкуина, только усилили хватку, однако отняли нож от моей шеи. Телохранитель Боргона направился к Сигурду. Франкский великан не хромал, хотя вся его левая нога была залита кровью. Он поднял копье и топор для удара, но епископ что-то прокричал, и все франки застыли, устремив взгляды на Алкуина. Тот махнул седой головой, и солдаты императора отошли назад, позволив мне подняться. В ушах у меня по-прежнему звенело, перед очами стоял туман. Кивнув Алкуину, Сигурд подошел туда, где в пяти шагах от тела лежала голова Бьорна. Глаза убитого, прежде голубые, стали серыми и неподвижно таращились. Ярл взял голову и приложил ее к окровавленному обрубку шеи, собрав труп воедино.
– Серебро мое! – объявил он, обращаясь к франкскому войску. – Это цена за кровь погибшего, которого звали Бьорном.
– Столько серебра за одного человека? – спросил Боргон, подняв сморщенные и перепачканные чернилами ладони.
– Он стоил большего, – ответил Сигурд, на мгновение встретившись взглядом с Бьярни, чье лицо искажало страдание. – Забирай своих людей, Алкуин, и уходи, – угрожающе произнес ярл, – пока не поздно. Человек, засунувший руку в пасть волка, не должен удивляться, если останется одноруким.
Алкуин посмотрел на солдат, убиравших тела тех двух франков, которых Бьорн убил, прежде чем пал сам. Это была хорошая добыча для Одиновых дев смерти. Старый советник словно бы задрожал, хотя и не от страха, и снова обратил влажные глаза к Сигурду.
– Мы уходим, язычник. Но не принимай нашу мудрость за слабость. Твое счастье, что перед тобою я, а не император: он еще до полудня увидел бы это поле утопающим в крови. Он сразил бы тебя собственной рукою. Однако я прожил много лет и устал смотреть, как люди убивают друг друга. Вероятно, и ты однажды от этого устанешь, хотя боюсь, что тебе не суждено встретить старость, Сигурд, сын Харальда. Садитесь на свои корабли, – советник указал на «Змея» и «Фьорд-Эльк», – и покиньте наш край. Серебро заберите с собой. – Лицо старика искривилось: – Это плата за мир. Уходите, пока можете.
Алкуин подал знак воину в шлеме с гребнем, тот что-то проревел солдатам, и войско, как река, перетекло в две колонны по восемь человек в ряду. Подчиняясь следующему приказу, они повернулись к нам спинами и зашагали прочь. От их топота задрожала земля.
Лицо Боргона выражало ужас: казалось, он не мог поверить, что императорское войско просто уходит, оставив серебро и (это было в глазах епископа еще хуже) стерпев оскорбление, нанесенное его священнику, а значит, и ему самому. Нам стало ясно: именно Алкуин, хоть сам он не солдат, держит в своих руках бразды правления армией в отсутствие императора. Боргонов охранник с ненавистью уставился на меня, я ответил ему тем же: мой кровавый глаз обещал великану муки, какие я едва ли мог причинить ему в самом деле.
– Ступай с нами, отец Эгфрит, – выкрикнул Боргон, отрывисто махнув рукой. – Ты уже сделал все что мог. Некоторых людей не спасти. Для таких небесные врата закрыты.
Англичанин Виглаф дал Эгфриту плащ, и тот закутался в него до самого подбородка.
– Благодарю тебя, господин мой епископ, но я останусь, – сказал монах и, слегка поклонившись, прибавил: – с вашего благословения. Я следую по предначертанному мне пути, и даже самый суровый ветер не заставит меня свернуть. Deus vult. – Монах громко шмыгнул носом.
– Этого хочет Бог? – удивленно переспросил Боргон, скривив тонкие губы. – Тогда пускай Он наградит тебя терпением Иова.
Епископ развернулся и последовал за Алкуином в сопровождении других церковников и телохранителя. Когда колонны голубых плащей удалились, распалась и стена наших щитов. Выходя из оцепенения, викинги исторгали из себя страх и горечь с потоками мочи или же прикладывались к бурдюкам и большими глотками пили мед.
– Как твоя голова, парень? – спросил Пенда.
– По крайней мере, она до сих пор на плечах, – ответил за меня Свейн Рыжий, бросив взгляд на Бьярни, склонившегося над телом брата. – Сегодня в чертог Одина войдет великий воин.
– Бьорн спас меня, – сказал я.
– Это была достойная смерть, – ответил Свейн и, закинув на плечо огромный топор, пошел помогать остальным складывать серебро обратно в бочки.
Я спросил монаха:
– Эгфрит, так как же Кинетрит? Если б ты сразу мне сказал, Бьорн был бы сейчас жив.
По правде говоря, я знал, что наш товарищ погиб из-за меня: ведь это я позволил рябому франкскому священнику раздуть огонь в моей душе. Но Эгфрит не опроверг моего упрека. Его глаза были полны жалости, что понравилось мне еще меньше.
– Я бы сказал после крещения, Ворон. Вот тебе мое слово: я все бы сказал, но Христос призывал Сигурда, и я не мог не внять гласу Господа. – Взгляд монаха сделался пасмурным: – Благодаря тебе душа твоего ярла осталась во тьме.
– Брось, монах, – отрезал я, дотронувшись до шишки над виском, которая была величиною с яйцо.
Эгфрит вздохнул и, прикрыв на мгновение глаза, ответил:
– Хорошо. Кинетрит заточена в экс-ля-шапельском монастыре. Аббатиса Берта приказала бичевать ее. – Лицо монаха скорчилось. – И, боюсь, это не худшее из того, что над нею творят. Настоятельница верит, что душа девушки осквернена.
– Осквернена мною, – проговорил я, опять почувствовав прилив злости.
– Осквернена жизнью среди язычников, вдали от Господа, – сказал Эгфрит, тронув мою руку. – Я просил за Кинетрит, Ворон. Мое сердце облилось кровью, когда я увидел, что с нею стало. Но аббатиса наделена властью, а я простой монах. Она даже меня обвинила в том, что я запятнал себя грехом идолопоклонства. – Эгфрит грустно покачал головой: – Мне жаль. Я знаю: ты по-своему любишь девушку.
– Не надо меня жалеть, монах, – огрызнулся я. – Прибереги свою жалость для этой грязной суки аббатисы и всех, кто посмел прикоснуться к Кинетрит.
Порыв ветра подхватил мой плащ. Эгфрит поежился и, мрачно встряхнув головой, ушел, а я остался стоять с холодной липкой кровью Бьорна на лице.
Глава 22
Той же ночью мы сожгли тело Бьорна на огромном костре. Острые языки пламени пронзали темноту нашего прибрежного лагеря. Мы не решались отойти от кораблей и серебра, чтобы отправиться в город, однако не хотели и убегать, как побитые псы, словно Алкуин нас напугал. Назавтра я пошел с Бьярни в буковый лес, и там мы отыскали большой камень, плоский с одной стороны, на котором викинг высек рунический узор. Работа заняла весь тот день и половину следующего, но то, что получилось, было прекрасно. По камню вилась змея, и надпись на ее теле гласила: «Бьярни, сын Анундра, начертал сие в память о Бьорне, что бороздил море на ладье Сигурда и разил врагов. Свидимся в чертоге Одина, брат мой». В прорезанные на валуне борозды мы втерли красную глину с берега реки. Остальные викинги остались очень довольны памятным камнем и почтили погибшего товарища по оружию, напившись до бесчувствия.
– Имя Бьорна будет жить вечно, – сказал Сигурд, хлопнув Бьярни по плечу. – Старый Анундр гордился бы, если б видел, как далеко от вашего дома лежит этот камень.
– Он был мне хорошим братом, – кивнул Бьярни и, запрокинув голову, опорожнил рог меда.
В том поминальном камне мне виделась сила сейда, ведь руны будут шептать о Бьорне до скончания века. Я до сих пор иной раз представляю себе, как валун лежит в буковом лесу, почти скрытый от глаз новой порослью, а красные руны все так же ярки, как много лет назад – в тот день, когда Бьярни начертал их своим резцом.
Теперь мы были богаты. Так богаты, как прежде и представить себе не могли. Когда мы погрузили серебро на корабли, те скрипнули, словно жалуясь, и чуть осели. Почтив память Бьорна, мы решили, что пора отправляться домой, на север, пока не пришла зима. Без сомнения, мы славно потрудились, чтобы имя нашей волчьей стаи долго звучало у очагов из уст старых мужей, которые некогда сами плавали в дальние края на кораблях-драконах, и из уст юношей, которые пока лишь мечтают испытать себя и отведать славы. Асгот был доволен, как черт. Той ночью, когда мы пировали, жаря на вертеле мясо, жрец, сидевший по другую сторону костра, крякнул, забрызгав бороду жирным соком, и наставил на меня палец:
– Ты, Ворон, – обоюдоострое лезвие. – Желтые глаза Асгота, точно гвозди, вонзились мне в душу. – Всеотец машет тобою, как мечом, и, когда он это делает, люди гибнут. Славные люди. Но благодаря тебе наш ярл не отдал себя распятому богу.
Под одобрительное бормотание викингов жрец, кивнув мне, поднял свой рог. Я поглядел на Сигурда.
– Годи прав, Ворон, – просто сказал тот. – Один не хотел, чтобы меня окунули в христианскую реку. А может, монах, – ярл улыбнулся Эгфриту, – твой пригвожденный бог просто не захотел взять волка в свою овчарню.
Эгфрит сидел поникший: он, очевидно, был горько разочарован тем, что подошел к заветной цели так близко, и все же не сумел поймать великого ярла в свою христианскую сеть.
– Я думал, это пустяк, – сказал Сигурд, – но я заблуждался.
– Бьорн погиб по моей вине, – мрачно проговорил я и сделал здоровый глоток из своего рога.
– Мой брат теперь пьет в Вальхалле, – вскричал Бьярни, на что викинги ответили дружным «хей!». – Не печалься о нем, Ворон. Всем бы нам такую смерть.
– Мы завладели богатством, какого север еще не видывал, – сказал Улаф. – Многие годы оно будет сиять, освещая собою долгие зимы и согревая старые кости. – Старик поднял рог, обводя взглядом всю волчью стаю. – А наш ярл вовремя опомнился и послал христианского бога подальше. – При этих словах на лице Улафа появилась та улыбка, которой я не видел у него после того, как его сын Эрик был убит во владениях Эльдреда. Стукнув своим рогом о рог Свейна, наш капитан произнес: – Сегодня славный день.
Для меня же тот день оказался вовсе не так хорош: я страдал оттого, что по моей вине добрый друг прежде срока отправился в мир иной, а франки истязали Кинетрит, думая, будто я дьявол, завладевший ее душой при помощи злых чар.
– Ни к чему топить себя, парень, – сказал чей-то голос. Проведя рукой по губам, я повернул туманную голову и увидел Пенду. Он лежал, облокотясь о свернутую шкуру, и смотрел на меня, по-видимому, уже довольно долго. – Утром ты должен быть в ясном уме. – Пенда плюнул на точильный камень и провел по нему ножом. – Нам нужно кое-что обмозговать. – Я поднял глаза, но голова моя шла кругом, и мне было слишком дурно от горя, чтобы я мог вникнуть в смысл сказанных слов. – Эй, малый, ты слышишь? – Пенда направил на меня острие ножа, а потом испытал его остроту на ногте своего большого пальца. – Больше никакого меда. Ты нужен мне трезвый.
– Зачем? – уныло спросил я.
– Затем, что завтра ночью мы пойдем вызволять Кинетрит.
Мои липкие от медовухи губы внезапно разомкнулись. Замысел оказался прост. На мой взгляд, даже чересчур прост. Следующим утром мне рассказал о нем Эгфрит, и это меня удивило: я думал, он еще сердит на меня за то, что я помешал крещению Сигурда, и не захочет нам помогать. Однако едва он услыхал, как мы с Пендой говорим об освобождении Кинетрит, его куньи глазки оживились.
– Она хорошая девушка, – сказал монах, почесывая щетину на подбородке и хмурясь. – Я к ней привязался. То, что она сделала с Эльдредом… это несчастье. – Он скорбно покачал головой. – Она должна молиться, чтобы Господь простил ей этот страшный грех. Но она и сама страдала. Я верю, что Христос плачет, видя, как франки обращаются с бедняжкой. Исцелить душу Кинетрит можно иначе, не столь жестоко. Ну а аббатиса Берта – просто старая карга. Боже, прости меня! – пробормотал Эгфрит, начертив у себя на груди крест. – Эта женщина пребывает в заблуждении. То, как она пытается исправлять грешников, мне не по душе. И Господу, я уверен, тоже. Потому я не могу бездействовать, когда бедное дитя страдает.
Итак, мы условились, что Эгфрит возьмет немного серебра, поедет в Экс-ля-Шапель и купит у монастырского келаря две большие сутаны с капюшонами, а как только стемнеет, вынесет их нам ко рву, отделяющему город от леса.
– Я заплачу келарю так, чтобы он не задавал лишних вопросов, – уверенно сказал Эгфрит и с сомнением поглядел на Пенду и меня. – Если не будете открывать рты и высовываться из-под капюшонов, мы сможем пройти в обитель и выкрасть юную Кинетрит.
– Мы не оплошаем, монах, – сказал я, посмотрев на Пенду. Тот лукаво улыбнулся. – Только помоги нам туда проникнуть, а остальное мы сделаем сами.
– Ох, не ворошили бы вы палкой осиное гнездо! – предостерегающе проговорил Улаф, вытирая закапанную медом бороду.
Солнце быстро вставало, и его лучи пробивались сквозь затуманенные восточные леса, так что казалось, будто замшелые стволы ясеней горят. Голуби терпеливо ворковали, и в их мягкую песнь врывались шумные трели малиновок, корольков да зябликов.
– Франки придут в ярость, когда узнают, – прибавил Улаф. – Худосочный епископ еще в тот раз натравил бы на нас солдат, не окажись рядом старого козла Алкуина, который удержал франкские мечи в ножнах.
– Дядя прав, Ворон, – сказал Сигурд. – Вам придется поторопиться. Мы подготовим корабли к отплытию и будем ждать вас, сидя на веслах. Если в городе вы попадетесь, помочь вам никто не сможет.
– Понимаю, Сигурд, – ответил я.
Пенда согласно кивнул.
– Позволь мне взять нескольких людей и тоже поехать, – сказал Свейн Рыжий, обеспокоенно наморщив широкий лоб. – Мы будем ждать Ворона среди деревьев, на случай если завяжется бой.
– У нас только шесть приличных лошадей, Рыжий, но с тобою в седле и те не смогут идти быстрее вола.
Свейн обиженно фыркнул.
– Я поеду, – вызвался Флоки Черный. Лицо его выражало суровую решимость. – И Халльдор с нами.
Халльдор приходился Флоки двоюродным братом. Этот викинг обожал свое оружие: его меч, копье и топор были самыми острыми во всей нашей волчьей стае, и он даже придумал им имена. На слова своего родича он ответил простым кивком. Тогда Флоки, поймав взгляд Сигурда, продолжил:
– Мы станем ждать, как предложил Свейн, в лесу, где нас никто не увидит. Но наши копья будут наготове, если франки захотят их отведать.
– Возможно, удастся похитить девушку так, что монахини не заметят, – с надеждой сказал Эгфрит.
Хотя Сигурд кивнул, в его глазах я разглядел сомнение.
– Спасибо тебе, Флоки, – сказал я, – и тебе, Халльдор. Зажгите факел, чтобы мы нашли вас, когда выкрадем Кинетрит. Только не выходите из-за деревьев. Если нас поймают, это будет наша забота. Не хочу, чтобы франки увидели в этом деле руку Сигурда.
Флоки нахмурился:
– Просто постарайтесь не привести за собой стадо синих плащей.
Оседлав лошадей, мы, пятеро, к сумеркам добрались до края леса, откуда был виден Экс-ля-Шапель, и стали ждать. Стоя под высокими ясенями, в кронах которых обосновалась стая грачей, мы глядели вслед отцу Эгфриту, чья лошадь затрусила к городу, отгоняя хвостом мух. Вернулся монах очень довольный собой: его кунья рожа светилась гордостью, но я легко простил ему это, ведь он сумел раздобыть две новенькие сутаны из коричневой шерсти.
– Неплохо, отче, – с усмешкой кивнул Пенда.
Нырнув в колючий балахон, он превратился в немного странного монаха со шрамом на лице и торчащими волосами. Флоки досадливо сплюнул, а Халльдор рассмеялся:
– Славные из вас вышли рабы Христовы… – Он подергал сутаны у нас на плечах, где они были нам явно узки. – Божьи невесты запрут дверь изнутри и заставят вас до самого Рагнарёка счищать паутину у них между ног.
– Я бы согласился, если б среди них нашлась хоть одна хорошенькая, – сказал Пенда.
Эгфрит одарил его сердитым взглядом и, вздернув бровь, пробормотал:
– Cucullus non facit monachum. Клобук не делает монахом.
Кольчуги мы сняли: сутаны и без них сидели на нас слишком тесно, к тому же железные звенья могли громко греметь. Мечи и длинные ножи мы все же взяли, понадеявшись, что под шерстяной тканью их рукояти не будут видны. Оставив лошадей с Флоки и Халльдором, Эгфрит, Пенда и я, как подобает смиренным монахам, направились в город пешком и, перебравшись через ров, устремили взгляды на крепостные стены, отражающие последние лучи солнца. Идя мимо окутанных дымом домишек, мы удалялись от леса, однако крики грачей все еще были слышны. Птицы гомонили скрипуче и надтреснуто, как пьяницы, чьи вопли доносятся из переполненной таверны.
– А все-таки картина величавая, – произнес Пенда, и по наклону его капюшона, скрывавшего глаза, я понял, куда он смотрит.
Городская стена довлела надо всем вокруг. Рядом с ней деревянные жилища, разбросанные снаружи, казались смешными и жалкими. Смешными и жалкими казались даже мы, люди, ведь мы всего лишь бренная плоть, и, когда память о нас развеется, точно дым на ветру, крепость будет стоять все так же неколебимо. «Как Бьорнов рунический камень», – подумал я.
– Это памятник человеческому разуму в мире дикости, Пенда, – заявил Эгфрит, благословив женщину, что доила козу возле тропы.
Женщина благодарно склонила голову.
– Разум, который ты, монах, восхваляешь, велит бить девушку, не сделавшую ничего дурного, – прорычал я, дотронувшись до своего оберега с головой Одина.
Эгфрит, видно, хотел сказать, что Кинетрит убила своего отца, но передумал и придержал язык.
Императорские солдаты, стоявшие у ворот, на этот раз ни о чем нас не спрашивали: они привыкли встречать монахов, соблюдающих обет молчания. Правда, один из стражников, чуть подавшись назад, оглядел Пенду и меня с ног до головы. «Успею ли я вынуть из ножен меч, прежде чем они проткнут меня копьем? – подумал я. – Едва ли». Так или иначе, Эгфрит достал свой маленький деревянный крест, приложил его ко лбу солдата и разразился потоком латинских слов, отчего подозрения привратника сменились замешательством. Он сухо кивнул и взмахом руки впустил нас в город, что-то вполголоса бормоча второму стражнику. Позабавленный выходкой Эгфрита, тот, по-видимому, радовался, что избежал внимания монаха.
– Братья-бенедиктинцы обыкновенно не так сложены, чтобы на них можно было пахать, – буркнул Эгфрит.
Я не стал с ним спорить. Благодаря гребле и упражнениям с оружием, я раздался в плечах, став не уже других викингов. Даже шире некоторых. Я подумал о своем родном отце: если и он странствовал дорогой китов, то его руки, верно, тоже были сильны, а плечи широки.
В монашьей рясе я казался себеужасно нелепым, однако горожане меня как будто не замечали. Торговцы, дети и шлюхи не приставали к нам, и мы беспрепятственно шагали по мосткам, проложенным в грязи. Не приближаясь к бурлящему сердцу города, мы двигались на запад вдоль стены. Глаза слезились от очажного дыма, а рот мой наполнился было слюной, когда я почуял приятный запах съестного, однако в следующее же мгновение ветер донес до меня такую вонь, от которой в горле встал ком. Я был рад своему капюшону: под ним я прятался от городской суматохи, и мысли мои могли дышать спокойно. А думал я о Кинетрит.
Когда мы добрались до монастыря Святой Годеберты, в городе уже стемнело. Над лугом за его пределами еще догорали сумерки, но внутрь крепости лучи заходящего солнца не проникали, и императорские солдаты принялись зажигать огни в чашах на железных шестах. Эти огни роняли пляшущие тени и привлекали сотни мотыльков, а крысы и тараканы, напротив, бежали под стены, спеша укрыться во тьме.
Монастырь был обнесен собственной белокаменной оградой. Местами она крошилась, и при крайней необходимости я мог легко через нее перелезть, однако этот путь меня не прельщал. На улице было полно солдат, и нам, одетым в сутаны вместо кольчуг, едва ли удалось бы дать им хороший отпор.
– Запомните, – предостерег нас Эгфрит, трижды стукнув в ворота, – голову вниз, рот на замок.
Немного подождав, он постучался снова, на этот раз сильнее, и вскоре за стеною послышались шаги, а затем открылась задвижка. В маленьком оконце появилось лицо монахини. Она поглядела на Эгфрита с подозрением, если не со злобой, и разразилась едким потоком франкских слов, из которых я ровным счетом ничего не понял. Эгфрит спокойно ответил по-латыни. Монашка выпучила глаза.
– Ты английский монах, – произнесла она зловеще, а потом вдруг хихикнула (я, признаться, не знал, что Христовы невесты смеются). – Ты тот, кто пытался крестить языческого ярла и чуть не утонул, – сказала монашка по-английски, да так хорошо, словно родилась в Уэссексе.
Эгфрит раздраженно ответил:
– Я даже не думал тонуть. Уверяю тебя, сестра, я плаваю, как рыба. Быть может, ты меня впустишь?
Глаза, выглядывавшие из-под темного покрывала, снова сузились.
– А что тебе нужно от сестер в столь поздний час? Мы молимся, отец Эгфрит. У нас вечернее богослужение.
– О том, который теперь час, я не забыл, сестра. Меня прислал сюда епископ Боргон. Он полагает, я могу быть полезен преподобной матери-настоятельнице.
– Полезен? – с подозрением спросила монашка. – Чем же?
– Не понимаю, к чему тебе это знать, сестра, но если ты, подобно свиньям, любишь во всем копаться, то я охотно угощу тебя желудем. Девушка по имени Кинетрит. Мне сказали, она… противится?
Монахиня нахмурилась.
– Она потеряна для Бога так же безвозвратно, как для пьяницы – монета, упавшая на пол таверны. Аббатиса Берта говорит, эта женщина так долго жила среди язычников, что добродетельный отец от нее отвернулся. Она ударила настоятельницу! – произнесла монашка, и в ее глазах предательски мелькнул веселый огонек. – Можешь ли ты себе такое представить, отче? Сестры заставили негодницу поплатиться за это.
Я уже готов был выломать дверь, но рука Пенды легла мне на плечо. Эгфрит грустно покачал головой.
– Говорят, что, вопреки вашим стараниям, девушка все еще преисполнена скверны?
– Мы молимся о ее душе, отче.
– Facta, non verba, – ответил Эгфрит, помахав пальцем из стороны в сторону. – Иногда нужны действия, а не слова, дорогое дитя. – Он указал на нас. – Со мною пришли братья Годрик и Гифа. Как видишь, они наделены достаточной силой, чтобы побороться с сатаной за душу бедной девушки. Епископ Боргон полагает, они лучше вас, сестер, смогут… убедить Кинетрит; ведь вы, как ни крути, остаетесь нежными и хрупкими созданиями. А теперь, прошу, впусти нас, чтобы мы приступили к делу.
Струйка пота сбежала по моей спине, когда монашка смерила нас пристальным взглядом из оконца. Через несколько мгновений засов отодвинулся, и двери распахнулись, скрипнув так, будто не хотели отворяться в столь поздний час. Мы вошли на зеленый двор. По траве, залитой светом тихо горящих плошек, прыгали тени. С краю тянулась крытая дубовая галерея, которую украшали весьма искусно вырезанные лица святых и кресты. Заслышав голоса монахинь, приглушенные каменной стеной, я отыскал взглядом маленькую церковь в восточном конце двора. Были здесь и другие постройки, из дерева и из камня. Впустившая нас монашка с видимым удовольствием называла их, когда мы проходили мимо: «Вот кухня, кладовая, трапезная, библиотека, общая зала для сестер, а здесь амбары, пекарни…» Кругом царило спокойствие, которое так на меня давило, что собственная грудь казалась мне переполненным бурдюком. Сам Белый Христос словно бы дул за ворот моей грубой монашьей сутаны.
– В дальнем конце, за мастерской, у нас огороды, поля и даже фруктовый сад, – с гордостью объявила монахиня.
– Ваша обитель – надежное убежище для праведных душ в мире греха, – торжественно улыбнулся Эгфрит.
– Подождите здесь, в доме для паломников, пока аббатиса Берта не окончит службу, – сказала монашка, обращаясь к нему, но таращась на меня.
Я молчал, сложив руки и глядя в пол. Христова невеста подошла к каменной постройке с тростниковой крышей, отворила дверь и ввела нас внутрь, словно вдруг испугавшись, что мы попадемся на глаза другим монахиням.
– Сейчас принесу вина и, может, хлеба, если вы с братьями голодны.
– Спасибо тебе, сестра, – ответил Эгфрит. – Да благословит тебя Бог.
Монашка ушла, метя пол подолом рясы, и мы остались одни. В тяжеловесной темноте паломнического дома горели восковые свечи, источавшие сладкий запах, который смешивался с запахом свежевыпеченных хлебов и легким ароматом фенхеля.
– Во мне закипают все соки, – сказал Пенда, почесывая шрам на лице, – оттого что я заперт здесь среди стольких женщин.
– Где Кинетрит, Эгфрит? – спросил я, и моя рука сама прикоснулась к рукояти меча через толстую шерсть рясы.
Монах громко шмыгнул носом.
– Полагаю, ее держат в одной из келий. Но мы должны спешить, пока служба не кончилась и сестры не легли в постели. – Глаза его были расширены, на лысине выступили капли пота. – Вы готовы?
Я посмотрел на Пенду. Он, кивнув, открыл дверь, и мы снова вышли на освещенный монастырский двор, чтобы отыскать Кинетрит.
Глава 23
Эгфрит повел нас по деревянной галерее. Здесь, в доме Христовых невест, наши шаги казались мне чужеродно тяжелыми и неуклюжими. Не встретив ни единой монахини, мы прошли мимо вонючего нужника, затем – мимо лазарета, откуда доносились тихие стоны одной женщины вперемежку с мягким воркованием другой. Ласточки стрелами мелькали по темному двору, под дубовыми сводами галереи хлопали крыльями летучие мыши, ловя мотыльков.
– Это здесь, – сказал Эгфрит.
Во рту у меня пересохло, а сердце забилось при мысли о том, что я увижу Кинетрит. Келейный корпус был рядом с каменной церковью, и теперь мы отчетливо слышали пение молящихся монашек. Значит, у нас еще оставалось время. Эгфрит отодвинул засов, мы вошли и стали подниматься по лестнице (я сжался, когда деревянные ступени заскрипели у меня под ногами). Вскоре перед нами возникла другая дверь. Легко толкнув ее, Эгфрит ступил в узкий проход. Мы с Пендой, пригнувшись, последовали за монахом. По обе стороны располагались крошечные комнаты, в каждой из которых стояла кровать со стулом и больше ничего не было, если не считать крестов, балахонов да головных покрывал. В конце прохода мы обнаружили еще одну лестницу, ведущую вниз, а перед ней, справа, – келью, которая оказалась закрытой.
– Бьюсь об заклад, она здесь, – сказал Эгфрит и, подергав ручку, прибавил: – Тут заперто. – Кинетрит, – мягко позвал он, приблизив лицо к толстой дубовой двери. – Кинетрит, девочка моя, ты тут?
Мы припали к доскам, но ничего не услышали.
– Может, ее держат не в этом строении? – предположил Пенда, и в тот же миг до нас донесся скрип: внизу отворилась другая дверь.
– Нужно идти, – прохрипел Эгфрит.
– Но ты думаешь, она здесь? – спросил я.
– Я просто не знаю, где еще ее могли запереть, – шепотом ответил монах, – однако времени у нас нет.
Оттолкнув его, я подался назад и пнул дверь так сильно, что одно из двух должно было сломаться: либо замок, либо моя нога. К счастью для меня, сломался замок. В ответ на треск древесины послышались возгласы, но я не обратил на них внимания, ведь, войдя в келью, мы увидели Кинетрит. Она была привязана к кровати, во рту торчал кляп, грубые веревки до крови впивались в кожу на руках и ногах.
– Пресвятая Матерь Божья! – простонал Эгфрит. – Бедное, бедное создание!
Я достал нож и разрезал путы. Кинетрит стала почти неузнаваема: ее волосы превратились в тусклый комок пакли, глаза – в черные дыры, кожа на заострившемся лице казалась хрупкой, точно старый пергамент. Она как будто не узнала меня.
– Я с тобой, моя соколица, – прошептал я ей на ухо, поднимая ее с кровати.
– Именем Пречистой Девы! Что здесь происходит?! – Обернувшись на громоподобный голос, мы увидали в дверном проеме женщину, которая могла быть только аббатисой Бертой и никем иным. Всемогущий Один! Таких здоровенных сук я еще не встречал. За ее спиной стояли монахини, глядевшие на нас округленными от ужаса глазами. – Отец Эгфрит? Что ты творишь? – прогрохотала Берта.
– Забираю эту бедную девушку, мать-настоятельница.
– Она в опасности, отче! Мы пытаемся освободить ее черную душу от нечистого.
Рослая, как любой из викингов, аббатиса закрыла собою проем, вцепившись в дверные косяки. Ее грубое морщинистое лицо было мертвенно-белым и тряслось от ярости.
– Ты жестокая старая карга! – объявил Эгфрит, наставив костлявый палец на женщину втрое крупнее его. – Мы уходим!
Некоторые из монашек побежали вниз по ступеням – вероятно, за подмогой. Поэтому мы не могли больше медлить.
– Давай подержу Кинетрит, парень, а ты делай, что нужно, – сказал Пенда и, пожав плечами, добавил: – Я-то все-таки христианин.
Передав англичанину свою ношу, я подошел к Берте и ударил ее в челюсть. Великанша рухнула на пол, как мешок камней.
– Ворон! – вскричал Эгфрит.
Монахини завизжали и, отталкивая друг друга, бросились прочь. Следом за ними мы выбежали по проходу на лестницу, а оттуда – на темный двор. Там я достал нож и сделал надрезы на подолах наших балахонов, чтобы сутаны не сковывали ног. Мы помчались по траве к главным воротам, вынырнули через них на улицу и заковыляли по мосткам, что опоясывали город. Погони как будто не было. Экс-ля-Шапель погрузился в тишину, но не обезлюдел. Пьяницы задирали поздних прохожих, шлюхи поджидали покупателей своего товара. Императорские солдаты кружили по улицам небольшими отрядами, и трескучее пламя светильников отражалось в их чешуйчатых доспехах. Собаки рылись в грязи, выискивая объедки, невидимые кошки кричали, мыши шуршали кровельной соломой, а мы неслись вперед.
Завидев башни западных ворот, мы остановились, и я взял Кинетрит из рук Пенды. Он пыхтел, как ломовая лошадь.
– Стражников слишком много, – сказал я, глядя на голубые плащи. В каждой из башен было по двое солдат, и еще восемь, переговариваясь и хохоча, стояли перед закрытыми воротами. – Они зададут слишком много вопросов.
– Она может идти? – спросил Пенда, с сомнением поглядев на Кинетрит.
Я заглянул ей в глаза: они были тяжелые, веки то и дело надолго опускались. До сих пор она не произнесла ни слова. Я покачал головой:
– Нет, Пенда, она совсем измучена.
– Тогда придется понадеяться на удачу, – сказал он, направившись к воротам.
– Стойте! – сказал Эгфрит. – Идемте сюда.
Монах указал на кожевенную лавку – деревянную постройку с покатой соломенной крышей, прилепленную к городской стене. Этот домишко оказался чуть повыше соседних, и расстояние, отделявшее его кровлю от верха крепостной ограды, было меньше копья. Мы поставили бочку с дождевой водой под стреху, Пенда влез на солому, и я передал ему Кинетрит, что не составило труда, ведь бедняжка весила не больше мешочка муки. Опустив ее на конек и прислонив к стене, англичанин подпрыгнул, однако ухватиться за край стены ему не удалось. После второй безуспешной попытки он выругался, как Тор: его правая нога провалилась, проломив крышу. Из дома послышался удивленный возглас. Не успел англичанин высвободить ступню, как дверь, лязгнув, отворилась, и из нее вышел крупный франк в одних полотняных штанах. Его волосы, усы и глаза – все выражало ярость. Когда он схватил Эгфрита за шею и начал душить, я соскочил с бочки, на которой стоял. Тогда хозяин лавки отшвырнул монаха в сторону и двинулся на меня. Эгфрит принялся кашлять и отплевываться.
– Помоги Пенде! – крикнул я ему.
Франк замахнулся кулаком, но я предплечьем отвел его удар и, шагнув вперед, врезал ему лбом по лицу. Он пошатнулся, из носа закапала кровь. А после пинка в пах его глаза чуть не лопнули от боли. Кожевник повалился на бок и, скрежеща зубами, свернулся в клубок на грязной земле, как собака. В ночи раздался еще один крик, после чего я услышал топот ног по мосткам.
– Ворон, они идут! – крикнул Пенда.
Я вскочил на крышу, и мы с Эгфритом передали Кинетрит в руки нашего друга, который уже сидел на крепостной стене. Его голова с волосами, торчащими, будто пики, вырисовывалась черным пятном на синем ночном небе.
– Тянись к Пенде, Кинетрит, – сказал я.
Она ничего не ответила, и я подумал, что она меня не слышит, но через несколько мгновений исхудалые руки поднялись, и Пенда втащил ее наверх. Солдаты кричали, однако я не мог понять, вызван ли их гнев тем, что мы влезли на крышу кожевенной мастерской, или же они узнали о нашем набеге на монастырь. Я не сомневался: за оскорбление, которое я нанес той корове, аббатисе Берте, меня убьют и потому вскочил на стену, как кошка в маслобойку.
– Сначала я, Пенда. – Сказав это, я повис на стене с наружной стороны.
Англичанин взял меня за руки и, распластавшись по верху ограды, опустил вниз, чтобы мне было не так высоко падать. До земли все равно оставалось около десяти футов, но я не расшибся: почва оказалась сырой и мягкой. Я хотел сказать Кинетрит: «Не бойся, я тебя поймаю», но она прыгнула, не дожидаясь моих слов. Я успел ее подхватить. Падение вышло жестким, потому что от Кинетрит остались одни косточки, и я поморщился при мысли о том, не сломала ли она чего-нибудь.
– Теперь ты, отче, – сказал Пенда, и в это самое мгновение возле его головы просвистела стрела.
Оба англичанина спустились со стены. Мы бросились петлять между близко стоящих домиков, а потом устремились к лесу через залитый лунным светом луг. Где-то там, среди темных деревьев, нас ждали Флоки Черный и Халльдор с лошадьми. Нужно было только до них добраться.
Вдруг за нашими спинами с шумом распахнулись городские ворота. Я услышал звук, от которого душа моя застыла, и кишки превратились в лед: это был стук копыт о влажную землю. Не отваживаясь обернуться, я стал молотить ногами еще быстрее, с ужасом чувствуя, как Кинетрит подпрыгивает у меня в руках. Франки кричали, и мне казалось, будто их целая сотня.
– Погоди, Пенда, возьми ее, – сказал я, останавливаясь и опускаясь вместе со своей ношей на росистую траву.
Оба англичанина тоже присели. Белки их глаз дико горели в темноте. Моя грудь вздымалась, дыхание рвалось из нее с болезненным хрипом. Пенда покачал головой.
– Я не оставлю тебя, парень.
– Тогда взять ее придется тебе, – сказал я Эгфриту. Тот, ни мгновения не колеблясь, кивнул. – Беги к лесу. Что бы ни случилось.
– Но я не вижу факелов, – проговорил Эгфрит, всматриваясь вдаль.
– Они не зажгли их, потому что за нами погоня, – ответил я. – Флоки сам вас найдет. А теперь иди. Предоставь солдат нам.
Уж не знаю, где монах взял силы, но он подхватил Кинетрит своими тонкими руками и побежал. Лунный свет отражался на его белых ногах и на бледном лице девушки. Мы с Пендой вынули из ножен мечи и откинули капюшоны. Я ухмыльнулся, поглядев на друга, затем громко призвал на помощь Одина Копьеметателя, ярла среди богов, и мы побежали навстречу всадникам с зажженными факелами.
Услыхав нас, солдаты резко дернули поводья и пустили взбудораженно заржавших лошадей галопом, сверкая шлемами и чешуйчатыми доспехами. Я хотел обернуться, чтобы увидеть, добрался ли Эгфрит до леса, но первый из всадников уже занес надо мною оружие. Я отскочил в сторону, франкский меч впустую рассек воздух. Между тем подоспел второй солдат с копьем наперевес. Острие угодило в рукав моей сутаны, и стражнику пришлось отпустить древко, чтобы не упасть со скачущего коня. Я подобрал копье, развернулся и одной рукой всадил его в левое плечо третьему франку. В следующий миг мой меч описал круг и едва не врезался в спину солдата, успевшего пронестись мимо.
Пенда тем временем стащил вниз двух всадников. Увидев, как он по плечо отрубил руку одному из них, я встретил еще двух, намеревавшихся промчаться с обеих сторон от меня и вонзить копья мне в грудь. Из домов, стоявших к западу от городской стены, на луг высыпали дюжины франков. Они бежали на нас, и их плащи развевались. Стрела воткнулась в шерстяную рясу между моих ног. Я выругался: на мне не было кольчуги, и франкская сталь чуть не пронзила мою плоть. Вражеский меч плашмя ударил меня по затылку. Я оступился, но своего меча из рук не выпустил. Я даже хотел поднять его, когда сбитый мчащимся конем оказался на полпути в мир иной. Я лежал на траве и считал звезды, не в силах шелохнуться. Я чувствовал, как роса падает мне на лицо, видел летучих мышей, кружащих надо мною. Потом подошли синие плащи и подняли меня на ноги, которые, я мог бы поклясться, были чьими-то чужими.
– Ты еще дышишь, парень? – послышался голос Пенды. Франки схватили его, но он как будто до сих пор внушал им страх: в блестящей от росы траве лежали три мертвых тела. – Похоже, эти ублюдки хотят заполучить нас живьем. Так что почему бы нам не убить еще кого-нибудь из них, если удастся? – сказал англичанин почти весело, не обращая внимания на державшие его руки солдат.
Другого такого свирепого воина я не видывал. Он разил врагов, будто давил мух, а я так и не смог убить никого из франков. Лишь один солдат держался за пронзенное плечо. Я вынужден был признать, что железная чешуя императорских воинов – дельная вещь.
Конные стражники принялись прочесывать луг. Огни их факелов, точно молнии, полосовали ночное небо. Они искали Кинетрит. «Сбереги ее, Флоки», – пробормотал я, чувствуя липкую кровь на своих волосах. Если мы все еще живы, значит, кто-то хочет выгодно продать нас на невольничьем рынке. Или же кто-то (уж не сама ли аббатиса Берта) намеревается очистить наши души от греха. Одно не мешало другому. Будь у меня выбор, я бы сам заковал себя в кандалы, лишь бы не попадаться в руки настоятельнице. Позднее мое мнение переменилось: я понял, что повстречаться с этой здоровенной сукой было бы меньшим злом.
Нас повели обратно в город, но не в монастырь и не во дворец, а в северную часть. Мы шли по грязным улицам, где топкая жижа давно поглотила деревянные мостки. Домишки были до того неряшливы и убоги, что скорее походили на шалаши, крытые гниющими шкурами и одеялами. Даже шлюхи не показывались. Я увидал голое тело младенца, увязнувшее в грязи, и потрепанного пса, глодающего труп другой собаки. Об этом уголке великого христианского города отец Эгфрит ничего нам не говорил. От таких картин у меня мурашки поползли по коже. Я ужасно затосковал по «Змею» и по соленому ветру, трепавшему мои волосы, когда я стоял на палубе. Теперь я был узником, мне оставалось ждать лишь смерти, да и та была бы благословением. Франкский меч, как видно, проломил мой череп, будто ореховую скорлупку, и теперь голова так невыносимо кружилась и болела, что я ничего не мог, кроме как шагать туда, куда меня толкали солдатские копья да подошвы башмаков.
Мы прошли мимо деревянной церкви, перед которой громоздился большой крест. Возле него на свежей соломе спали несколько мужчин, закутанных в выцветшие синие плащи. Вскоре лачуг на нашем пути стало меньше, и я понял почему: с юга тянулась вонючая канава два фута шириной. Поток дерьма, нырявший под северную стену, шел из лучшей части города. Вероятно, тут было даже кое-что из задницы самого императора. Казалось, хибары, стоящие вдоль этой зловонной реки, того и гляди, растворятся в грязи и ни единой живой душе не будет до этого дела.
Перешагнув канаву, мы наконец подошли к забору из заостренных бревен. Солдаты, приведшие нас, стукнули в ворота и ввели нас во двор, посреди которого стояло вытянутое строение с окнами, завешенными толстыми кожами. Его окружали другие дома, поменьше, зато и получше: солома на них все еще золотилась, служа хорошей защитой от холода и дождя. Что до большого здания, то оно, видимо, некогда было довольно внушительным: не менее восьмидесяти футов в длину, с тяжелым остовом из толстых бревен и огромной покатой крышей (земли под ней хватило бы на выпас для двадцати коз). Однако солома поредела и подгнила, мазаные стены крошились. Видно было, что этот дом стоял здесь задолго до того, как на холме выросли белокаменные сооружения императора.
– Может, они устроили для нас пир, а, Ворон? – проговорил Пенда, заработав удар древком копья по голове.
Наши стражники стали говорить с теми, кто охранял этот двор: предупредили их, что мы не монахи и нас следует остерегаться. По моему разумению, это и так было ясно не только по нашему телосложению и нашим ранам, но и по мертвецам в синих плащах: тела трех убитых висели на спинах лошадей, щипавших редкие ростки травы, что пробились сквозь грязь.
Нас толкнули к большому зданию. Когда один солдат отодвинул засов, а другой открыл дверь, меня, точно молотом, пришиб запах, которого я никогда не забуду, – тяжелый, омерзительный запах смерти. Утроба, куда нас вогнали, оказалась тюрьмой, набитой грязными, голодными, умирающими людьми. В большинстве своем они даже не пошевелились, чтобы на нас посмотреть. Лишь несколько пар глаз, белевших во мраке, следили за франками, когда те пробирались сквозь свалку тел, ища, куда бы нас впихнуть, и исторгая стоны у тех, кто лежал на пути. Порывшись в зловонной темноте, стражники извлекли откуда-то цепь и пристегнули нас к ней ручными кандалами. Вскоре я понял, что она гигантской железной змеей вьется по всей тюрьме, сковывая не меньше ста душ. Не желая задерживаться среди умирающих и уже умерших, стражники прикрыли лица плащами и заспешили на волю. Через считаные мгновения дверь за ними громко затворилась.
– Хорош праздник, Пенда, – сказал я, испытывая на прочность железные путы.
К несчастью, они оказались новейшими, что было во всей тюрьме, и, наверное, удержали бы самого Фенрира.
– Могло быть и хуже, парень, – ответил англичанин.
– Волосатые яйца Тора! Куда уж хуже?! – простонал я, стараясь не дышать, чтобы не чувствовать зловония.
– Тебя могли приковать к мерзкой старой корове аббатисе.
Несмотря на кандалы и на боль в голове, я рассмеялся.