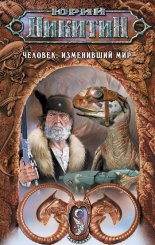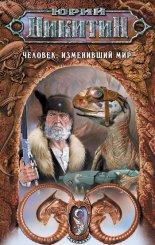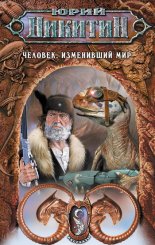Из праха восставшие Брэдбери Рэй

— Знаю.
— Но ты сторонилась, и я боялся, что ты сделаешь мне больно.
— Мы очень молоды, — сказала Энн.
— Нет, я хотела сказать, прости, пожалуйста, — сказала Сеси.
— Не понимаю, что же ты хочешь сказать? — Том выпустил ее руки.
Теплая, как парное молоко, ночь дрожала и переливалась свежим запахом земли, неумолчным шепотом деревьев.
— Я не знаю, — сказала Энн.
— Да нет же, — сказала Сеси, — я знаю. Ты очень высокий, и ты — самый красивый мужчина в мире. Это прекрасная ночь, ночь, которая запомнится мне навсегда, потому что мы в ней вместе.
Она протянула чужую, неохотную руку, нашла руку Тома, тоже неохотную, и крепко ее сжала.
— А сегодня, — недоуменно сморгнул Том, — тебя и вообще не понять. Сейчас ты одна, а через секунду — совсем другая. Я пригласил тебя сегодня на танцы просто ради старого знакомства. Я ничего такого не имел в виду. А потом, когда мы стояли у колодца, я почувствовал, что ты вдруг стала какой-то другой. В тебе появилось что-то новое, мягкое, что-то... — Он замолк, мучительно подыскивая слово. — Я не знаю, не знаю, как это сказать. Что-то такое с твоим голосом. И я понял, что снова тебя люблю.
— Нет, — сказала Сеси. — Ты любишь меня. Меня.
— Но я опять боюсь тебя любить, — сказал Том. — Боюсь, что ты сделаешь мне больно.
— Очень может быть, — сказала Энн.
Нет, нет, думала Сеси, я буду любить тебя всем своим сердцем! Скажи это, Энн, скажи, что я буду его любить!
Энн молчала.
Том чуть придвинулся и тронул ладонью ее щеку.
— Я нашел работу в сотне миль отсюда. Ты будешь по мне скучать?
— Да, — сказали Энн и Сеси.
— Можно, я поцелую тебя на прощание?
— Да, — сказала Сеси прежде, чем Энн успела что-нибудь решить.
Он коснулся губами чужих для Сеси губ. Он поцеловал эти губы, его била дрожь. Энн окаменела.
— Энн! — сказала Сеси. — Да не сиди ты так! Обними его!
Энн не двигалась.
Том поцеловал ее еще раз.
— Я люблю тебя, — прошептала Сеси. — Я здесь, это меня ты видишь в ее глазах, и я люблю тебя, и буду любить, даже если она не будет.
Том отстранился и взглянул ей в глаза, он выглядел как человек, пробежавший без остановки сто миль.
— Я не понимаю, что происходит. На секунду...
— Да?
— На секунду мне показалось... — Он прикрыл глаза ладонью. — Ладно. Отвезти тебя домой?
— Да, — кивнула Энн Лири. — Пожалуйста.
Том устало тронул с места. Они ехали под рокот и позвякивание машины сквозь совсем еще раннюю, одиннадцать с небольшим, осеннюю ночь, мимо сверкающих лугов и оголенных полей.
Я могла бы отдать все, что угодно, абсолютно все, лишь бы быть с ним, никогда с ним не разлучаться, думала Сеси, глядя на проплывающие мимо поля. И тут же в ее ушах еле слышно прозвучало вечное родительское предупреждение: «Будь осмотрительна. Выйдя замуж за обычного, прикованного к земле человека, ты сразу утратишь свои способности, ты же не хочешь этого, верно?»
Хочу, хочу, думала Сеси, даже и это отдала бы я безо всяких раздумий, если бы только он меня захотел. Что с того, что сейчас я могу блуждать в пустынных ночных просторах, жить в птицах и собаках, кошках и лисицах, если я хочу одного — быть с ним. Только с ним.
Дорога шуршала, послушно ложась под колеса.
Энн молчала.
— Том, — сказала она наконец.
— Что? — холодно спросил Том. Он смотрел на дорогу, на деревья, на небо, на звезды — только не на нее.
— Если когда-нибудь — хоть через год, хоть когда угодно — ты попадешь в Грин-Таун, это здесь, совсем рядом, в нескольких милях отсюда, ты можешь оказать мне небольшую услугу?
— Какую?
— Ты не будешь любезен повидаться там с одной моей подругой? — спросила Энн, запинаясь на каждом слове.
— Зачем?
— Это моя хорошая подруга. Я ей о тебе рассказывала. Я дам тебе ее адрес. — Когда машина подъехала к дому и остановилась, Энн достала из сумочки карандаш и листок бумаги, положила листок на колено и написала на нем в лунном свете несколько слов. — Ты сумеешь это разобрать?
Том ошалело кивнул и взял бумажку. Прочитал написанное.
— Ты зайдешь к ней когда-нибудь? — проговорил рот Энн Лири.
— Когда-нибудь.
— Обещаешь?
— Да при чем тут все это? — гневно воскликнул Том. — Зачем мне какие-то имена и адреса?
Он смял записку в тугой комок.
— Обещай, ну пожалуйста! — взмолилась Сеси.
— ...Обещай... — сказала Энн.
— Ну хорошо, хорошо, — крикнул он, — а теперь хватит!
Я устала, думала Сеси. Я не могу больше здесь задерживаться. Мне нужно вернуться домой. Я могу странствовать, летать лишь несколько часов в ночь. Но прежде чем уйти...
— ...Прежде чем уйти, — сказала Энн.
— Она поцеловала Тома в губы.
— Это я тебя поцеловала, — сказала Сеси.
Том отстранил ее и впился глазами в Энн Лири, словно пытаясь заглянуть в глубину бездонного колодца. Он ничего не сказал, но понемногу, очень понемногу, его лицо стало смягчаться, и складки на нем разгладились, и закаменевшие было губы расслабились, и он все смотрел и смотрел вглубь освещенного луною лица. Затем он легко поднял ее, поставил на землю и уехал, не сказав больше ни слова, даже не попрощавшись.
Сеси покинула Энн.
Из глаз освобожденной Энн брызнули слезы, она стремглав вбежала в дом и захлопнула за собою дверь.
Сеси, если и помедлила, то лишь чуть-чуть. Она взглянула на теплый ночной мир глазами кузнечика. Взглянула глазами одинокой лягушки на гладкую, как зеркало, лужу. Глазами полночной птицы взглянула с верхушки высокого, посеребренного луной вяза вниз и увидела, как потухли окна в двух фермерских домиках — соседнем и далеком, за поворотом дороги. Она думала о себе и о Семье, о своей необычной способности и о том, что никто из Семьи не может и никогда не сможет сочетаться ни с кем из людей, населяющих этот огромный мир.
Том? Ее слабеющее сознание понеслось на крыльях птицы, над кронами деревьев и над полями, буйно заросшими дикой горчицей. Ты сохранишь бумажку, Том? Ты придешь ко мне однажды, когда-нибудь, хоть когда ? И тогда — ты меня узнаешь ? Посмотришь мне в лицо и сразу вспомнишь, где ты видел меня прежде, и поймешь, что ты любишь меня и что я тоже тебя люблю, всеми силами сердца, всегда и навсегда.
Она взбивала крыльями прохладный ночной воздух, в миллионе миль от людей и городов, над полями и континентами, реками и холмами. Том? Еле слышно.
Том спал. Была уже глубокая ночь, его костюм висел рядом на стуле. А в правой руке, лежавшей на белой подушке, у самой его головы, был маленький листок бумаги. Медленно-медленно, по крошечной доле дюйма в секунду, пальцы Тома сомкнулись на листке и крепко его сжали. Он не увидел и не услышал, как в ярком свете полной луны появился трепещущий силуэт птицы. Несколько секунд дрозд тихо, чуть слышно, бился об оконное стекло, а затем упорхнул прочь и полетел на восток, над уснувшей землей, под усыпанным звездами небом.
Глава 6.
Откуда Тимоти?
— А откуда я, бабушка? — спросил Тимоти. — Я тоже пришел через окно Высокого Чердака?
— Ты не пришел, дитя. Тебя нашли. В корзине, оставленной у двери Дома, с томиком Шекспира под ногами и «Падением дома Эшеров» вместо подушки. С запиской, приколотой к распашонке: ИСТОРИК. Ты был послан, дитя, чтобы описать нас. Исчислить нас в перечнях, запечатлеть наши побеги от солнца, нашу любовь к луне. Можно сказать, что тебя призвал Дом, твои крошечные кулачки с самого начала стремились писать.
— Но что писать, бабушка, что?
Древние губы шептали и бормотали, бормотали и шептали...
— Начнем с того, что сам этот Дом...
Глава 7.
Дом, паук и ребенок
ом был тайной внутри загадки внутри головоломки, потому что он вмещал в себя много разновидностей тишины, все — совершенно разные. В нем стояли кровати самых разных размеров, некоторые — с крышками. Кое-где потолки были так высоки, что позволяли летать, и на них имелись зацепки, чтобы тени могли висеть вниз головой, на манер летучих мышей. В гостиной каждый из тринадцати стульев имел счастливый номер тринадцать, чтобы никто не считал себя обделенным. С потолка свисала люстра с подвесками из страдальческих слез несчастных скитальцев, сгинувших в море пятьсот лет тому назад, в погребе на пятистах стеллажах хранились — по годам урожая — бесчисленные бутылки странных, с непонятными названиями вин, а заодно имелись пустые помещения для возможных гостей, не любящих спать ни на кроватях, ни на потолке. Головоломной путаницей паутинных путей пользовался один-единственный паук, то стремительно падавший сверху вниз, то взмывавший снизу вверх, так что весь Дом казался неким диковинным инструментом, на котором играл этот непостижимо проворный Арах[2], беззвучно метавшийся между ветрами обуянным чердаком и погребом с невиданными винами, чтобы здесь — проложить новую нить, там — починить старую.
Комнаты и клетушки, кладовки и чуланы — так сколько ж их было всего, общим счетом? Этого не знал никто. Не тысяча, это уж слишком, но уж никак и не сто. Сто пятьдесят девять — так, пожалуй, будет ближе всего к истине, и каждая из них долгое время простояла пустой, сзывая постояльцев со всего света, томясь нетерпением принять в свои объятия заоблачных странников. Бывают дома с привидениями, этот же Дом лишь мечтал о привидениях, которые его заселят. Сто лет разносили ветры весть о Доме, и во всех краях земли мертвецы, пролежавшие в могиле невесть уже сколько лет, радостно осознавали, что их ждут занятия куда более удивительные. Каждый из них неспешно сворачивал свою загробную лавочку и начинал готовиться к дальнему полету.
Осенние листья всего мира срывались с места, сбивались в шуршащие стаи и устремлялись вглубь североамериканского континента, как перелетные птицы, спешащие на зимовку. Достигнув цели, они одевали голое дерево пылающими листопадами Исландии и Гималаев, мыса Доброй Надежды и мыса Горн, пока то, воспрянув в полном октябрьском цветении, не взрывалось плодами, сильно смахивающими на тыквенные маски Дня всех святых.
В каковое время...
Темной, ненастной, воистину диккенсовской ночью некто проходивший по дороге оставил у главных, литых из чугуна ворот одну из тех корзинок, в которых принято носить на пикник провизию. В этой лежало нечто совсем иное — вопившее, стенавшее и хныкавшее.
Дверь открылась, и появился приветственный комитет. Комитет состоял из женщины, супруги, невероятно высокой и тощей, мужчины, супруга, еще более высокого и тощего, и древней, едва ли не старше короля Лира старухи, на чьей кухне не было никакой посуды, кроме котлов, а супчики, кипевшие в этих котлах, не стоило включать в чей бы то ни было рацион, и вот теперь эти трое склонились над корзинкой, откинули с нее кусок темной, тяжелой ткани и узрели истомившегося ожиданием младенца примерно двух недель от роду.
Их поразил его цвет, цвет неба за минуту до восхода, его дыхание, ритмичное и неслышное, как взмахи крыльев бабочки, отчаянный стук его сердца, крошечной птицы, бьющейся о прутья клетки, но тут, повинуясь какому-то порыву, Хозяйка Туманов и Топей (именно под этим именем знал ее весь мир) достала миниатюрнейшее из зеркал, которое она использовала не для того, чтобы изучать свое, не отражавшееся ни в каком зеркале лицо, а чтобы изучать лица чужаков, вызывавших у нее какое-нибудь подозрение.
— Смотрите! — воскликнула она, поднося зеркало к щеке младенца. — Видите?
— Проклятье и все такое прочее, — пробурчал бледный костлявый мужчина. — Его лицо отражается!
— Он не такой, как мы!
— Да, но все равно, — сказала бледная костлявая женщина.
Из корзинки на них смотрели маленькие голубые глаза, повторенные в зеркале.
— Не трогайте его, — сказал мужчина. — Пускай лежит.
И они совсем уже хотели уйти и оставить его на сомнительную милость бродячих собак и одичавших кошек, но в самый последний момент Темная Леди сказала: «Нет», а затем нагнулась, подняла корзинку с младенцем, отнесла ее по щебеночной дорожке в Дом и налево по коридору в комнату, которая мгновенно превратилась в детскую, потому что ее стенки и потолок были сплошь покрыты изображениями игрушек, какие рисуют в египетских гробницах для сынов фараона, которые сплавляются по тысячелетней реке тьмы, ведь нужен же им хоть какой-нибудь источник радости, чтобы заполнить зияющую пустоту этого сумеречного времени и озарить их лица хоть тенью улыбки. Для этой цели по стенам скакали собаки и кошки, а еще там были пашни, ждущие плуга, и поля колосящейся пшеницы, хлеба, какие едят смертные, и связки зеленых луковиц, чтобы дети безутешного фараона поменьше болели. И вот теперь в младенческой гробнице, в этом хладном царстве отчаяния, появился младенец, живой и очень шустрый.
— Сколько мне помнится, был когда-то некий святой, с детства подававший большие надежды, и звали его Тимоти[3], — сказала, тронув корзинку, осенне-зимняя хозяйка Дома.
— Да.
— А он, — сказала Темная Леди, — прелестнее всех святых. Это смирило мой страх и развеяло мои сомнения, и он, конечно же, не святой, но все равно — Тимоти. Верно, дитя?
Услышав свое имя, новый жилец Дома радостно запищал.
А под самой крышей Дома, на Высоком Чердаке, Сеси выплыла из глубин провидческого сна, повернулась на другой бок и приподняла голову, прислушиваясь к незнакомому радостному писку. И улыбнулась. На некоторое время в Доме повисла странная тишина, все подумали, как теперь сложится их жизнь, и если мужчина стоял неподвижно, а его супруга чуть согнулась, соображая, что же ей делать дальше, Сеси мгновенно осознала, чего недостает ее странствиям, что мало услышать здесь, увидеть и почувствовать там, нужно еще поделиться увиденным, услышанным и прочувствованным с кем-нибудь, кто обо всем этом расскажет. И этот рассказчик появился и во всеуслышанье объявил, что, как бы ни развернулись события, его маленькая рука, которая станет скоро сильной, проворной и ловкой, запишет их до мельчайших подробностей. Ободренная этой уверенностью, Сеси послала к ребенку невидимую паутинку своей мысли, чтобы опутать его и дать ему понять, что теперь они заодно. И подкидыш Тимоти почувствовал ее ласковое прикосновение и смолк, и забылся блаженным сном, а недвижный до того мужчина увидел это и, почти против своей воли, улыбнулся.
А паук, никем до этого не замеченный, взбежал на корзинку, осторожно ощупал все вокруг, а затем обвился вокруг пальца ребенка — кошмарный папский перстень, чтобы благословлять в будущем некую призрачную конгрегацию, — и застыл настолько неподвижно, что стал похож на черный, гладко отшлифованный алмаз.
А тем временем Тимоти, даже и не подозревавший, что получил такое драгоценное украшение, знакомился с маленькими, но увлекательными осколками безбрежных снов Сеси.
Глава 8.
Мышь, прошедшая полмира
А раз уж в Доме был такой паук, там должна была быть и — Необыкновенная мышь.
Уйдя из жизни в смерть, она провела пять тысячелетий в одной из гробниц Первой египетской династии и ускользнула на волю, когда не в меру любопытные французы сорвали фараоновы печати и первыми вдохнули кишащий бактериями воздух, который сперва убил их самих, а затем — много позднее, когда Наполеон уже ушел из Египта и щербатый от картечных выстрелов сфинкс восстановился в своих правах, — привел в смятение весь Париж.
Расставшись — помимо своей воли — с многотысячелетней тьмой, призрачная мышь добралась мало-помалу до морского порта и отплыла на одном корабле (хотя никак не вместе) с кошками в Марсель, затем в Лондон и в Массачусетс; прошло столетие, и она добралась до места — в то самое утро, когда у входа в Дом появилась корзинка с плачущим Тимоти. Мышь юркнула под порог и лицом к лицу столкнулась с восьминогим, агрессивного вида существом, чьи многочисленные колени угрожающе шевельнулись над страшной, ядовитой головой. Мышь замерла и не шевелилась несколько часов (что было с ее стороны весьма благоразумно). В конце концов арахниду надоело, и он удалился, чтобы позавтракать мухой. Мышь же нырнула в щель и тайными, внутристенными ходами пробралась в детскую. Младенец Тимоти, желавший приобрести побольше друзей, пусть даже крошечных и не совсем обычных, принял новоприбывшую с распростертыми объятиями и подружился с нею на всю жизнь.
А дальше этот Тимоти (не святой) рос и рос, пока не превратился во вполне уже большого человеческого ребенка, на чьем деньрожденном пироге зажгли целых десять свечей.
И вот теперь и Дом, и деревья, и вся семья, и Тысячу-Раз-Пра-Прабабушка, и Сеси в ее чердачных песках, и Тимоти с верным Арахом в левом ухе, мышью на правом плече и царственной Анубой на коленях — все они ждали величайшее из пришествий...
Глава 9.
Семейная встреча
— Они все ближе, — сказала Сеси.
— Где они сейчас? — спросил Тимоти и выглянул в чердачное окошко, его голос дрожал от нетерпения.
— Один из них над Европой, другие над Азией, кто-то над Полинезией, кто-то над Южной Америкой.
Сеси лежала на спине, смежив глаза; ее длинные темные ресницы мелко подрагивали, чуть приоткрытый рот отвечал Тимоти быстрым, почти без интонаций, шепотом.
Тимоти отвернулся от окна и подошел к Сеси по дощатому, устланному обрывками папируса полу.
— А кто там? Кто это — они?
— Дядюшка Эйнар и дядюшка Фрайн, и кузен Вильям, я вижу Фрулду и Хелгара, и тетю Моргиану, кузена Вивьяна и дядюшку Йогана! Спешат изо всех сил!
И они что, все летят? — Глаза Тимоти сверкали энтузиазмом; сейчас, стоя у кровати Сеси и заглядывая ей в лицо, он выглядел едва ли не младше своих десяти лет. Темный, одними лишь звездами освещенный Дом содрогался от порывов ветра.
— Они передвигаются и по воздуху и по земле, во многих обличьях, — сказала спящая Сеси. Она лежала абсолютно неподвижно и думала внутри себя, чтобы рассказать то, что видит. — Я вижу волкоподобное существо, переходящее ночную реку вброд, чуть повыше большого водопада, его шкура искрится в звездном свете. Я вижу кленовые листья, их гонит в нашу сторону ветер. Вижу, как машет крыльями маленькая летучая мышь. Я вижу много зверей и зверьков, бегущих по лесу или прыгающих по верхушкам деревьев, и все они спешат сюда.
— Поспеют ли они ко времени? — Тимоти нагнулся над спящей сестрой; паук, висевший у него на лацкане, качался, как черный маятник, и возбужденно перебирал лапками. — К назначенному времени Встречи?
— Да, Тимоти, конечно поспеют. — Лицо Сеси окаменело, опрокинулось куда-то внутрь. — Уйди. Дай мне постранствовать по моим любимым местам.
— Спасибо.
Спустившись с чердака, Тимоти побежал в свою комнату приводить в порядок незастланную постель. Он проснулся на закате, как только в небе зажглись первые звезды, и сразу побежал расспрашивать Сеси.
Потом он наскоро умылся, стараясь не забрызгать паука, свисавшего с его тонкой шеи на серебристой петле.
— Ты подумай, Арах, уже завтра, будущей ночью! В канун Дня всех святых!
В зеркале, единственном зеркале на весь Дом (материнская уступка его «недомоганию»), отражалось пылающее нетерпением лицо: о, если б он был нормальный, как все! Тимоти оскалил и критически осмотрел никудышные зубы, дарованные ему природой. Зернышки кукурузы, гладкие, мягкие и бледные — тьфу, да и только! А клыки? Тупые. Как фасолины!
В небе погасли последние отсветы ушедшего дня, и Тимоти устало зажег свечи; последнюю неделю их маленькая семья жила по распорядку своих давних дальних стран — днем все спали, а на закате вставали и начинали суетиться, готовясь к Великому Событию.
— Ох, Арах, Арах, если б я мог действительно спать с утра до вечера, как все остальные!
Тимоти взял с тумбочки подсвечник со свечкой. Да... Вот если бы иметь зубы крепкие, как сталь, острые, как гвозди! Или научиться посылать свое сознание куда угодно, как Сеси, спящая на чердаке в древних аравийских песках. Да куда там, он ведь даже боится темноты! И спит — представить себе такое — на кровати/А не в этих, что в подвале, красивых деревянных ящиках! Мало удивительного, что прочие члены Семьи сторонятся его, словно какого-нибудь епископского сынка. Вот если бы на его плечах проросли крылья... Он задрал рубашку и осмотрел свою спину в зеркале. Никаких признаков. Никакой надежды полетать.
Внизу — змеиное шуршание черного крепа, которым занавешивают все стены, все потолки, все двери. Горят тонкие черные свечи, их запах проникает в лестничный колодец вместе с голосом матери и, чуть потише, голосом отца, отвечающим ей из подвала.
— Ох, Арах, — вздохнул Тимоти, — а позволят ли мне по-взаправдашнему участвовать в празднике? — Паук молча крутился на конце своей шелковинки. — Не просто там бегать за мухоморами и паутиной, развешивать креп да вырезать дырки в тыквах, а носиться и кричать, вопить и хохотать — участвовать в празднике. Позволят? Да?!
Вместо ответа Арах мгновенно сплел на зеркале паутину, в центре которой красовалось одно-единственное слово: Nil![4]
На первом этаже одна и единственная кошка носилась как угорелая, одна и единственная мышь пронизывала гулкие стены нервными, скребущими звуками, словно выкрикивая: «Общая встреча! Общая встреча!»
Тимоти поднялся к Сеси, все так же погруженной в глубокий сон.
— А где ты сейчас, Сеси? — прошептал он. — В воздухе? На земле?
— Уже скоро, — пробормотала Сеси.
— Скоро! — расцвел Тимоти. — День всех святых! Скоро!
Он отодвинулся, поразглядывал тени загадочных птиц и зверей, пролетавших по ее лицу, а затем спустился на первый этаж.
Из распахнутого чердачного люка струился запах мокрой земли.
— Отец?
— Давай сюда! — крикнул отец. — На полусогнутых!
Тимоти чуть помедлил, глядя на тысячи теней, качавшихся на потолке обещанием скорых прибытий, и прыгнул в подвал.
— Ну-ка, надрай до блеска постель дядюшки Эйнара!
— Дядюшка Эйнар такой большой? — поразился Тимоти. — Семь футов?
— Восемь.
— Восемь?! — Тимоти схватил бархотку и начал усердно полировать ящик. — И двести шестьдесят фунтов?
— Ты бы сказал еще «двадцать шесть», — фыркнул отец. — Триста! А внутри этого ящика хватит...
— Места для крыльев?
— Места, — рассмеялся отец. — Для крыльев.
В девять часов Тимоти вышел из Дома под капризное октябрьское небо и побежал в маленькую, насквозь продуваемую то теплым, то холодным ветром рощицу собирать мухоморы.
Окна соседних ферм горели тусклым желтым огнем.
— Знали бы вы, что творится сейчас в нашем Доме, — сказал им Тимоти, а затем поднялся на крутой холм, откуда был виден отходящий ко сну городок, светлые пятнышки окон и церковные часы, казавшиеся с расстояния в несколько миль крошечной серебряной монеткой. «И вы тоже не знаете», — подумал он.
Через два часа он решил, что мухоморов, пожалуй, хватит, и вернулся домой.
Затем начался торжественный ритуал. Отец оглашал гулкий подвал темными, как тысячелетний мрак, словами; бледные, как слоновая кость, руки матери делали таинственные пассы, вся Семья молилась — кроме Сеси, которая так и лежала у себя на чердаке. Но Сеси тоже была здесь. Он видел, как она смотрит то из глаз Биона, то из глаз Сэмюэля, то из материнских, а потом чувствовал, как чужая сила поворачивает его собственные глаза и снова исчезает.
Тимоти взывал ко тьме:
— Пожалуйста, ну пожалуйста, помоги мне стать таким, как они — те, которые скоро будут здесь, которые никогда не стареют и не могут умереть, они сами так говорят, не могут умереть, что бы ни случилось, а может, они уже давно как умерли, но Сеси позвала, и мать с отцом позвали, и бабушка, которая еле слышно шепчет, и они теперь мчатся сюда, а я — ничто. Пустое место, не такой, как они, умеющие проходить сквозь стены и жить на деревьях и даже жить под землей, пока большое, случающееся каждый семнадцатый год наводнение не выкинет их наружу. Дай и мне стать таким же. Если они живут вечно, почему же мне-то нельзя?
— Вечно, — эхом откликнулась мать, услышавшая его слова. — О, Тимоти, я уверена, что должен быть какой-нибудь способ. Посмотрим, подумаем. А теперь...
Ставни задрожали. Бабушкин кокон из папируса зашуршал и зашелестел. Жуки-точильщики в стенах защелкали, как бешеные.
— Пусть начнется, — воскликнула мать. — Начнись!
И поднялся ветер.
Он бросился на леса, поля, горы и пустыни, как огромный невиданный зверь, огласив осень, время утрат, плача и скорби, своим воем, сумрачной песнью в честь темных субстанций, взвихренных им во всех уголках мира. И ветер не рассеивал свою добычу бесцельно, а нес ее всю в одно место, в Северный Иллинойс. Его стонущие порывы бесстыдно грабили кладбища и погосты, жадно набрасывались на пыль, веками копившуюся в тусклых глазницах мраморных ангелов, высасывали из могил призрачную бесплотную плоть, хватали без разбора увядшие не имеющие названий погребальные цветы, безжалостно отрясли с друидских деревьев весь урожай осенних листьев и сухими, шелестящими потоками бросили их в небо, легионы огненных птиц и яростных глаз, безумно пылавших в океане прожорливых облаков, остервенело рвавших себя на полосы, на вымпелы во славу захватчиков пространства, которые все прибывали в числе, заливая небо такими безутешными стонами по давно ушедшим годам, что миллионы фермеров, мирно спавших на своих фермах, просыпались с лицами, мокрыми от слез, и не могли понять, неужели крыша опять протекла, и откуда вдруг дождь, с вечера было совсем не похоже, и это бесплотное воинство, оседлавшее яростный, замешанный на осенних листьях и могильном прахе поток, перемахнуло через взбаламученное море и вихрем закружило над холмом и Домом со всеми, кто в нем был, и, главное, над Сеси — дремотным маяком, который благополучно довел воздушных гостей до цели и теперь давал им сигнал на посадку.
На самом верхнем из чердаков Тимоти заметил, как глаза Сеси — нет, не открылись, а только мигнули, и сразу за этим...
Окна Дома с треском распахнулись — дюжина здесь, две дюжины там, — впуская воздух давно ушедших тысячелетий. Через кратчайшее из мгновений весь Дом, со всеми его окнами и дверями, распахнутыми настежь, превратился в одну огромную ненасытную утробу, которая взахлеб заглатывала полночную тьму; все его комнаты и комнатушки, подвальные кладовки и чердачные чуланы бились в пароксизмах долгожданного блаженства.
Тимоти по пояс высунулся из чердачного окошка и застыл горгульей из плоти и крови; на его потрясенных глазах несметная армада могильного праха и паутины, крыльев, октябрьских листьев и кладбищенских цветов хлестала стены и крыши Дома, а по всей округе, в лесах, полях и на холмах, скользили, прядая ушами и взлаивая на луну, легионы острозубых, бархатнолапых теней.
Эти отродья земли и воздуха лезли в Дом через каждое окно, каждую дверь и каждый дымоход. Твари, летавшие нормально или бешеными зигзагами, ходившие на двух ногах — или трусившие на четвереньках — или ковылявшие вприпрыжку, как увечные призраки, твари, словно изгнанные сбрендившим, слепорожденным Ноем из некоего погребального ковчега, тысячезубые и безъязыкие, размахивавшие вилами и осквернявшие воздух.
Все домашние держались чуть в стороне, наблюдая, как нескончаемый поток многоголосых теней, дождей и туманов заполняет подвал, как гости рассасываются по стеллажам, помеченным годами, когда они умерли, чтобы позднее — сегодня — восстать из мертвых, как в гостиной рассаживаются по стульям дядюшки и тетушки с весьма необычной генетикой, как к старухе, хозяйничающей на кухне, присоединяются добровольные помощники, рядом с которыми она сама — верх красоты и изящества, как входят или прокрадываются, или влетают и начинают водить менуэты под потолком, вокруг канделябров, все новые и новые аберрантные кузены, полузабытые племянники и странноватенькие племянницы; ощущая, как комнаты внизу заполняются неведомыми гостями и картины на стенах опасно раскачиваются от кошмарного наплыва наименее приспособленных, сумевших уцелеть наперекор всем домыслам позднейшей науки. Мышь бешено носилась в медленно оседавших клубах египетского дыма, паук, висевший до того у Тимоти на шее, забился к нему в ухо с паническим, никому не слышным криком: «Спасайся, кто может!», сам же Тимоти спрыгнул с чердачного окна и замер, восторженно глядя на Сеси, сомнамбулическую распорядительницу всего этого бедлама, увидел на мгновение, как вспыхнули гордостью бездонно-синие глаза многажды-Прабабушки, опрометью бросился вниз и чуть не оглох от суматошного шума-гвалта; он словно попал в исполинскую птичью клетку, куда со всех сторон слетались неведомые полночные твари, слетались и продолжали хлопать крыльями, ежесекундно готовые к отлету, а затем раздался оглушительный раскат грома (хотя молния и не сверкнула) и последнее грозовое облако накрыло Дом, как крышка — кастрюлю, и все окна с грохотом начали захлопываться, и двери тоже, и шум немного стих, небо прояснилось, дороги и тропинки опустели.
А ошеломленный Тимоти издал вопль восторга.
На него уставились тысячи теней. Две тысячи глаз с вертикальными зрачками, горящих желтым, зеленым, желто-зеленым, как сера, огнем.
А затем Тимоти словно попал на взбесившуюся, в разгон пошедшую карусель, его закрутило и бросило о стену, и он повис там, беспомощный и несчастный, наблюдая дикий хоровод всеобразных лиц и форм из клубящегося дыма и тумана, пляску раздвоенных копыт, высекающих искры из пустоты, и висел так, пока кто-то не опустил его на пол.
— А это, значит, Тимоти? Ну конечно, вне всяких сомнений! Руки слишком уж теплые. Пот на лбу. Давненько, давненько я не потел. А там что такое? — Скрюченный, волосатый кулак ударил Тимоти в грудь. — Да никак это твое сердчишко? Колотится и колотится, да?
Над ним нависло хмурое, бородатое лицо.
— Да, — выдавил из себя Тимоти.
— Бедняга! Но ничего, мы его быстро остановим!
Под взрыв всеобщего хохота ледяная рука и безжалостное, круглое как блин лицо исчезли в водовороте туманных форм.
— Это был твой дядюшка Джейсон, — сказал голос матери, оказавшейся вдруг совсем рядом.
— Я его не люблю, — прошептал Тимоти.
— А ты и не обязан его любить, сынок, совсем не обязан его любить. Не любишь, значит, так уж вышло. Дядюшка Джейсон управляет похоронами.
— А чего ими управлять? — удивился Тимоти. — Все и так знают, куда нести.
— Отлично сказано! Ему как раз нужен подмастерье!
— Только не я, — сказал Тимоти.
— Не ты, — согласилась мать. — А теперь зажги побольше свечей. И подай вино. — Она сунула ему в руки поднос с шестью всклянь наполненными кубками.
— Это не вино, мама.
— Лучше, чем вино. Ты хочешь быть таким, как мы, или не хочешь?
— Да. Нет. Да. Нет.
Судорожно всхлипывая, он уронил поднос на пол, бросился к двери и вырвался наружу, в ночь.
Под лавину крыльев, обрушившуюся на его лицо, плечи, руки. Крылья беспорядочно хлопали его по ушам, по глазам, по поднятым в тщетной попытке защититься кулакам, и постепенно из этой суматошной неразберихи выплыло весело ухмыляющееся лицо, и тогда Тимоти закричал:
— Эйнар! Дядюшка!
Своею собственной персоной! — крикнуло в ответ лицо, а затем сильные руки подбросили Тимоти высоко вверх, он испуганно завизжал, повис на мгновение в воздухе, а крылатый человек подпрыгнул, поймал его и с хохотом увлек еще выше, к ночному небу.
— Как ты меня узнал? — крикнул человек.
— А только один дядя с крыльями, — пробормотал, задыхаясь Тимоти; они поднялись над крышами, спикировали вниз, скользнули в нескольких дюймах от обшитого дранкой ската, мимо чугунных горгулий и снова, крутым виражом, взметнулись к небу, откуда были видны просторы лугов и полей, простирающихся на все четыре стороны света.
— Лети, Тимоти, лети, — крикнул огромный перепончатокрылый дядюшка.
— Я лечу, лечу!
— Нет, ты лети по-взаправдашнему, сам!
С громким хохотом дядюшка отшвырнул Тимоти в сторону, и тот начал падать вниз, пока дядюшкины руки его не поймали.
— Ну что ж, со временем все получится, — сказал дядюшка Эйнар. — Думай. Хоти. Но вместе с хотением — старайся!
Тимоти крепко зажмурил глаза, плавая под огромными, мерно взмахивающими крыльями, которые заполняли все небо и заслоняли серебряную россыпь звезд. Он ощущал на лопатках маленькие бутоны огня и хотел, изо всех сил хотел, чтобы они стали больше, лопнули и раскрылись! Проклятье адово. Адово проклятье!
— Всему свое время, — сказал дядюшка Эйнар, угадав его мысли. — Когда-нибудь все получится, или ты не мой племянник! Ну — поехали.
Они круто упали к частоколу дымовых труб, заглянули на чердак, где спала Сеси, поймали октябрьский ветер, который вознес их к облакам, а затем плавно спланировали на веранду; две дюжины теней с заполненными туманом глазницами встретили их приветственными возгласами и шквалом рукоплесканий.
— Отлично полетали, да, Тимоти? — крикнул дядюшка; он никогда не шептал, не бормотал, а непременно взрывался оглушительными, театральными возгласами. — Хватит пока что!
— Хватит, хватит! — По щекам Тимоти катились слезы восторга. — Спасибо, дядюшка!
— Его первый урок, — объяснил дядюшка Эйнар. — Скоро воздух, небо, облака — все это будет принадлежать ему не меньше, чем мне!
Под новый шквал рукоплесканий Эйнар внес племянника в гостиную, к весело отплясывающим призракам, почти скелетам, разгульно пировавшим за столами. Колышащиеся клубы дыма, вылетавшие из каминов и очагов, превращались в туманные подобья памятных и подзабытых дядюшек и кузенов, затем обретали плоть и, в соответствии с личными вкусами, либо бросались в гущу танцующих, либо протискивались к одному из накрытых столов, и так продолжалось до самого утра.
Когда с одной из соседних ферм донесся первый крик петуха, все в Доме застыли, как громом пораженные. Шумное веселье стихло. Колышущиеся, быстро теряющие очертания струйки дыма и тумана сползали по ступенькам в подвал, торопились укрыться на винных стеллажах, в чуланах и ящиках с латунными табличками на до блеска отполированных крышках. Последним в подвал спустился дядюшка Эйнар, он оглушительно хохотал над чьей-то полузабытой смертью, возможно — над своею собственной, а затем улегся в самый большой из ящиков, втиснул по бокам крылья, аккуратно уложил концы их себе на грудь и кивнул. Крышка послушно захлопнулась, оборвав не стихавший все это время хохот; в темном опустевшем подвале воцарилась воистину гробовая тишина.
Тимоти чувствовал себя несчастным, никому не нужным. Все уснули, спрятались от занимавшейся на востоке зари, а он один во всем Доме любил свет и солнце. Страстно мечтая стать таким же, как все, полюбить ночь и тьму, он поднялся по лестнице на самый высокий чердак и сказал:
— Сеси, я очень устал, но не могу спать. Не могу, и все тут.
— Спи, — сказала Сеси, и секунду спустя, когда он лег рядом с ней, в ее египетские пески, повторила:
— Спи. Слушай меня. Спи, спи...
И Тимоти послушно уснул.
Закат.