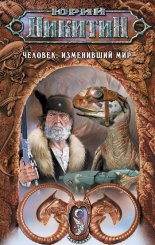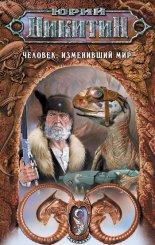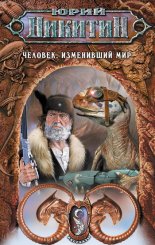Из праха восставшие Брэдбери Рэй

— Так у нас же, — продолжил он, набравшись смелости, — у нас же есть кому заняться этим расселением. Она может поискать в ближних и дальних окрестностях пустые тела и пустые души, и когда найдутся большие, не до конца заполненные емкости и крошечные, полупустые флакончики, она сможет приспособить их под тех из нас, кто захочет переехать.
— И кто бы это мог быть такой? — спросил кто-то, заранее зная ответ.
— Та, кто поможет нам перераспределить души, находится сейчас на чердаке. Она спит и видит сны, она и здесь, и не здесь, и я уверен, что если мы попросим ее о помощи, она согласится. А тем временем давайте будем думать о ней и познакомимся поближе с тем, как она живет, и с тем, как она странствует.
— Так кто же это все-таки, — спросил все тот же голос.
— Кто? — удивился Тимоти. — Да конечно же Сеси.
— Да, — подтвердил голос, чистый и звонкий, как прыгающий по камешкам ручей.
Я буду, — сказала Сеси, — как сеятель, бросающий пушинки семян на ветер, чтобы позже, в другом месте они распустились цветами. Сделаем так, что я буду брать бесприютные души по одной и буду носить каждую душу над землей до тех пор, пока не найду удобное место, чтобы ее пристроить. В нескольких милях за городом уже который год пустует ферма, заброшенная после пыльной бури. Давайте найдем добровольцев из числа собравшихся к нам родственников. Кто захочет перебраться в это укромное место и взять эту пустующую ферму, чтобы жить и растить детей спокойно, вне опасного соседства с городами? Кто?
— А почему бы и не я? — спросил с дальнего конца голос, сопровождаемый хлопаньем огромных крыльев. — Почему бы и не я? — сказал дядюшка Эйнар. — Я умею летать и смогу добраться туда сам, если только ты мне поможешь, будешь поддерживать мою душу и разум.
— А что, дядюшка Эйнар, ведь и точно, — сказала Сеси. — Ты, крылатый, подходишь для этого дела лучше всех. Ты готов?
— Да, — сказал дядюшка Эйнар.
— Так чего же мы тогда ждем?
Глава 15.
Дядюшка Эйнар
— Это займет не больше минуты, — сказала жена дядюшки Эйнара.
— Я отказываюсь, — сказал дядюшка Эйнар. — И это заняло не больше секунды.
— Я все утро стирала, — сказала жена, — а теперь ты не хочешь мне помочь. Видишь, уже дождь собирается.
— Ну и пусть дождь, — крикнул дядюшка Эйнар. — Только и не хватало, чтобы из-за твоих постирушек меня ударило молнией.
— Но у тебя же это так быстро, — сказала она. — Взлетел и сразу назад.
— И все равно я отказываюсь, — сказал он, нервно подрагивая огромными, как навес бродячего цирка, крыльями.
Она молча подала мужу конец тонкой веревки, обильно увешанной свежевыстиранным бельем.
— Вот до чего я дошел, — пробормотал он, неприязненно вертя веревку в пальцах. — Сушилка для постирушек, ну кто бы мог раньше в такое поверить?
День за днем, неделю за неделей летала Сеси над полями и лесами в поисках подходящего обиталища, отбраковывая одно место за другим, пока не остановила свой выбор на заброшенной ферме с обезлюдевшим, но вполне сохранившимся домом. И тогда она направила туда Эйнара по длинному кружному пути, чтобы поискал заодно себе жену. Теперь у него была жена, было убежище от ни во что не верящего мира, и все же, и все же...
— Не распускай нюни, — сказала жена, — а то снова промочишь белье. Ты лучше закинь его наверх, и все в момент будет готово.
— «Закинь наверх», — оскорбленно передразнил Эйнар. — И пусть хлынет дождь, пусть ударит гроза, это никого не интересует!
— Да будь погода хорошая, ясная, я бы тебя и не просила. А так ведь будут простыни висеть по всему дому...
Этот довод оказался решающим. Уж что дядюшка Эйнар ненавидел, так это когда в доме, куда ни повернись, хлещет по лицу мокрое белье, так что приходится пролезать к себе в комнату чуть не на четвереньках.
— Но только до края выгона, — сказал он, вставая.
— Только! — радостно согласилась жена.
Ф-р-р... и вот его крылья уже рассекают и отшвыривают назад предзакатную прохладу. Дядюшка Эйнар стремительно мчался над лугом, волоча за собой длинную, весело трепещущую цепь, быстро обсушивая влажное белье во встречном потоке воздуха.
— Принимай!
Уже через минуту он с лету разложил пунктир свежего, как только что скошенная пшеница, белья по длинной полосе брошенных на траву одеял.
— Спасибо!
— Р-р-р, — прорычал он, а затем спланировал в самый дальний угол двора, под старую яблоню с невыносимо кислыми яблоками, сложил крылья, сел на землю и погрузился в тяжкие раздумья.
Изумительные, нежно-шелковистые крылья дядюшки Эйнара, свисавшие с его плеч, подобно аквамариновым парусам, негромко жужжали и шелестели при каждом его движении.
Относился он к ним как к докучливой обузе? Отнюдь. В молодости Эйнар летал чуть ли не каждую ночь. Ночь — лучшее время для крылатого человека. День полон скрытых угроз, так было всегда и всегда будет, а вот ночью — ночью он вольно парил над дальними землями и еще более дальними морями без малейшей для себя опасности.
Но теперь он не мог летать ночью.
По пути сюда, на эту проклятую, злосчастную ферму, он выпил лишку густого темно-красного вина.
— Ничего со мной не случится, — вяло вговаривал он себе, творя свой путь между серебряной россыпью звезд и грезящими о не скором еще рассвете полями. А затем — оглушительный треск, в клочья изорвавший ночную тишину.
И ослепительная, яростно-голубая вспышка. Опора высоковольтной вышки, затаившаяся в ночи, как злобный, злокозненный зверь.
Дядюшка Эйнар попал как утка в ловчую сеть; холодный жар огней святого Эльма все глубже впивался ему в лицо. Мощно взмахнув крыльями, он сбил с себя огонь и упал. Он шлепнулся на влажную, залитую лунным светом траву со звуком, словно кто-то сбросил из поднебесья огромную телефонную книгу.
Когда Эйнар вышел из нелегкого забытья и заставил себя встать, у него зуб на зуб не попадал от росы, насквозь пропитавшей нежные крылья. Было совсем темно, но на востоке уже появилась узкая розовая полоска. Скоро, совсем скоро она расползется на полнеба, так что о продолжении столь неудачно прерванного полета нельзя было и думать. Оставалось одно — забиться поглубже в лес и переждать там до ночи.
Вот там-то и нашла Эйнара его будущая жена.
Теплым погожим деньком юная Брунилла Вексли вышла в лес, чтобы найти и подоить заплутавшую корову. С луженым ведерком в руке она скользила между деревьев и кустов, громко призывая гулену вернуться, пока ее вымя не лопнуло. Тот очевидный факт, что как только корове припрет, чтобы ее подоили, она живенько прибежит домой, ничуть Бруниллу не тревожил; правду говоря, недоенная корова была не более чем прекрасным поводом для по-лесу-гуляния, чертополохообдувания и одуванчикожевания, каковым интересным занятиям девушка и предавалась, пока не увидела под кустом нечто еще более интересное.
— О, — сказала Брунилла Вексли. — Человек. С палаткой.
Тут дядюшка Эйнар пробудился ото сна и раскинул свою «палатку» широким зеленым веером.
— О, — сказала коровоискательница Брунилла. — Человек с крыльями. Ну да, наконец-то. Сеси давно мне говорила, что пришлет вас! Вы ведь Эйнар, да?!
Несказанно довольная, что прямо вот так, в ближнем лесочке повстречала такую диковинку, как крылатый человек, она начала без умолку трещать; уже через час они с Эйнаром были старинными друзьями, а через два часа его крылья стали чем-то вполне естественным, само собой разумеющимся.
— Видок у тебя как после хорошей драки, — сказала Брунилла. — На правое крыло так и вообще страшно смотреть, так что придется мне им немного заняться. В таком-то состоянии ты никуда на нем не улетишь. Сеси говорила тебе, что я живу здесь одна? Я и мои дети, и больше никого. Я что-то вроде астролога, со странностями всякими, почти что ведьма. И страшная, как смертный грех.
На что Эйнар горячо возразил, что никакая она не страшная, а против странностей и ведовства он ровным счетом ничего не имеет, и тут же поинтересовался, а как вот она, она не боится его, с крыльями?
— Да чего тут бояться, мне бы самой такие хотелось. Можно? — Она осторожно и завистливо погладила огромные перепончатые полотнища. Эйнар чуть не взвыл от боли, но мужественно сдержался.
Так что не оставалось ничего иного, кроме как идти к ней домой, чтобы она помазала кровоподтек неким своим зельем, и по дороге она снова пришла в ужас от страшного, во всю нижнюю половину лица, ожога.
— Счастье еще, что глаза не выжгло, — сказала Брунилла. — И как это тебя угораздило?
— Я бросил вызов небесам! — сказал Эйнар, и тут оказалось, что они уже дошли до фермы, почти и не заметив, как прошагали целую милю — так увлекла их беседа и исподтишка-друг-друга-разглядывание.
Время шло, и вот настал день, когда дядюшка Эйнар поблагодарил Бруниллу за заботу и сказал, что полетит дальше. В конце концов, Сеси же планировала, что он познакомится с целым рядом возможных невест и только потом примет окончательное решение.
Уже почти стемнело, а до следующей намеченной фермы было много миль воздушного пути, так что приходилось поторапливаться.
— Еще раз спасибо, когда-нибудь свидимся.
С этими словами Эйнар распахнул крылья, взлетел... и прямиком врезался в ближайший клен.
— Ой! — вскрикнула Брунилла и со всех ног помчалась к распростертому на земле телу.
Это все и решило. Очнувшись через час, дядюшка Эйнар уже знал, что не сможет больше летать ночью. Бесследно исчезла его острейшая, как у летучей мыши, способность ориентироваться в темноте, эта крылатая телепатия, позволявшая ему издалека ощущать любые препятствия — деревья, скалы, провода и башни. Исчез, затерялся в пространстве и далекий голос Сеси. Синее электрическое пламя не только опалило его лицо, но и обузило его восприятие мира, возможно — навсегда.
— А как же тогда я полечу в Европу? — страдальчески простонал Эйнар. — Вдруг я захочу туда вернуться, и что же тогда?
— О... — Брунилла Вексли потупилась и задумчиво поковыряла носком туфли землю. — Да кому она нужна, эта Европа?
Вскоре они поженились. Ритуал показался Брунилле малость странноватым, но все кончилось хорошо. Дядюшка Эйнар смотрел на свою новенькую, с иголочки, жену и думал, что, хотя он, конечно же, никогда уже не сможет улететь в Европу, потому что ночью — никак, а днем увидят и подстрелят, теперь это не имеет особого значения, потому что рядом с ним Брунилла.
А вот для того, чтобы взлетать прямо вверх и так же прямо приземляться, особого зрения не требовалось. А потому было вполне естественно, что в первую брачную ночь Эйнар подхватил Бруниллу на руки и взмыл с ней под облака.
Ночью фермер, живший милях в пяти от Бруниллы заметил в небе какие-то странные сполохи.
— Зарница, — сказал он и пошел спать.
Эйнар и Брунилла опустились на землю только к рассвету, вместе с росой.
Их брак оказался удачным. Брунилла очень гордилась Эйнаром. И ей было очень приятно думать, что вот сколько в мире женщин, а крылатый муж есть только у нее.
— Ну кто еще может таким похвастаться? — спрашивала она у зеркала и сама же себе отвечала: — А никто!
Эйнар же, со своей стороны, нашел в ней все, о чем только можно мечтать, — и красоту, и доброту, и понимание. Он приспособил свою диету к ее представлению о том, что едят, и прилагал все старания, чтобы ничего не сшибать своими крыльями, во всяком случае, не сшибать ничего хрупкого. Он научился спать ночью, как все люди, она же со своей стороны приспособила стулья и прочую мебель под его крылья и говорила приятные вещи.
— Мы все как куколки шелкопряда, — говорила она, — вот и я тоже. Но однажды я прорву кокон и взмахну крыльями, такими же красивыми, как твои.
— Тебе нет нужды рвать свой кокон, — говорил он. — Ты давно его порвала.
— Да, — согласилась она, — и я точно знаю, где и когда это случилось. Это случилось в лесу, когда я искала корову, а нашла зеленую палатку.
И они смеялись, и в такие моменты в ее простоватом лице прорезывалась красота, как меч, выхваченный из ножен.
А вот на редкость шустрые дети Бруниллы, три мальчика и девочка, и так не ходили, а словно летали. В летнюю полуденную жару они мухоморами из-под земли появлялись рядом с дядюшкой Эйнаром и хором просили посидеть с ними под яблоней, пообмахивать их для прохлады крыльями и что-нибудь рассказать. И он рассказывал им, как дуют в поднебесье ветры, и какие бывают облака, и какая звезда словно тает у тебя во рту, и каков на вкус высокогорный воздух, и как себя чувствуешь, бросаясь вниз головой с вершины Эвереста, когда навстречу тебе мчатся извечные голубые снега и ты ждешь до последнего момента и лишь тогда распахиваешь крылья.
Вот такая была их семейная жизнь, тогда.
А теперь дядюшка Эйнар сидел под той же яблоней и дулся на весь свет, не потому, что ему так хотелось, а потому, что прошло уже очень много времени, но его ночное зрение так и не вернулось. И не вернется, похоже, никогда. Он сидел там, весь поникший, как зеленый пляжный зонтик, забытый осенью уехавшими домой курортниками, которые вчера еще искали убежища в его щедрой тени. Ну и что же теперь? Неужели он обречен просидеть здесь до конца дней своих и использовать крылья только для того, чтобы обмахивать детей да подсушивать женушкино белье? О боги! А где же выход?
Прежде полет был его единственным занятием. Он летал по поручениям Семьи, относил записки быстрее ветра, передавал послания быстрее телеграфа, он носился над лесами и полями, как бумеранг, и опускался на землю, как пушинка.
А что осталось теперь? Обида и горечь. Его крылья затрепетали и снова обвисли.
— Папа, подуй на нас ветром, — прошептала его маленькая дочка.
Обступив Эйнара полукругом, дети заглядывали в его потемневшее лицо.
— Нет, — отрезал Эйнар.
— Пообмахивай нас, папа, — попросил его сын.
— Сейчас и так прохладно, скоро будет дождь, — сказал Эйнар.
— Так ветер же, папа, — рассудительно сказал другой, совсем маленький сын. — Ветер унесет облака, и дождя не будет.
— Папа, а ты пойдешь на нас посмотреть?
— Бегите играйте, — отмахнулся от них Эйнар. — Дайте папе спокойно подумать.
Он опять вспоминал прежнее небо, ночное небо, звездное и пасмурное, тихое и грозовое. Неужели теперь его судьба — скучно ползать над гладкими, как стол, пастбищами, чтобы, упаси бог, не поломать крыло о силосную башню, не напороться на плетень? Тьфу!
— Папа, — сказала девочка, — пойдем на нас смотреть.
— Мы идем на гору, — пояснил один из мальчиков. — Все ребята туда идут.
Дядюшка Эйнар задумчиво пожевал костяшки пальцев.
— На какую еще гору?
— На Змеевую, а то на какую! — возгласили дети.
Эйнар присмотрелся к ним получше.
Все трое прижимали к груди большие, старательно склеенные воздушные змеи, их лица светились восторженным предвкушением праздника, их пальцы с трудом удерживали большие клубки белой бечевки. Со змеев свисали длинные хвосты из синих, и красных, и зеленых бумажных и шелковых ленточек.
— Мы будем запускать воздушных змеев! Пошли смотреть!
— Нет, — покачал головой Эйнар. — Там меня самого увидят.
— А ты можешь спрятаться и смотреть из леса. Мы очень хотим, чтобы ты посмотрел.
— На воздушных змеев?
— Мы сами их придумали и сделали, мы знали, как их делать.
— И откуда ж вы это знали?
— Так ты же наш папа — вот откуда!
Эйнар снова обвел их глазами.
— Так это что, соревнование воздушных змеев?
— Да!
— И я победю, — пропищала девочка.
— Нет, я! — наперебой завопили мальчишки. — Я! Я!
— Боже! — Дядюшка Эйнар высоко подпрыгнул и забарабанил крыльями. — Дети, дети, ну как же я вас всех люблю!
— Что с тобой? — испуганно попятились дети.
— Ни-че-го, — пропел Эйнар, расправляя крылья во всю их необъятную ширину. Бах! Он с размаху их сдвинул, и дети повалились на землю от мощного толчка воздуха. — Я придумал! Я придумал! Я вновь свободен! Свободен! Как пушинка на ветру! Как облачко в небе! Брунилла! Брунилла! — Из окна высунулась голова недоумевавшей Бруниллы. — Слушай! Теперь мне не нужно ночи! Я буду летать в любое время. Каждый день, и никто не догадается, никто меня не подстрелит, и я... Господи, да зачем же я трачу время попусту! Смотрите!
На глазах у потрясенной семьи он оторвал у одного из змеев многоцветный хвост и привязал его к своему поясу, схватил клубок бечевки, зажал ее конец зубами, вернул клубок детям и взмыл в небо.
По полям и лугам бежали сыны его и дочка, с визгом и хохотом спотыкаясь и передавая друг другу клубок и все дальше отпуская бечевку в ярко-голубую высь, а Брунилла стояла на крыльце и смеялась и махала им рукой, понимая, что теперь вся ее семья будет бегать и летать свободно и счастливо.
А дети взбежали на Змеевую гору и гордо встали там с клубком в руках, дергая по очереди бечевку и водя ею из стороны в сторону, дергая и водя.
Тем временем на гору сбежались дети со всего поселка, чтобы запускать по ветру своих маленьких воздушных змеев, и вдруг увидели огромного зеленого змея, который то плавно парил, то взмывал к небу, то стремглав бросался вниз, и тогда они закричали:
— Ой, ой, какой змей! Ну! Вот мне бы такой! Какой громадный змей! Где вы его взяли?!
— Это наш папа сделал! — гордо ответили два прекрасных сына и прелестная дочка и дернули бечевку; легко повинуясь их детским рукам, глухо гудящий змей начертал на облаке исполинский восклицательный знак!
Глава 16.
Шепоты шепчущихся
Потребности были многочисленны, их проявления — многообразны. Одни из них были из плоти и крови, в то время, как другие едва ощущались, как некое настроение, разлитое в воздухе, одни чем-то напоминали облака, другие напоминали ветер, третьи — ночь, и все они нуждались в крове, под которым укрыться, в месте, где уместиться, для чего были пригодны и винные погреба, и чердаки, и каменные статуи на веранде Дома. А некоторые нужды проявлялись исключительно в виде шепота, и нужно было очень прислушаться, чтобы их услышать.
И вот что шептали шептуны: — Затаись. Не шевелись. Молчи. Не поднимай головы. Не слушай крики пушек, потому что они кричат о гибели и смерти, смерти полной, окончательной, без появления духов и призраков. Они говорят нам, легионам воскресших, не «да», а «нет», жуткое «нет», от которого летучая мышь теряет на лету крылья и падает на землю жалкой кургузой тушкой, у волка подламываются лапы, а все гробы покрываются инеем Вечности, сквозь который не пробьется на волю ни одно Семейное дыхание... Затаитесь, о, затаитесь в огромном Доме; спите, проникая стуком своих сердец сквозь половицы. Затаитесь, о, затаитесь и храните молчание. Спрячьтесь. Ждите. Ждите.
Глава 17.
Фивейский голос
— Я был, — сказал он, — побочным отпрыском петель крепостной стены великих Фив. Вы спросите, что значит «побочным отпрыском», при чем здесь петли? В стене Фив были огромные ворота, понимаете?
Все сидящие за столом нетерпеливо закивали: да, да, не тяни.
— Ну так вот, — сказал клочок тумана внутри прозрачного облачка пара внутри мимолетного отблеска тени, — когда была воздвигнута эти стена, когда были вытесаны из огромных бревен двойные для нее ворота, тогда и была изобретена первая в мире петля для подвески ворот таким образом, чтобы они легко открывались. А открывали их часто, чтобы пропускать толпы людей, желавших поклониться Изиде и Озирису, Бубастис и Ра. Но в те времена верховные жрецы не изощрились еще в магических трюках, не осознали еще, что богам нужны голоса или хотя бы воскурения, чтобы в клубах и завитках плывущего к небу дыма можно было читать знамения. Воскурения появились позже. А пока жрецы ничего этого еще не знали, но голоса были нужны. Таким голосом стал я.
— Да? — заинтересовалась Семья. — Как?
— Они изобрели петлю, выкованную из бронзы, металла вечности, но не изобрели еще смазку, чтобы петля поворачивалась бесшумно. А потому, когда распахнулись огромные фивейские врата, родился я. Очень слаб был сперва мой голос, еле слышный взвизг, скрип, но вскоре он окреп и начал звучно возвещать волю богов. Мною говорили тайные, невидимые Ра и Бубастис. Теперь мои слова, мои скрипы и скрежеты интересовали жрецов и молящихся ничуть не меньше, чем золотые маски.
— Я никогда об этом не думал, — вскинул глаза Тимоти.
— Думай, — сказал голос фивейских петель, затерявшихся в трехтысячелетней тьме.
— Продолжай, — поторопила его Семья.
— И видя, — сказал голос, — как напряженно вслушиваются богомольцы в мои таинственные, нуждающиеся в толковании вердикты, никто не стал смазывать бронзовые крюки; вместо этого был назначен верховный жрец, толковавший малейшее поскрипывание петель как намек Озириса, совет Бубастис, одобрение бога Солнца.
Бесплотная сущность помедлила и продемонстрировала несколько образчиков скрипа и пения проворачивающихся петель. Это звучало как истинная музыка.
— Родившись, я никогда уже не умирал. Почти умирал, но не совсем. И сколько бы люди ни умащивали маслами свои двери и ворота, всегда оставалась хоть одна петля, куда я вселялся на ночь, на год, на век человеческий. И вот я пересек континенты, со своим древним языком и сокровищницей своих знаний, чтобы стать здесь, у вас, представителем всех открываний и закрываний, происходящих в этом огромном мире. Не смазывайте мои упоры ни коровьим маслом, ни оливковым, ни свиным жиром, ни бараньим.
Его мягкий смех поддержали все сидевшие за столом.
— Так как же мне вас записать? — спросил Тимоти.
— Как члена племени говорящих без воздуха и дыхания, самодостаточных рассказчиков дня и ночи.
— Повторите, пожалуйста.
— Негромкий голос, вопрошающий мертвых, стучащихся в райские врата: «За всю твою жизнь знал ли ты энтузиазм?». И если ответ «да», вас пускают на небеса, а если ответ «нет», вы низвергаетесь в геенну огненную.
— Чем больше я вас спрашиваю, тем длиннее ваши ответы.
— Запишите тогда «Фивейский глас».
Тимоти начал писать, но потом остановился и поднял голову:
— Глас или голос?
— Пусть будет «голос».
Глава 18.
Спешите жить
Кто-то назовет мадемуазель Анжелину Маргариту странной, кто-то — необычной, кто-то — гротескной, кто-то — кошмарной, но в любом случае следует признать ее опрокинутую жизнь крайне загадочной.
Тимоти и узнал-то о ее существовании только через много месяцев после великой достопамятной Семейной Встречи.
Потому что она жила, или существовала, или, что будет еще ближе к истине, скрывалась на тенистом участке земли за великим Деревом, где стояли памятные камни с именами и датами, особо важными для Семьи. Даты относились к тому времени, когда испанская Армада разбилась у берегов Ирландии, что дало жизнь многим темноволосым мальчикам и еще более темноволосым девочкам. Имена восходили к счастливым временам инквизиции и крестоносцев — детей, радостно въезжавших в мусульманские склепы. Некоторые камни, большие прочих, напоминали о страданиях ведьм в Массачусетском городе. Все эти знаки были установлены по мере того, как Дом постепенно наполнялся жильцами. Что лежало под ними, было известно только маленькому грызуну и совсем уже крошечному арахниду.
Но только одно из имен, имя Анжелины Маргариты, заставило Тимоти затаить дыхание. Оно очень мягко перекатывалось на языке. Оно было прекрасно.
— Когда она умерла? — спросил Тимоти.
— Спроси лучше, — сказал Отец, — когда она родится.
— Так она же уже родилась, и давным-давно, — удивился Тимоти. — Я не смог разобрать дату, но уж точно...
— Уж точно, — прервал его высокий, сухопарый бледный человек, сидевший во главе стола и час от часу становившийся все выше, сухопарее и бледнее, — уж точно, если я могу верить своим ушам и нервным окончаниям, она родится не позже чем через две недели.
— Насколько не позже? — спросил Тимоти.
— Посмотри сам, — вздохнул Отец. — Она не станет залеживаться под этим камнем.
— Ты хочешь сказать?..
— Понаблюдай. Когда надгробие задрожит и земля зашевелится, ты получишь наконец возможность посмотреть на Анжелину Маргариту.
— А она будет такая же прекрасная, как ее имя?
— Уж не сомневайся. Я бы очень не хотел наблюдать, как старая карга понемножку молодеет, год за годом приближаясь к своей былой красоте. Если нам повезет, она будет подобна кастильской розе. Анжелина Маргарита ждет. Беги посмотри, проснулась она или нет. Живо!
И Тимоти побежал; один крошечный друг висел у него на щеке, другой затаился в его рукаве, третий следовал за ним по пятам.
— О Арах, Мышь и Ануба, — говорил он, поспешая к выходу из старого темного Дома. — Что же все-таки имел в виду Отец?
— Тихо, — прошелестели ему в ухо восемь тонких ног.
— Слушай, — донеслось из его рукава.
— Отступи в сторону, — сказала кошка. — Я пойду первой!
Добежав до могилы с белым, гладким, как девичья щека, надгробием, Тимоти встал на колени и приложил к холодному мрамору ухо, в котором сидел невидимый ткач, чтобы слушать с ним вместе.
И закрыл глаза.
Сперва: мертвая тишина.
И опять тишина.
Он был уже готов разочарованно вскочить на ноги, когда легкое щекотание в ухе сказало ему:
— Подожди.
И откуда-то из безмерной глубины до него донеслось что-то похожее на одиночный удар погребенного сердца.
Земля под его коленями трижды вздрогнула.
Тимоти смятенно отпрянул.
— Отец говорил правду!
— Да, — прошептало в его ухе.
— Да, — эхом отозвался пушистый шарик в его рукаве.
— Да, — мурлыкнула Ануба.
Это было так жутко и непонятно, что Тимоти расплакался и продолжал плакать всю дорогу домой.
— О бедная леди!
— Чем же она бедная? — удивилась мать.
— Но она же мертвая!
— Теперь уже ненадолго. Успокойся и жди.
Но он не нашел в себе сил вторично навестить белое надгробие, а только отряжал к нему своих посланцев, чтобы послушали и доложили.
Сердце билось день ото дня сильнее. Землю пронимала нервная дрожь. В его ухе выткалась паутинная завеса. Карман его куртки ходил ходуном. Ануба носилась кругами.
Близилось время.
А затем, на половине долгой ночи, после только что отгремевшей грозы, в кладбище ударила одинокая молния.
И земля разрешилась наконец от бремени, и было это так.
В три часа поутру, в полночь души, Тимоти выглянул в окно и увидел свеченосную процессию, устремлявшуюся по тропинке к Дереву и тому, особому надгробию.
Процессию возглавлял отец с многолапым канделябром в руке; он взглянул и сделал знак. Испуганный или нет, Тимоти должен был участвовать.
Когда он догнал Семью, та стояла уже вокруг могилы, освещая ее высоко воздетыми свечами.
Отец протянул Тимоти маленькую лопату.
— Одни лопаты скрывают, другие раскрывают. Будь первым, кто откинет ком земли.
Пальцы Тимоти выронили инструмент.
— Подними и копай, — сказал отец. — Живо.
Тимоти неловко воткнул лопату в могильный холмик. Грянули три новых сильных удара сердца. Мраморное надгробие треснуло и развалилось надвое.
— Прекрасно!
Отец начал энергично копать, к нему присоединились остальные. Вскоре на свет показался изумительной красоты золотой гроб с гербом кастильских королей на крышке; его извлекли из ямы под общий радостный смех и положили под Деревом.
— Как могут они смеяться ? — вскричал Тимоти.
— Милое дитя, — сказала мать, — это победа над смертью, а потому здесь все наоборот. Ее не погребли, а разгребли — чем не повод для ликования? Сбегай принеси нам вина.
Он принес две бутылки вина, вино разлили по дюжине стаканов, которые были подняты и выпиты под напевное бормотание дюжины голосов:
— О явись нам, Анжелина Маргарита, юной девой и начни свой путь из девы в девочку, в младенца, в материнскую утробу и в Вечность, что превыше времени!