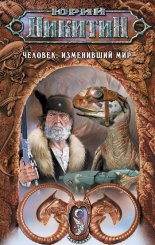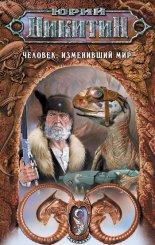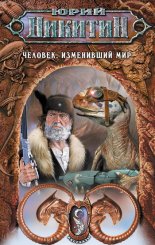Из праха восставшие Брэдбери Рэй

— И все-таки, — сказал Питер, — это уже лучше, чем совсем без тела.
Поезд с грохотом влетел на мост.
— Я, пожалуй, ознакомлюсь с обстановкой, — сказал Питер.
Старик почувствовал, что его тело шевельнулось.
— Прекрати! Успокойся! — крикнул он и крепко зажмурился.
— Открой их! Давай посмотрим!
Его глазные яблоки крутились из стороны в сторону.
— Ой, какая девочка идет! Ну, быстренько!
— Самая прекрасная девушка в мире!
Соблазн был неодолим, и древний сноп чуть приоткрыл левый глаз.
— Ого! — сказали все разом. — Ведь и правда!
Девушка, хорошенькая и соблазнительная, как самый лучший приз, какой только можно выиграть на ярмарке, сшибая мячиком молочные бутылки, плавно раскачивалась в такт толчкам поезда.
— Нет! — старик испуганно зажмурился.
— Открывай! Пошире!
Его глаза крутились, как вентиляторы.
— Отстаньте! — заорал он в отчаянии. — Прекратите!
Девушка качнулась сильнее, словно готовая упасть на всю их компанию.
— Прекратите! — крикнул запредельно ветхий старик. — Мы тут не одни, с нами Сеси, воплощенная невинность!
— Невинность! — заржали четыре кузена.
— Дедушка, — вздохнула Сеси, — со всеми этими моими путешествиями, ночными прогулками, я не то чтобы слишком...
— Невинна, — гаркнули хором кузены.
— Но послушайте! — возмутился Пращур.
— Это вы послушайте, — прошептала Сеси. — Сотнями летних ночей я просачивалась в окна сотен спален. Я лежала на прохладных белоснежных простынях и купалась раздетой в реках, а затем лежала на берегу, под августовским полуденным солнцем, на виду у птиц и...
— Я не желаю этого слушать!
— Да... — Голос Сеси блуждал в полях воспоминаний. — Сквозь окна в солнечном лице девушки я смотрела на юношу, и тогда же, в тот же самый момент, я была тем самым юношей, я опаляла страстью эту девушку. Где только не случалось мне угнездиться — в спаривающихся мышах, в попугайчиках-неразлучниках, в нежных голубях и в бабочках, слившихся воедино на полевом цветке.
— Проклятье!
— Я мчалась на санях в декабрьскую полночь, когда падал снег, из розовых лошадиных ноздрей вылетали белые клубы пара, а нам шестерым, молодым и веселым, было тепло под грудой мехов, и мы хотели, искали и находили...
— Перестань сейчас же! — сказал старик.
— Браво! — воскликнули кузены.
— ...И я вселялась без спроса в сказочно великолепный дворец — тело прекраснейшей в мире женщины...
Пращур потрясенно молчал.
Ибо теперь на него словно сыпался легкий, завораживающий снег. Он ощутил прикосновение цветов к своему лбу, дуновение июльского утреннего ветерка в своих ушах, по его телу текли струи тепла, на древней, иссохшей грудной клетке наливались груди, где-то внизу, под ложечкой, вспыхнуло и стало разгораться жаркое пламя. По мере того как Сеси говорила, его губы увлажнились, чуть припухли и окрасились, — и он знал поэзию, и знал, что может рассыпать ее нескончаемым алмазным дождем, — серые от тысячелетней могильной пыли пальцы зашевелились у него на коленях и стали нежно-розовыми, как яблоневый цвет. Старик взглянул на них, пораженно замер, а затем крепко, до боли, сжал кулаки.
— Нет! Отдай мои руки! Очисти мой рот!
— Хватит, — сказал внутри него голос Филипа.
— Мы попусту тратим время, — сказал Питер.
— Давайте-ка познакомимся с этой юной дамой, — предложил Джек.
— Давно пора! — дружно поддержали его Филип, Питер и Вильям; невидимые веревочки вздернули старика на ноги.
— Отпустите меня! — крикнул он и отчаянно сомкнул свои глаза, свой череп, невероятный каземат, грозивший раздавить четверку кузенов. — Ну! Прекратите!
— На помощь! — Кузены заметались в кромешной мгле. — Свет, дайте свет! Сеси?
— Сейчас, — сказала Сеси.
Старик почувствовал, что невидимые руки щиплют его и дергают, щекочут за ушами и под мышками. Его легкие наполнились пухом, в носу засвербило от сажи, ему неудержимо хотелось чихнуть.
— Билл, бери его левую ногу, двигай! Питер — правую, шагай! Филип — правую руку. Джек — левую. Начали!
— Поживее! Давай!
Нильский Пращур шагнул.
Но не к прелестной девушке, а в противоположную сторону, и почти что рухнул на пол.
— Да ты что? — крикнул греческий хор. — Она же там! Направьте его, кто-нибудь! Кто при его ногах? Билл? Питер?
Прадед распахнул дверь купе, вывалился в коридор и совсем уже хотел броситься в пролетающие мимо подсолнухи, когда мерзкий хор, напиханный ему в рот, возгласил:
— Замри!
И он послушно, как ребенок, замер.
А потом, помимо своей воли, встал на ноги, вернулся в купе и упал девушке на руки, потому что поезд влетел на очередной поворот.
— Извините! — воскликнул он, поспешно вскакивая.
— Извиняю, — улыбнулась девушка.
— Вы только не подумайте, я ничего такого! — прадед горестно плюхнулся на сиденье напротив нее. — Ч-черт! Тараканы завелись на чердаке!
Чтобы лучше слышать разговор, кузены прочистили его уши.
— Учтите, — прошипел он внутренним голосом, — что это вы там резвитесь как жеребчики, а я, Тутанхамон, ушел в гробницу, на покой, когда вас всех еще и в проекте не было.
— Но... — Камерный квартет лихо крутил его глазами. — Мы сделаем тебя молодым!
Они подожгли запал в его животе, взорвали бомбу в груди.
— Нет!
Прадед дернул веревку, под ногами кузенов разверзлась черная пасть люка, и они полетели вверх тормашками в бесконечный лабиринт воспоминаний, сутолоку объемных форм, ничуть не менее живых и блистательных, чем девушка напротив. Падение длилось и длилось.
— Поберегись!
— Я заблудился!
— Питер?
— Я где-то в Висконсине. Как я сюда попал?
— А я плыву по Гудзону на пароходе. Вильям?
— Я в Лондоне, — откликнулся далекий голос Вильяма. — Боже! Судя по газетам, двадцать первое августа одна тысяча восьмисотого года!
— Сеси?! Это твоя работа!
— Нет, моя! — прогремел со всех сторон голос Пращура. — Вы все еще у меня в ушах, но живете в кусках моего прошлого. Поберегите свои нежные головки!
— Постой, постой, — вмешался Вильям, — это что тут такое? Гранд-каньон или твой гипофиз?
— Гранд-каньон. Тыща девятьсот двадцать первый.
— Девушка, и какая! — воскликнул Питер. — Вот здесь, в двух шагах!
И действительно, эта девушка была прекрасна, как весна, растопившая снега двести лет назад. Прадед не помнил ее имени, да в общем никогда его и не знал. Случайная встречная с букетиком земляники в руке.
Питер попытался схватить изумительное видение за руку.
— Прочь! — крикнул Пращур, но лицо девушки уже взорвалось миллионом искр и растворилось в полуденном воздухе.
— Вот же черт, — пробормотал Питер.
А его братцы уже шарили по углам, взламывали двери, распахивали ставни.
— Боже! — кричали они. — Вы только посмотрите!
Ибо здесь прадедовы воспоминания лежали аккуратно, как сардины в банке, в миллионы рядов и миллионы слоев, систематизированные по дням, минутам и секундам. Вот девушка расчесывает свои длинные черные волосы. А вот другая, блондинка, здесь она бежит, а здесь — спит. И все замурованы в соты цвета их нежных щек. Ослепительные улыбки. Их можно выбирать, разглядывать, отсылать прочь, призывать назад. Крикни: «Италия, 1797!» — и они затанцуют в прохладных беседках или поплывут по искрящимся волнам.
— Дедушка, а бабушка, она о них знает?
— Ой, а тут ведь еще!
— Тысячи и тысячи!
— Вот! — Прадед сдернул покров с новой пачки воспоминаний.
В лабиринт вступили тысячи женщин.
— Браво, дедушка!
Он чувствовал, как по всей его голове, от уха до уха, четверка кузенов обшаривает города, переулки, комнаты.
А затем Джек поймал за руку одну особо понравившуюся ему девушку, благо рядом никого не было.
— Попалась?
— Идиот, — прошептала девушка. И обернулась. В одно мгновение ее прекрасная плоть ссохлась, выгорела. Подбородок заострился, щеки ввалились, глаза глубоко запали.
— Бабушка, это ты?
— Четыре тысячи лет назад, — проворковала Пра-пра-пра...
— Сеси! — взъярился Пращур. — Запихни этого недоумка в собаку, в осину — куда угодно, лишь бы прочь из моей долбаной башки!
— Брысь отсюда! — приказала Сеси.
Джек пробкой вылетел наружу.
И тут же оказался в голове воробья, отдыхавшего на телеграфном проводе.
Иссохшая бабушка так и стояла в полумраке, но затем дедушкин внутренний взгляд снова одел ее в прежнюю плоть, вернул краски ее глазам и щекам. Убедившись, что теперь с бабушкой все в порядке, дедушка спровадил ее в один из садов древней — нет, юной — Александрии.
И открыл глаза.
Яркий свет на мгновение ослепил оставшуюся троицу.
Девушка так и сидела напротив, в каких-то двух шагах.
Кузены встрепенулись.
— Дураки мы! — сказали они. — Какое нам дело до всего этого старья? Новое, оно сейчас, здесь!
— Да, — прошептала Сеси, — здесь и сейчас. Сейчас я запихаю дедово сознание в ее тело, а ее мысли и мечты — в его голову. Он будет сидеть тихо, как паинька, зато уж мы внутри порезвимся. Глядя со стороны, все будет чинно-благопристойно, проводнику ни в жизнь не догадаться. Дедова голова огласится диким хохотом, наполнится разнузданными, всякий стыд потерявшими толпами, а тем временем его собственное сознание будет надежно заперто в черепе этой прелестной девушки. Отличный способ скоротать время в поездке.
— Да! — гаркнула буйная троица.
— Нет. — Прадед вынул из кармана две белые таблетки, бросил их себе в рот и проглотил.
— Что ты делаешь?!
— Вот же черт! — сказала Сеси. — А ведь какой был прекрасный, прегнусный план.
— Доброй вам ночи, приятного сна, — улыбнулся Пращур. — А что касается вас... — Его мудрые, начинавшие слипаться глаза скользнули по лицу девушки. — Вы, юная леди, только что избежали судьбы много худшей, чем смерть четырех кузенов.
— Извините?
— Невинность, пребывай в своей невинности, — пробормотал прапрадед и сладко уснул.
Поезд подошел к Соджорну, штат Миссури, ровно в шесть, и только тогда Джеку, сосланному в голову придорожного воробья, было дозволено вернуться.
Никто из соджорнских родичей не захотел дать приют беспутным кузенам, так что Пращур был вынужден вернуться в Иллинойс с головой, все так же отягощенной их присутствием.
Там они в конечном итоге и остались, каждый в своем луною и солнцем освещенном закутке необозримо огромного, всякой всячиной заваленного чердака.
Питер нашел себе приют в Вене 1840 года, в компании некоей малость свихнутой актрисы; Вильям поселился в Озерном крае[9], вместе с белокурой шведкой, чей возраст абсолютно не поддавался определению, в то время как Джек без устали метался по притонам и злачным местам — сегодня в Сан-Франциско, завтра в Берлине, послезавтра в Париже — выплывая время от времени этаким развратным огоньком в дедовых глазах. Ну а внезапно образумившийся Филип заперся в библиотеке с похвальным намерением проштудировать все любимые книги деда.
А иногда, глухой ночью, Прадед прокрадывается все по тому же чердаку к прабабушке, не четырехтысяче-, но четырнадцатилетней.
— Ты! — кричит она. — В твоем-то возрасте!
Она кричит на него и машет руками, и в конце концов дедушка сдается, уходит от нее, хохоча на пять голосов, и притворяется спящим, все время ощущая присутствие четверых наблюдателей — и никак не оставляя намерения повторить попытку.
Где-нибудь в ближайшие четыре тысячи лет.
Глава 11.
Невеселые возвращения
Невероятно, но всему, что взмыло вверх, пришлось рухнуть вниз.
Черной вселенской вьюгой ветры повернули назад; то, что рвалось вдаль, поколебалось в нерешительности на черте горизонта, а затем снова нахлынуло на Американский континент.
Над всем северным Иллинойсом вспухли грозовые тучи, еще немного, и из них хлынул дождь; в дожде этом мешались неприкаянные души, не достигшие цели крылья и слезы людей, которым пришлось прервать свои странствия и вернуться к месту Семейной Встречи, вернуться не в радости, но в горе.
По всем небесным просторам Европы и Америки недавнее ликование превратилось в скорбь, поникло под свинцовым гнетом гонений, предрассудков и неверия. Участники Встречи вернулись к порогу Дома, украдкой просочились сквозь окна, щели и дымоходы и, все так же украдкой, попрятались по глухим закоулкам, к вящему удивлению домашних, терявшихся в догадках — что же это такое? Если новая Семейная Встреча, то почему так скоро? Уж не приходит ли мир к концу? А мир и вправду близился к концу, во всяком случае — их мир; этот дождь неприкаянных душ, ливень бесприютных людей, все барабанил и барабанил по крыше, заливал подвалы и требовал хоть самого поверхностного объяснения, по какому случаю домашние решили, что каждого из прибывающих следует сердечно встретить, а заодно — выяснить, что вынудило их столь спешно бежать от мира.
Первый, с кем удалось побеседовать, был в тот момент еще далеко, в вагоне поезда, мчавшегося по Европе на север, в царство туманов и мелких, затяжных дождей, которые радуют землю и вгоняют в тоску человека.
Глава 12.
Восточный на север
В Восточном экспрессе, следовавшем из Венеции в Париж и далее до Кале, пожилая пассажирка обратила внимание на господина, который явно умирал от какой-то кошмарной болезни. Этот пассажир почти не появлялся на люди, столовался у себя в двадцать втором купе третьего вагона с конца, и только вечером, когда сгустились сумерки, он захотел, как видно, посидеть в вагоне-ресторане среди лживых электрических светильников, в атмосфере, пронизанной позвякиванием хрусталя и женским смехом.
Он тащился с ужасающей медлительностью и расположился в конце концов через проход от этой женщины, особы весьма немолодой, с грудью как неприступная крепость, чистым, безмятежным лбом и глазами, изливавшими на мир потоки всепоглощающей заботы, испытанной временем доброты.
Рядом с ней стоял строгий медицинский саквояж, из нагрудного кармана строгой, мужского покроя жакетки выглядывал термометр.
Жуткое, иззелена-бледное лицо нового соседа побудило ее руку прокрасться к лацкану и тронуть холодную стеклянную трубочку с делениями.
— Боже мой, — прошептала мисс Минерва Холлидей.
Тронув за локоть метрдотеля, как раз проходившего мимо, она негромко спросила:
— Пардон, но куда едет этот, — осторожный кивок в сторону прохода, — несчастный?
— До Кале, а затем в Лондон, мадам. Если будет на то Божья воля, — сказал метрдотель и поспешил дальше.
Минерва Холлидей решительно потеряла всякий аппетит, ее внимание постоянно возвращалось к бледному, как выбеленный временем скелет, человеку по ту сторону прохода.
Его лицо казалось сделанным из того же материала, что и столовое серебро в руках официанта. Ножи, вилки и ложки ложились на стол с холодным, мелодичным позвякиванием. Человек завороженно вслушивался в эти звуки, словно в голос своей внутренней, потаенной сущности, благовест, доносящийся из неких высших сфер. Его руки покоились на коленях, словно испуганные осиротевшие зверьки; когда поезд въезжал на поворот, его тело безвольно клонилось то в одну, то в другую сторону.
Очередной поворот оказался круче предыдущих, столовые принадлежности покатились по столикам, сталкиваясь и звеня.
— Я не верю! — хихикнула какая-то женщина, сидевшая в дальнем конце вагона.
В ответ на что ее спутник расхохотался и воскликнул:
— Как и я!
Этот незначительный эпизод воздействовал на жутковатого пассажира самым драматическим образом, дружный смех в чем-то там усомнившейся парочки поразил его, как удар грома.
Его тело обмякло, глаза остекленели; Минерве Холлидей на мгновение почудилось, что она видит облачко холодного пара, вылетевшего из жалко приоткрывшегося рта.
Потрясенная, она перегнулась через столик, вытянула вперед руку и прошептала:
— А я — верю!
Реакция была мгновенной.
Объект ее наблюдений воспрянул, в его глазах снова появился блеск, мертвенно-бледные щеки порозовели. Затем он повернулся и удивленно взглянул на женщину, чьи слова принесли ему столь чудесное исцеление.
Старая, с большой теплой грудью, сиделка залилась густой краской, торопливо встала и ушла.
Пятью минутами позднее мисс Минерва Холлидей услышала, как кто-то идет по коридору, стучит во все двери подряд и что-то негромко спрашивает. Затем в проеме приоткрытой двери ее купе появилось озабоченное лицо метрдотеля.
— Извините, пожалуйста, но вы случайно не...
— Нет, — поняла она, — я не врач. Однако у меня есть диплом сестры милосердия. Это что, тот пожилой господин из вагона-ресторана?
— Да, да! Ради Бога, мадам, идите за мной!
Жуткого пассажира как раз заносили в купе. Подойдя к распахнутой настежь двери, мисс Минерва Холлидей опасливо заглянула внутрь.
Оживший было человек лежал лицом вверх, с закрытыми глазами. Его рот напоминал бескровную рану, а голова, словно какой-то отдельный неодушевленный предмет, при каждом толчке поезда болталась из стороны в сторону.
Боже мой, подумала мисс Минерва Холлидей, да он же умер.
Но вслух она сказала совсем другое:
— Я позову вас, если потребуется.
Метрдотель облегченно удалился.
Мисс Минерва Холлидей прикрыла дверь купе и вернулась к мертвому человеку, чтобы его обследовать. В том, что он мертв, не было сомнений, но все же...
В конце концов она решилась потрогать запястье и тут же отдернула пальцы, их словно обожгло сухим льдом. Тогда она вздохнула, нагнулась и прошептала в бледное, без единой кровинки лицо:
— Слушайте меня очень внимательно. Хорошо?
И услышала — вроде бы услышала — в ответ нечто напоминавшее одиночный удар сердца, прогоняющего по жилам не живую кровь, но холодную как лед воду.
— Трудно сказать, как это пришло мне в голову, — продолжила она, — но я точно знаю, кто вы такой и какая у вас болезнь...
Опять поворот, голова пассажира легко, как на веревочном жгутике, перекатилась налево.
— Я скажу вам, от чего вы умираете, — прошептала мисс Минерва Холлидей. — Вы больны — людьми.
Глаза пассажира распахнулись, как от выстрела в сердце.
— Вас убивают люди, едущие на этом поезде, — сказала она. — Это они ваш недуг.
За сомкнутой раной его рта шевельнулось нечто вроде дыхания.
— Да...а...а.
— Вы из какой-то центрально-европейской страны, верно? — Пальцы мисс Холлидей сомкнулись на ледяном запястье, пытаясь нащупать хоть какое-то подобие пульса. — Из одной из тех стран, где ночи кажутся бесконечными, а когда завывает ветер, люди слушают. Теперь же все изменилось, и вы захотели бежать оттуда, уехать, только...
Но здесь проходившая по коридору компания молодых, разгоряченных вином туристов взорвалась оглушительными раскатами смеха; мисс Холлидей на мгновение почудилось, что смертельно бледный пассажир побледнел еще больше.
— Откуда... вы... — прошептал он, — это... знаете?
— Я — особая сестра милосердия, с особенным опытом. Давным-давно, мне было тогда шесть лет, я встретила, я видела такого, как вы.
— Видели? — Слово вылетело из его губ невесомо и почти неслышно, как облачко пара.
— Да. В Ирландии, неподалеку от Килешандры. Старый, столетний дом моего дяди был насквозь пронизан дождем и туманом, и были шаги по крыше, и звуки в холле, словно туда вошло ненастье, а однажды ночью в моей комнате появилась эта тень. Она села ко мне на кровать, и от ее холода меня бросило в дрожь. Я это помню, и я знаю, что это не было сном, потому что тень, которая вошла ко мне и села на кровать, и шептала мне, была очень... очень похожа... очень похожа на вас.
Сомкнутые веки старика чуть дрогнули; из самых глубинных, арктических бездн его души вырвалось стенание:
— И кто же тогда... что же тогда... я... такое?
— Вы не больны. Вы не умираете. Вы...
Далеко впереди, в голове Восточного экспресса, зарыдал паровозный гудок.
— ...призрак, — закончила мисс Холлидей.
— Да-а-а! — В этом вопле звенела отчаянная потребность в узнавании, в понимании. — Да!
Словно в ответ, на пороге распахнувшейся двери появился священник с серебряным распятием в руке. Совсем молодой, с пунцовыми губами и сияющими очами, он воззрился на распростертую фигуру кошмарного пассажира и звонким голосом вопросил:
— Могу ли я?..
— Соборование? — Левое веко старика отъехало вверх, как крышка серебряного ларца. — От вас?
— Нет. — Распахнутый глаз скосился на медсестру. — От нее.
— Сэр! — вспыхнул юный священник; вцепившись в спасительное распятие, как в вытяжной строп парашюта, он крутанулся на месте и пулей вылетел из купе.
Пожилая сестра милосердия молча смотрела на своего, теперь уже окончательно странного пациента, пока тот не выдохнул с хрипом:
— А чем... чем сумеете помочь мне вы?
— Ну... — смешалась она, — мы непременно что-нибудь придумаем.
Всхлипывая гудком, Восточный экспресс прорывался сквозь ночь, дождь и туман.
— Вы едете до Кале? — спросила мисс Холлидей.
— И дальше до Дувра, Лондона и, может статься, до замка в окрестностях Эдинбурга, места, где я смогу вздохнуть спокойно.
Это почти невозможно... Нет, нет, подождите! — торопливо вскричала она, увидев как громом пораженное лицо старика. — Невозможно... без меня. Я провожу вас до Кале и на тот берег, до Дувра.
— Но вы же меня совсем не знаете!
— Не знаю, но я думала о вас еще в детстве, задолго до того, как встретила среди ирландских дождей и туманов некое ваше подобие. Девятилетней девочкой я бродила по болотам и топям в поисках баскервильской собаки.
— Да, — сказал кошмарный пассажир. — Вы англичанка, а англичане верят.
— Правильно. Верим лучше американцев, которые всегда в чем-нибудь сомневаются. Французы? Прожженные циники. Англичане лучше всех. Едва ли не каждый лондонский особняк имеет свою «туманную леди», рыдающую на лужайке в предрассветные часы.
В дверь, распахнувшуюся при резком толчке поезда, хлынул из коридора мутный поток бессвязной болтовни, злобных пересудов и бесстыдного, явно кощунственного смеха; оживший было пассажир мгновенно сник, его глаза начали закатываться.
Мисс Холлидей вскочила на ноги и почти с ненавистью захлопнула дверь.
— Так давайте все-таки разберемся, кто вы такой, — сказала она, обратив на легко ранимого компаньона глаза, умудренные сотнями экстренных ночных вызовов.
И тут жуткий пассажир увидел в ее лице лицо ребенка, встреченного, а может и не встреченного им много лет назад, увидел и начал рассказ о своей жизни:
— Последние двести лет я «жил» в одном из пригородов Вены. Чтобы выстоять под натиском атеистов, равно как и людей истово верующих, я скрывался в пыльных катакомбах библиотеки, поддерживая свою жизнь скудным рационом из древних мифов да кладбищенских историй, и лишь изредка, ночами, позволяя себе попировать паническим ужасом заходящихся воем собак, бешено храпящих лошадей и без оглядки удирающих кошек... и сметенными с могильных плит крошками. По мере того как замки обращались в руины либо их владельцы сдавали свои зачарованные сады женским клубам да гостиничным предпринимателям, мои соотечественники по незримому миру все редели в числе. Лишившись пристанища, мы, призрачные скитальцы, все глубже погружались в трясину сомнений, неверия, насмешек и откровенного издевательства. Людей становилось все больше, веры — все меньше, выдержать это было почти невозможно, и все мои призрачные друзья бежали. Я не знаю — куда. Я остался один, и теперь я пытаюсь пересечь на этом поезде Европу, добраться до какого-нибудь надежного, дождем и туманом пронизанного замка, места, где люди не разучились еще бояться шорохов и стука, сажи, дыма и неприкаянных душ. Я стремлюсь в Англию, в Шотландию!
Его голос смолк, и в купе повисла тишина.