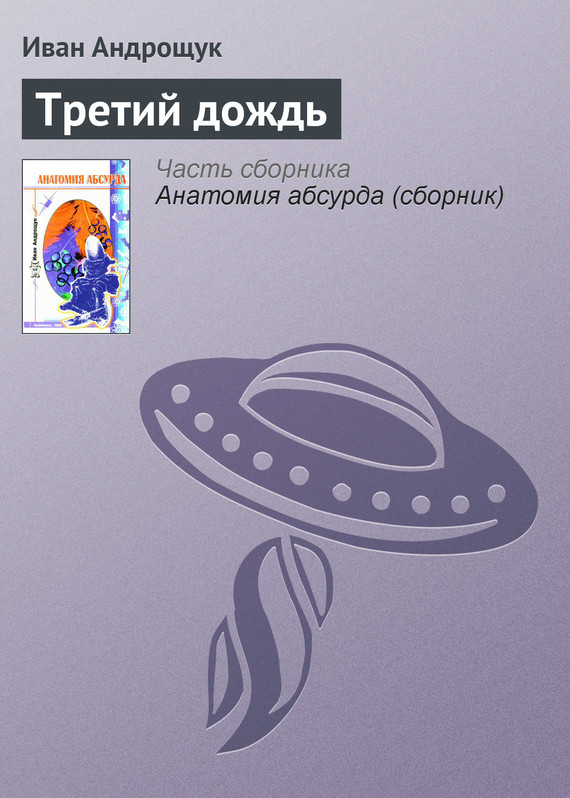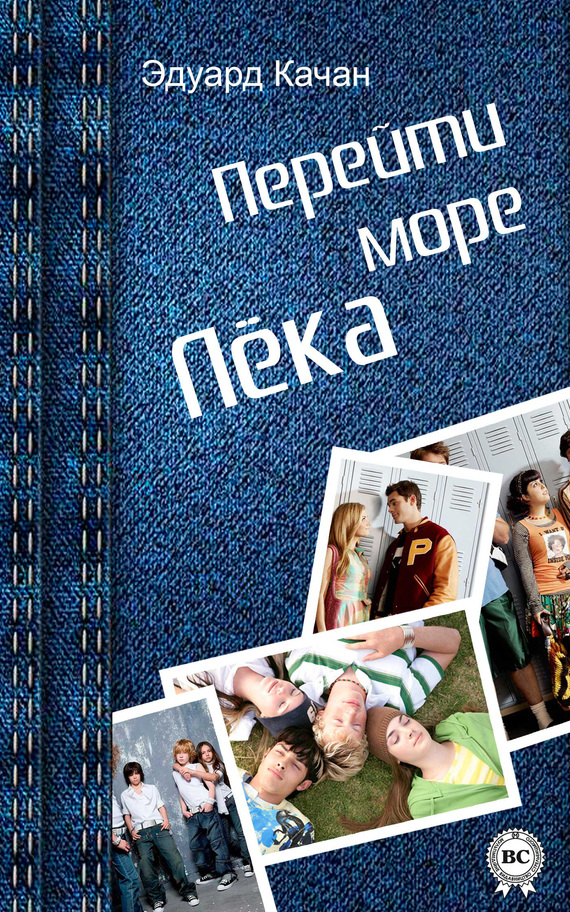Слишком много счастья (сборник) Манро Элис

– Ну, это его дело.
Снова пауза.
Затм опять шаги: Роксана спускается по задней лестнице.
– Вот так-то лучше, – сказала миссис Крозье. – А то стала забывать, чей это дом. Ну и убирайся!
Роксана была уже внизу. Послышался стук палки и тяжелые шаги хозяйки. Однако она остановилась и вниз не пошла.
– И не вздумай привезти сюда констебля! Он тебя все равно не послушается. Кто в этом доме главный? Уж точно не ты. Слышишь, что тебе говорят?
В ответ с грохотом захлопнулась дверь из кухни на улицу. Затем послышался звук мотора – Роксана завела свою машину.
Относительно полиции я беспокоилась не больше старой миссис Крозье. Полицию в нашем городке представлял констебль Маккларти, приходивший к нам в школу читать нотации: зимой опасно кататься на санках по улицам, а летом нельзя купаться под мельничным колесом. И то и другое мы продолжали делать. Смешно было даже вообразить, как он лезет в окно по стремянке или увещевает мистера Крозье через закрытую дверь.
Он бы наверняка посоветовал Роксане оставить семью Крозье в покое и заняться собственными делами.
Однако главенство старой миссис Крозье мне не казалось смехотворным, и теперь, когда Роксана, к которой она вдруг утратила всю любовь, уехала, хозяйка действительно могла распоряжаться в доме, как хотела. Могла накинуться на меня, заподозрив, что я приняла какое-то участие в этой истории.
Однако она даже не покрутила ручку. Просто постояла у запертой двери и пробормотала только одну фразу:
– А ты посильнее, чем я думала!
Потом стала спускаться вниз. Снова послышались удары ее палки, словно наказывавшие ступени лестницы.
Я немного подождала и вышла на кухню. Старой миссис Крозье там не было. Не нашла я ее ни в прихожей, ни в столовой, ни на веранде. Я собралась с духом и постучала в дверь туалета, потом открыла, – там ее тоже не оказалось. Тогда я поглядела в окошко над кухонной раковиной и увидела ее соломенную шляпу, медленно двигавшуюся над живой изгородью из можжевельника. Миссис Крозье вышагивала по самой жаре, тяжело ступая между клумбами.
Предположение Роксаны насчет самоубийства мистера Крозье я отвергла. Сама мысль о том, что человек, который находится при смерти, может покончить с собой, показалась мне абсурдной. Этого просто не могло быть.
Но все-таки я нервничала. Съела два миндальных пирожных из коробки, по-прежнему стоявшей на кухонном столе: надеялась прийти в себя от такого удовольствия, но даже не распробовала их вкус. Потом запихнула коробку в холодильник, чтобы избежать соблазна съесть еще.
Старая миссис Крозье все еще гуляла по саду, когда вернулась Сильвия. И продолжила прогулку после ее возвращения.
Едва услышав шум машины, я вытащила ключ из книги и отдала его Сильвии, как только та вошла. Я коротко объяснила, что случилось, не вдаваясь в подробности скандала. Да та и не стала бы слушать: она тут же побежала наверх.
Я осталась внизу.
Ничего. Ни звука.
Потом голос Сильвии – удивленный, огорченный, но точно не отчаявшийся. Она говорила слишком тихо, и я не могла ничего разобрать. Примерно через пять минут Сильвия спустилась вниз и сказала, что отвезет меня домой. Она сильно раскраснелась – лицо пошло пятнами – и выглядела ошеломленной, но в то же время едва сдерживала счастливую улыбку.
– А где матушка Крозье? – спросила она.
– В саду, возле клумб, – ответила я.
– Мне надо с ней переговорить, подожди минуточку.
Когда Сильвия вернулась, она выглядела уже не такой счастливой.
– Ну ты, наверное, понимаешь, – сказала она мне, выезжая задним ходом на дорогу. – Матушка Крозье ужасно расстроена. Я-то тебя ни в чем не виню. Наоборот, это было очень хорошо с твоей стороны – сделать то, о чем попросил мистер Крозье. Ты ведь не боялась, что с мистером Крозье что-то случилось, правда?
Я ответила: нет, не боялась. Потом сказала:
– Наверное, Роксана этого боялась.
– Миссис Хой? Вот как. Нехорошо получилось.
Мы спускались на машине с пригорка, который тут называли холмом Крозье.
– Не думаю, что он специально хотел напугать их, – сказала Сильвия. – Просто, когда долго болеешь, перестаешь щадить чувства других людей. Можно обозлиться на них, даже если они тебе помогают изо всех сил. Миссис Крозье и миссис Хой, конечно, старались, как могли, но мистер Крозье решил, что не желает больше выносить их присутствия возле себя. Устал от них. Понимаешь?
Она, похоже, сама не замечала, что улыбается.
«Миссис Хой».
Интересно, слышала ли я эту фамилию раньше?
И сказано так сдержанно, уважительно и в то же время с какой-то невероятной, космической снисходительностью.
Поверила ли я в то, что сказала Сильвия?
Я поверила в то, что все это сказал ей он.
В тот же день я еще раз увидела Роксану – как раз в тот момент, когда Сильвия упомянула эту новую для меня фамилию – миссис Хой.
Роксана сидела в своей машине, припаркованной у первого перекрестка по дороге с холма Крозье: она видела, что Сильвия повезла меня домой. Я не стала поворачивать голову в ее сторону: невежливо это делать в тот момент, когда с тобой говорят.
Сильвия, конечно, понятия не имела, чья машина там стоит. А Роксана, наверное, вернулась узнать, что же на самом деле произошло. Или она все это время кружила по району? Могла она так поступить?
Роксана, скорее всего, узнала машину Сильвии. И заметила меня. И догадалась, что все в порядке, – по тому, как спокойно и даже с улыбкой Сильвия со мной разговаривала.
Она не стала разворачиваться и подниматься к дому Крозье. Нет. Ее машина направилась – я видела это в зеркало заднего вида – в восточную часть города, где во время войны построили новые дома. Там Роксана и жила.
– Чувствуешь, ветерок подул? – спросила Сильвия. – А вон там облачка. Может, все-таки пойдет дождь?
Белоснежные облака стояли очень высоко. Они совсем не походили на дождевые тучи. И ветерок дул только оттого, что мы ехали в машине с открытыми окнами.
Я прекрасно поняла, какое соревнование разыгралось между Сильвией и Роксаной, но мне странно думать о призе в этой игре – полуживом мистере Крозье. Думать о том, что он сумел сделать над собой усилие и отказаться, лишить себя того, что шло ему в руки в самом конце жизни. Что это было? Похоть на пороге смерти или настоящая любовь? В любом случае я не могла думать об этом без содрогания.
Сильвия сняла дом на озере и отвезла туда мистера Крозье. Там он и умер еще до того, как облетели листья с деревьев.
Мистер и миссис Хой переехали в другой город, – с семьями автомехаников это часто случается.
Моя мама заболела и стала инвалидом. Это положило конец ее мечтам заработать много денег.
Дороти Крозье перенесла инсульт, однако оправилась и проявила необыкновенную щедрость, подарив детишкам, пришедшим к ней в дом на Хеллоуин{68}, кучу сладостей, хотя раньше неизменно гнала прочь их старших братьев и сестер.
Я выросла, потом постарела.
Детская игра
Наверное, потом у нас в доме случился такой разговор.
Моя мама: «Какой кошмар, какой ужас!»
Мой отец: «А все потому, что нужен глаз да глаз. Где, спрашивается, были в это время вожатые?»
Если бы мы прошли мимо дома моего детства, то мама наверняка спросила бы:
– Помнишь, да? Помнишь, как ты боялась эту девочку? Ох, бедняжка!
Мама хранила в памяти – чуть ли не коллекционировала – все мои детские выходки и заскоки.
В детстве год от года меняешься, становишься другим человеком. Это особенно ощущается в сентябре, когда снова идешь в школу. Позади бурное безделье летних каникул, и ты остро осознаешь, что стал на целый класс старше. Повзрослев, уже не понимаешь, в каком именно месяце происходят перемены, хотя они, безусловно, продолжаются, как и раньше. В течение длительного времени прошлое незаметно отдаляется. Его картины даже не забываются, а просто утрачивают значение. А потом вдруг самое далекое прошлое начинает расти в тебе, требовать внимания, словно просит что-то сделать, хотя совершенно ясно, что ничего уже поделать нельзя.
Марлин и Шарлин. Все думали,что мы двойняшки. Тогда было модно давать близнецам имена, звучащие в рифму: Бонни и Конни, Рональд и Дональд. Ну и кроме имен, у нас с Шарлин были одинаковые головные уборы. «Шляпы китайских кули» – так их тогда называли. Или «азиатские». Неглубокие шляпы-конусы из плетеной соломки, с веревочкой или резинкой под подбородком. Позднее такие шляпы часто мелькали в телерепортажах о войне во Вьетнаме: их носили мужчины, которые ехали по улицам Сайгона на велосипедах, или женщины, которые брели по дорогам на фоне разбомбленных деревень.
Тогда – я имею в виду время, когда мы с Шарлин ездили в летний детский лагерь, – еще можно было произнести слово «кули»{69}, не собираясь никого обидеть. Или назвать чернокожего негром. Или сказать скупому: «Ну чего ты жидишься?» Я была уже почти взрослой, когда поняла связь этого глагола с существительным.
Итак, мы носили похожие имена и одинаковые шляпы, и на первой же перекличке наша вожатая Мэвис (веселая девушка, которая нам нравилась, хотя немного меньше, чем другая вожатая, красивая Полина) указала на нас: «Двойняшки!» – и, не дав нам опомниться и возразить, продолжила считать подопечных.
Чуть раньше мы оценили и одобрили шляпы друг друга. Если бы они нам не понравились, мы наверняка первым делом зашвырнули бы эти новенькие плетеные шляпы под кровати и объявили бы, что это наши матери заставили нас их надеть.
Шарлин мне сразу понравилась, но я не знала, как с ней подружиться. Девочки девяти-десяти лет – а таких в лагере было большинство – сходятся друг с другом уже не так легко, как шести– или семилетки. По приезде я направилась вслед за девочками из нашего города – ни с кем из них я особенно не дружила – в один из деревянных спальных корпусов и там бросила свой чемодан на кровать, застеленную коричневым одеялом. И тут услышала:
– Слушай, ты не уступишь мне это место? Хочу быть рядом с сестренкой.
Это была Шарлин, обращавшаяся к какой-то незнакомой девочке. В корпусе помещалось не меньше двадцати человек. Девочка ответила: «Конечно» – и переложила свои вещи на другую кровать.
Шарлин умела находить нужную интонацию: игривую, дразнящую, ироничную, и при этом ее голосок звучал заразительно весело, как колокольчик. Мне с первого взгляда было ясно, что она уверена в себе куда больше, чем я. Это была не просто уверенность, что та незнакомая девочка уступит ей кровать. Шарлин ведь не настаивала: «Я ее первая заняла!» (А девчонки попроще сказали бы: «А ну, вали отсюда!» У нас были и такие, из очень простых семей, за них обычно платили не родители, а церковь или благотворительное общество «Лайонз клаб»{70}.) Нет. Шарлин была уверена, что любая девочка не просто ей уступит, а захочет уступить. Со мной тоже был определенный риск: а если бы я фыркнула: «Нашла сестренку!» – и принялась с независимым видом раскладывать свои вещи? Но я этого не сделала. Наоборот, слова Шарлин мне польстили, чего она и ожидала. Я смотрела, как она достает одежду из своего чемодана: у нее был такой победный вид, что некоторые вещи валились из рук и падали на пол.
– А ты, значит, уже загорела? – спросила я.
Ничего лучше мне придумать не удалось.
– Я быстро загораю.
Вот и первое различие между нами. Дальше мы принялись выискивать и изучать эти различия. Она быстро загорает, я покрываюсь веснушками. Мы обе шатенки, но она темнее. У нее волосы вьются, у меня топорщатся. Я на полтора сантиметра выше, у нее толще запястья и лодыжки. У нее глаза зеленоватые, у меня, скорее, голубые. Эти сравнения увлекли нас так, что мы сравнили даже родинки и пятнышки на наших спинах и длину второго пальца на ноге (у меня он оказался длиннее, чем большой, а у нее короче). Кроме того, мы вспомнили все, что претерпели наши тела: все болезни и несчастные случаи, все лечения и операции по удалению чего-нибудь. Нам обеим удалили миндалины – обычная предосторожность в то время. Обе мы перенесли корь и коклюш, но не болели свинкой. Мне вырвали верхний клык, потому что он сильно выдавался вперед, а у нее один ноготь был неровный, потому что его прищемило оконной рамой.
Разобравшись таким образом с историей и отличительными особенностями наших тел, мы обратились к семейным историям – драмам или без пяти минут драмам. Она оказалась младшим ребенком в семье и единственной дочерью, а я была вообще единственным ребенком. У меня тетя умерла от полиомиелита еще школьницей, а у Шарлин старший брат служил на флоте. Шла война, и мы пели у костра патриотические песни: «Англия не умрет»{71}, «Сердцевина дуба»{72}, «Правь, Британия!»{73}, а иногда «Кленовый лист навеки»{74}. Бомбардировки, сражения, утонувшие корабли – все это было постоянным, хотя и далеким фоном, на котором разворачивалась наша жизнь. А иногда случались события и поблизости – что-нибудь пугающее, но в то же время торжественное и бодрящее. Такое чувство возникало, когда парень из нашего городка или даже с нашей улицы погибал на фронте. Тогда дом, в котором он жил, казалось, выглядел иначе: не было ни венков, ни траурных драпировок, но чувствовалось – его коснулась рука судьбы. Ничего особенного там и не происходило, разве что у дверей стояла чья-то чужая машина: наверное, заехали родственники или священник, чтобы поддержать семью в несчастье.
Одна из вожатых потеряла на войне жениха и носила на груди, приколотыми к блузке, его часы (по крайней мере мы думали, что это его часы). Нам хотелось выразить ей сочувствие, но она была визгливой, любила командовать и даже имя имела какое-то неприятное – Арва.
Другой важной частью нашей жизни, которой, по идее, следовало уделить особое внимание именно в летнем лагере, было религиозное воспитание. Однако наш лагерь находился в ведении Объединенной церкви Канады{75}, и потому там не было ни такого занудства, как у баптистов или методистов, ни таких ритуалов, как у католиков или англикан. У большинства из нас родители принадлежали к Объединенной церкви (хотя у тех девочек, за которых платили благотворительные фонды, родственники вообще ни в какие церкви не ходили), мы с ранних лет привыкли к простой радушной атмосфере службы и даже не понимали, как нам легко живется по сравнению с другими. Все, что от нас требовалось, – это прочитать вечерние молитвы, спеть благодарственный гимн перед едой и еще послушать получасовую проповедь – ее называли «беседа» – после завтрака. Но даже во время «беседы» нам почти ничего не говорили о Боге и Христе – все больше о честности, доброте, любви, чистоте помыслов. Нас убеждали не пить и не курить, когда вырастем. Никто из нас не имел ничего против «бесед», привыкнув к ним и не пытаясь уклониться. Кроме того, мы слушали эти проповеди, сидя на пляже и греясь на солнышке, а лезть в воду пока что все равно было холодновато.
Взрослые женщины, в общем-то, ведут себя так же, как мы с Шарлин. Ну, может быть, они не считают родинки друг у друга на спине и не сравнивают пальцы на ногах. Но если они, познакомившись, чувствуют взаимную симпатию, то у них возникает желание рассказать о самом главном в своей жизни, даже если этого делать нельзя. Потом другие истории заполнят лакуны между главными событиями. И эти истории никогда не покажутся подругам скучными. Они будут с легким сердцем, смеясь, признаваться в собственном эгоизме, скаредности, совершенных в прошлом обманах и вообще в дурных поступках.
Для этого нужно, конечно, иметь доверие к собеседнице, а оно возникает не сразу.
Позднее мне довелось наблюдать, как это происходит в первобытных культурах. Начинается все, когда женщины подолгу просиживают у костра, помешивая кашу из маниока, в то время как мужчины молча бродят по лесам, – разговоры могут спугнуть зверей. (Я по профессии антрополог, и мне случалось ездить в экспедиции, хотя и не очень часто.) Я наблюдала со стороны, старалась сама в такие разговоры не встревать. Иногда, впрочем, приходилось рассказывать и самой, если этого требовал обычай, но женщины, с которыми я пыталась таким образом подружиться, быстро догадывались о моем притворстве, смущались и начинали вести себя настороженно.
Как правило, с мужчинами я чувствовала себя раскованнее: они совсем не жаждут чьих-то душевных излияний.
Тот интимный контакт между женщинами, о котором я говорю, не имеет сексуальной подоплеки: в такие отношения я вступала еще до того, как достигла подросткового возраста. Иногда случается продолжение в виде сердечных признаний (возможно, лживых) и каких-то ролевых игр. Возникает недолгое нервное возбуждение, которое может иногда сопровождаться возбуждением половым. Затем, как правило, следует взаимное отталкивание и отвращение.
Шарлин с омерзением рассказала мне про своего брата. Про того самого, который теперь служил на флоте. Как-то раз она искала дома кошку, зашла в комнату к брату, а он там занимался этим со своей подругой. Они даже не услышали, как она вошла.
По ее словам, они все время «шлепали».
Ты хочешь сказать, кровать скрипела? – уточнила я.
Нет, ответила она. Эта его штука, она шлепала, когда он ее вводил и выводил. Она была мерзкой. Тошнотворной.
И его задница, белая и голая, была вся в прыщах. Тошнотворная.
А я рассказала ей про Верну.
До того как мне исполнилось семь лет, мы с родителями жили в доме на две семьи. Тогда еще не знали слова «дуплекс», да и в любом случае дом не был поделен поровну. Бабушка Верны снимала комнаты в задней части, а мы – в передней. Дом был бедный, без всяких украшений, некрасивый, покрашенный в желтый цвет. В нашем маленьком городке о какой-то иерархии жилищ говорить не приходилось, но если бы такое деление существовало, наш дом оказался бы, наверное, между домами «еще приличными» и «никуда не годными». Я рассказываю о том, как обстояли дела еще до войны, в конце Великой депрессии (этого выражения мы, кажется, тоже не знали).
Мой отец служил учителем – то есть имел постоянную работу, но получал очень мало. В конце нашей улицы, ближе к окраине, селились уже те, кто не имел ни работы, ни денег. Бабушка Верны, по-видимому, что-то зарабатывала, поскольку с презрением отзывалась о людях, которые «сидят на пособии». Мама, помню, спорила с ней, впрочем без всякого успеха, доказывая, что «они в этом не виноваты». Нельзя сказать, что эти две соседки стали подругами, но они, по крайней мере, проявляли великодушие, когда вставал вопрос, чья очередь сушить белье на единственной веревке во дворе.
Молодую бабушку звали миссис Хоум. Иногда к ней в гости приезжал мужчина. Мама называла его «друг миссис Хоум».
«Ты не должна разговаривать с другом миссис Хоум».
Мне не разрешалось даже играть во дворе, когда он приезжал, так что шансов поговорить с ним не оставалось никаких. И вспомнить, как он выглядел, я не могу, хотя хорошо помню его машину – темно-синий «Форд V-8». Машины меня тогда очень интересовали – наверное, оттого, что у нас не было своей.
Затем появилась Верна.
Миссис Хоум называла ее своей внучкой, и у меня нет оснований ей не верить, однако я ни разу ничего не слышала о родителях Верны – о промежуточных звеньях между ней и бабушкой. Не знаю, привезла ли Верну сама бабушка, или ее доставил к нам бабушкин друг на своем «форде», но появилась она в то лето, когда я должна была пойти в школу. Когда эта девочка назвала мне свое имя, я тоже не помню: она не была общительной в обычном смысле этого слова, а я вряд ли спросила ее сама. Я сразу почувствовала к ней небывалую неприязнь. И сразу объявила маме, что ненавижу Верну. Мама ответила: «Да почему? Что она тебе сделала?»
Бедняжка.
Когда дети говорят «ненавижу», это может означать разные вещи. Например, что ребенок напуган. Не то чтобы ему угрожала реальная опасность или на него кто-то нападал, но вот я, к примеру, боялась мальчишек на велосипедах, которые вечно с жуткими воплями обгоняют тебя, когда ты мирно идешь по тротуару. Что касается таких случаев, как с Верной, то тут боишься не физического вреда, а, скорее, какого-то сглаза, воздействия темных сил. Такое же чувство в детские годы возникает при виде некоторых домов, или деревьев, или – очень часто – сырых погребов и темных глубоких кладовок.
Верна была выше и старше меня, хотя не помню, на сколько именно – года на два или три. Она была худая, вся какая-то узкая и с такой маленькой головой, что напоминала мне змею. Жидкие прямые волосы, черная челка закрывает лоб. Кожа на ее лице казалась мне унылой, как хлопанье нашей старой парусиновой палатки, и щеки ее надувались точно так же, как парусина на ветру. А глаза у нее косили.
Другие не замечали в ее внешности ничего неприятного. Моя мама называла ее миленькой, даже симпатичной (но звучало это как «Вот бедняжка! А могла бы быть симпатичной…»). И в ее поведении, с маминой точки зрения, не было ничего особенного: «Ну, она ведет себя так, словно ей меньше лет, чем на самом деле». Нет чтобы сказать прямо, что Верна не умеет ни читать, ни писать, ни прыгать через скакалку, ни играть в мяч, что голос у нее сиплый, монотонный и слова она произносит каждое по отдельности, словно куски предложений застревают у нее в горле.
Ее манеру постоянно мне надоедать, вмешиваться в мои игры в одиночестве нельзя назвать инфантильной – это было уже поведение подростка. Но такого подростка, который ничему не научился и назойливо пристает к людям, не понимая, что с ним никто не хочет иметь дела.
Дети, разумеется, ведут себя очень стереотипно: они отвергают всякого, кто выпадает из общих правил или совершает непредсказуемые поступки. А я, будучи единственным ребенком в семье, была еще и здорово избалована (хотя ругали меня тоже немало). Я была неуклюжая, не по годам развитая, робкая. Придумывала собственные ритуалы, имела множество антипатий. В Верне я ненавидела все, даже пластмассовую заколку, без конца выпадавшую у нее из волос, а особенно мятные леденцы с красными и зелеными полосками, которыми она меня все время пыталась угостить. Причем не просто предлагала, а совала эти леденцы прямо мне в рот, смеясь при этом своим дебильным отрывистым смехом. До сих пор терпеть не могу вкус мяты. И ее имя – Верна – тоже мне жутко не нравилось. Я знала, что оно значит «весенняя», но у меня возникали ассоциации не с молодой травой, венками полевых цветов и девушками в легких платьях, а с назойливым вкусом мяты, с чем-то зеленым и липким.
Не думаю, что маме на самом деле нравилась Верна. Но, как мне тогда казалось, из природного лицемерия или из желания меня позлить она притворялась, будто жалеет Верну, и просила вести себя с бедняжкой помягче. Сначала мама уверяла меня, что Верна долго у нас не пробудет и уже в конце летних каникул вернется туда, откуда приехала. Потом стало ясно: возвращаться ей некуда, и тогда мама успокаивала меня тем, что мы сами скоро отсюда переедем. Поэтому надо потерпеть и постараться быть добрее, осталось совсем недолго. (На самом деле прошел целый год, прежде чем мы переехали.) В конце концов, потеряв терпение, мама заявила, что разочаровалась во мне. Она и не подозревала, какая я злая.
– Ну как ты можешь винить ее за то, в чем она не виновата? Она же такой родилась!
На меня подобные уговоры не действовали. Человек более опытный в спорах возразил бы на моем месте, что ни в чем Верну не винит, а просто хочет, чтобы она держалась подальше. Но я ее винила, хотя и понимала: да, она такой родилась. И в этом отношении, что бы там ни говорила мама о моей злобе, я была дитя своего времени. При виде таких, как Верна, взрослые улыбались особой улыбкой: в ней сквозила благодарность судьбе за то, что они-то не такие, и безусловное чувство превосходства. С этим чувством они говорили о «чокнутых» или о тех, кому «не хватает в голове винтиков». И мне казалось, что и моя мама в душе точно такая же.
Я пошла в школу, Верна тоже. Однако ее отдали в специальный класс, который занимался в отдельном здании, стоявшем в глубине школьного двора, в углу. Это было первое школьное здание в городе, но краеведение в то время никого не интересовало, и его снесли через пару лет после нашего выпуска. Угол был огорожен забором, чтобы на переменах ученики спецклассов не смешивались с нами. В школу они приходили на полчаса позже нас, а уходили на полчаса раньше. Никто не собирался обижать их на переменах, но поскольку они все время висели на заборе и с любопытством смотрели во двор обычной школы, то, случалось, их пугали: понарошку набрасывались, кричали и размахивали палками. Я никогда даже близко не подходила к забору и вряд ли хоть раз видела Верну. Мне хватало ее присутствия дома.
Обычно Верна вставала возле угла нашего желтого дома, высматривая меня во дворе, а я притворялась, что не вижу ее. Потом она выходила во двор и занимала позицию на ступенях крыльца – в той части, где жили мы. Если мне нужно было войти в дом – в туалет или просто потому, что становилось холодно, – то я проходила мимо нее, при этом или я могла коснуться ее, или она меня.
Она была способна стоять на одном месте необыкновенно долго. Стоять и смотреть в одну точку – как правило, на меня.
У нас во дворе висели качели – просто дощечка, привязанная веревками к ветви старого клена. Качаться на них можно было, сидя лицом либо к дому, либо к улице. Это означало, что мне приходилось либо видеть Верну, либо знать, что она таращится мне в спину, а может подойти и толкнуть. Немного погодя она и стала так поступать. Всегда толкала меня исподтишка, но это было еще не самое худшее. Гораздо хуже для меня было то, что ее пальцы касались моей спины. Правда, через пальто и другую одежду, но касались – и я чувствовала эти пальцы, эти холодные хоботки насекомых.
У меня было еще одно увлечение: делать дома из листьев. Я сгребала в кучи листья, опавшие с клена, на котором висели качели, набирала охапки, а потом раскладывала их на земле в форме плана дома. Вот тут у меня гостиная, тут кухня, вот эта большая и мягкая куча листьев – кровать в спальне и так далее. Я не сама придумала эту игру: такие же дома из листьев, только больше размером и иногда даже как бы с мебелью, выкладывали на переменах девочки на школьной игровой площадке. Занимались этим до тех пор, пока дворник не сгреб все листья и не сжег.
Сперва Верна просто наблюдала за тем, что я делаю, косила на меня своими глазами, и выражение ее лица казалось мне заносчивым (хотя с чего бы ей чувствовать себя выше меня?) и озадаченным. Потом в один прекрасный момент подошла поближе и тоже сгребла кучу листьев в охапку. Они у нее, разумеется, рассыпались, она ведь была ужасно неуклюжая. Сгребла она их не оттуда, где они лежали просто так, а из стены моего дома. Подняла, сделала несколько шагов и вывалила всю кучу прямо посреди одной из моих аккуратных комнаток.
Я крикнула: «Прекрати!» Она наклонилась, чтобы собрать листья, но не смогла их удержать и только разбросала повсюду, а потом принялась тупо пинать ногами. Я кричала «Перестань!», но она не слушалась, даже, наоборот, принимала эти крики за поощрение. Тогда я нагнулась, выставив голову вперед, подбежала и боднула ее в живот. Шапочки я не носила, так что мои волосы соприкоснулись с ее шерстяным пальто, и мне показалось, что я дотронулась до колючей шерсти, растущей на огромном и твердом животе. С жалобным воплем я взлетела вверх по ступенькам. Когда мама услышала, что произошло, она разозлила меня еще больше:
– Ну она же всего лишь хочет поиграть. Только не умеет.
На следующий год мы жили уже в другом коттедже, и у меня никогда не возникало желания хотя бы пройти мимо старого дома, напоминавшего о Верне, – дома, который словно впитал всю ее узость, коварство, все ее угрожающее косоглазие. Даже желтая краска на нем казалась мне оскорбительной, и входная дверь, расположенная не по центру фасада, усугубляла ощущение уродливости.
Наш новый дом находился всего в трех кварталах от прежнего места, ближе к школе. Но я тогда плохо представляла себе размеры и план нашего городка и думала, что, переехав на новое место, навсегда избавилась от Верны. В том, что это не так, я убедилась, когда мы с подругой столкнулись с Верной на главной улице – нас послали туда за покупками. Я прошла мимо, не поднимая головы, но услышала ее отрывистый смех, обозначавший то ли приветствие, то ли узнавание.
Подруга сказала ужасную вещь:
– А я думала, она твоя сестра.
– Что-о?
– Ну, вы же жили в одном доме, вот я и подумала, что вы родственницы. Типа двоюродные. А вы не двоюродные?
– Нет!
Старое школьное здание, где проводились занятия для спецклассов, было приговорено к сносу, и учеников перевели оттуда в Библейскую часовню, которую арендовал на выходные муниципалитет. Эта часовня стояла почти что рядом с нашим новым домом, где я жила с мамой и папой: надо было только перейти улицу и свернуть за угол. Верна могла добраться до школы несколькими путями, но нет – она ходила мимо нас. А наш дом отстоял от тротуара не больше чем на метр – то есть тень Верны буквально падала на ступеньки крыльца. Если бы она захотела, то могла бы ударами ноги набросать гальку на газон, а если бы шторы не были задернуты – заглянуть в гостиную и одну из комнат.
Часы занятий в спецклассах изменили, и теперь они совпадали с расписанием обычной школы, по крайней мере по утрам (заканчивали они все равно раньше). Поскольку учились они в Библейской часовне, администрации не нужно было заботиться о том, чтобы мы с ними не встречались по дороге в школу. Но для меня это значило, что я могла в любой день столкнуться с Верной прямо у дома. Выходя на улицу, я первым делом смотрела в ту сторону, откуда она могла появиться, и если видела ее, то тут же ныряла обратно – как будто забыла какую-нибудь вещь, или туфля натирает мне ногу и надо наложить пластырь, или ленточка у меня в волосах затянута слишком туго. Я теперь была не так глупа, чтобы рассказать маме про Верну и услышать в ответ:
– Ну чего ты боишься? Она что, съест тебя?
Чего я боялась? Заражения, инфекции? Но Верна была совершенно здорова. И едва ли она собиралась напасть на меня, чтобы поколотить или вырвать клок волос. Однако только взрослые по своей глупости могли считать, что у Верны нет сил. Точнее, силы, направленной лично против меня. Она избрала меня своей целью, – по крайней мере так считала я сама. Между нами словно бы установилось некое притяжение, которое невозможно описать и от которого нельзя избавиться. Некое сцепление, как между возлюбленными, хотя с моей стороны это была чистейшая ненависть.
Я ненавидела ее так, как другие ненавидят змей, гусениц, мышей или мокриц. Без всякой разумной причины. Вовсе не из-за вреда, который она могла бы причинить, а просто потому, что от одного ее вида меня выворачивало наизнанку и не хотелось жить.
Когда я рассказала про нее Шарлин, разговор так захватил нас, что мы прерывались только на сон или купание. Верна не была таким серьезным и омерзительным объектом, как прыщавая задница брата Шарлин. Помню, я восклицала: Верна такая мерзкая, что ее нельзя описать. Но все-таки, по-видимому, мне удалось хорошо описать и ее, и те чувства, которые она у меня вызывала, поскольку однажды, ближе к концу нашей двухнедельной смены, Шарлин ворвалась в столовую, с лицом, перекошенным от ужаса, и в страшном возбуждении:
– Она здесь! Здесь! Эта девочка! Эта жуткая девочка! Верна! Она здесь.
Обед уже закончился. Мы ставили свои тарелки и кружки на полку для грязной посуды, откуда их забирали для мытья дежурные по кухне. После этого полагалось построиться и идти в кафетерий, открывавшийся в час дня. Шарлин только забежала в спальный корпус за деньгами. Она росла в богатой семье – ее папа был владельцем бюро ритуальных услуг – и потому беспечно относилась к деньгам, держала их в наволочке подушки. Я же свои всегда хранила при себе, расставаясь с кошельком только на время купания. Те из нас, кто мог позволить себе потратить деньги в кафетерии, обычно отправлялись туда только затем, чтобы убедиться: десерты, как и прежде, совершенно отвратительны. Тем не менее мы ходили туда регулярно и ели все те же пудинги из тапиоки, потерявшие форму печеные яблоки, липкий заварной крем. Когда я увидела перекошенное лицо Шарлин, то сначала решила, что у нее украли деньги. Но дело было не в этом: выражение ужаса у нее на лице сочеталось с радостным возбуждением.
Верна? Как могла здесь оказаться Верна? Ерунда какая-то.
Судя по всему, была пятница. Нам оставалось провести в лагере всего два дня. Как выяснилось, «специальных» – так мы звали учеников спецклассов – привезли сюда, чтобы они провели с нами последний уик-энд. Не всех – наверное, человек двадцать, не больше, – и не все они были из моего городка. Когда Шарлин рассказывала мне все это, раздался свисток, и вожатая Арва, запрыгнув на скамью, обратилась к нам с речью.
Она призвала нас сделать все возможное, чтобы наши гости – точнее, наши товарищи – почувствовали себя тут как дома. Они привезли с собой палатки, и у них будет свой вожатый. Однако есть, купаться, играть, а также посещать утреннюю беседу они будут вместе с нами. Я уверена, заключила она с хорошо знакомой нам угрозой в голосе, что вы постараетесь завести себе среди них новых друзей.
Какое-то время ушло на установку палаток и размещение вещей вновь прибывших. Некоторые из них заниматься этим не захотели и отправились гулять по лагерю; на них накричали и вернули назад. Поскольку у нас было свободное время, «час отдыха», то мы валялись на своих кроватях и поглощали набранные в кафетерии шоколадки, лакричные конфеты и ириски.
Шарлин продолжала твердить:
– Нет, ты понимаешь? Понимаешь? Она здесь. Этого же просто не может быть. Как ты думаешь, она тебя преследует?
– Может быть, – отозвалась я.
– И что теперь, я тебя все время должна прятать, как в кафетерии?
Когда мы стояли в очереди в кафетерии, я опустила голову пониже и поставила Шарлин между собой и «специальными», толпившимися неподалеку. Верну я узнала с первого взгляда, хотя та стояла к нам спиной. Узнала ее свисающую змеиную голову.
– Надо подумать, как нам тебя замаскировать.
По моим рассказам у Шарлин сложилось впечатление, что Верна меня постоянно преследует. И мне действительно казалось, что так оно и есть, хотя преследование было не таким явным и открытым, как я описала. Но пусть Шарлин воображает что хочет: тогда история будет более захватывающей.
Верна не сразу меня обнаружила из-за хитрых маневров, которые предпринимали мы с Шарлин, а может, и оттого, что была ошеломлена, как и все «специальные», не понимая, где она и что тут делает. Вскоре их увели на урок плавания в дальний конец пляжа.
Во время ужина они вошли строем в то время, когда мы пели:
- Чем чаще ходим вместе, все вместе, все вместе,
- Чем чаще ходим вместе,
- Тем радостнее жить…
Затем их разделили и рассадили между нами. У каждой из них на груди была бумажка с именем и фамилией. Напротив меня посадили девочку по имени Мэри Эллен – не помню фамилии, она была не из моего города. Это меня обрадовало, но ненадолго: за соседним столом я увидела Верну. Она оказалась гораздо выше остальных, но, слава богу, сидела лицом в ту же сторону, что и я, и во время ужина меня не заметила.
После еды, когда мы относили грязную посуду, я пригибалась как можно ниже и ни разу не посмотрела в том направлении, где была Верна, но тем не менее почувствовала, что ее взгляд остановился на мне и она меня узнала: улыбнулась своей кривой улыбочкой и отрывисто засмеялась.
– Она тебя увидела, – сказала Шарлин. – Не смотри туда. Не смотри, слышишь? Я тебя закрою. Давай, иди вперед! Ну же!
– Она туда же идет?
– Нет. Просто стоит сзади. Стоит и смотрит на тебя.
– Улыбается?
– Типа того.
– Мне нельзя на нее смотреть. Меня стошнит.
Преследовала ли она меня в оставшиеся полтора дня? Мы с Шарлин считали, что да, хотя Верна ни разу не подошла близко. Преследовать. Это слово звучало по-взрослому и даже имело какой-то юридический оттенок. Мы были все время настороже, словно за нами – за мной – кто-то ходил по пятам. Мы фиксировали местоположение Верны, и Шарлин докладывала мне о том, что та делает и какое у нее выражение лица. Несколько раз я решалась посмотреть на нее – в те моменты, когда Шарлин говорила: «Сейчас можно. Она не заметит».
Верна все еще ходила как в воду опущенная, словно чувствовала себя брошенной на произвол судьбы и, подобно остальным «специальным», не до конца понимала, что здесь делает. Некоторые из них – хотя Верны в их числе не было – без разрешения отправились в рощу на высоком берегу озера, где росли сосны, кедры и тополя. Другие пытались по проселочной дороге дойти до шоссе. После этого вожатые созвали общее собрание, и нам велели следить за нашими новыми друзьями, которые еще не так хорошо ориентируются на местности, как мы. Шарлин при этих словах пихнула меня локтем в бок. Растерянности Верны она, разумеется, не замечала и продолжала рассказывать мне о том, какое у той хитрое и злое выражение лица, какой угрожающий вид. Возможно, она была права. Возможно, для Верны моя новая подруга и телохранительница, совершенно ей чужая, стала воплощением опасности, которую таил в себе этот непонятный лагерь, – и это ее злило.
– А про руки ее ты мне не говорила, – заметила Шарлин.
– А что с ними такое?
– У нее пальцы длиннющие. Может запросто охватить твою шею и задушить. Точно может! Прикинь, каково с ней спать в одной палатке.
Я сказала, что это было бы… жутко.
– А эти дебилы, которые с ней спят, ничего не замечают.
Атмосфера в лагере в последние дни сильно изменилась, хотя внешне ничего особенного не происходило. Сигналы к приему пищи подавали ударами гонга возле столовой все в то же время, и еда не стала лучше или хуже. В те же часы начинались и заканчивались отдых, игры, купание. В обычном режиме работал кафетерий, и нас, как всегда, сгоняли для «беседы». Но проповедь слушали совсем невнимательно, в воздухе витало беспокойство. Это было заметно даже по вожатым, которые не сразу обращались к нам с замечаниями или, наоборот, словами поощрения, как раньше, а замирали на секунду, словно пытаясь вспомнить, что в таких случаях надо сказать. И все это началось после приезда «специальных». Само их присутствие изменило атмосферу в лагере. До них тут были правила, свои будни и праздники, радости и горести, а после их приезда весь этот уклад жизни нарушился и оказался каким-то непрочным, временным. Ненастоящим.
В какой-то мере это происходило оттого, что мы смотрели на «специальных» и думали: если вот эти считаются «воспитанниками», то кто же мы такие? Но была и другая причина: кончалась смена, и мы понимали, что скоро все здешние правила и привычки станут не нужны, скоро о нас будут заботиться только наши родители, начнется прежняя жизнь, а вожатые превратятся в обычных людей, даже не учителей. Мы как будто жили на сцене, с которой скоро уберут декорации, а с ними исчезнут и все возникшие за последние две недели дружбы, ненависти и соперничества. Странно – неужели прошло всего две недели?
Мы не могли выразить это в словах, но у нас накапливалась усталость, а вместе с ней – дурное настроение, и даже погода выражала эти чувства. Нельзя сказать, что все две недели были жаркими и солнечными, но у большинства из нас осталось именно такое впечатление. А теперь, воскресным утром, изменилась даже погода. В этот день, в отличие от буден, вместо «беседы» полагалась служба на открытом воздухе. Было пасмурно, но по-прежнему жарко. Более того, жара постепенно нарастала, чувствовалось, что подступает гроза. Но при этом все было спокойно. Вожатые и даже священник, приезжавший по воскресеньям из ближайшего города, время от времени с опаской поглядывали на небо.
Упало несколько капель. Служба подходила к концу, а гроза все не начиналась. В сплошной облачности возникли просветы, – это еще не означало, что выйдет солнце, но, по крайней мере, этого было достаточно, чтобы не отменили наше последнее купание. Обеда уже не полагалось: кухню закрывали сразу после завтрака. Ставни на кафетерии тоже были заперты. Вскоре после полудня начнут подъезжать родители, чтобы забрать детей домой, а за «специальными» придет автобус. Многие из нас уже собрали вещи, сняли постельное белье и сложили в изголовье кроватей грубые коричневые одеяла, казавшиеся на ощупь холодными и влажными.
Мы оживленно переговаривались, надевая купальники, но, несмотря на всю суету, спальный корпус казался мрачным: он словно прощался с нами.
То же впечатление производил пляж. Песка стало как будто меньше, а камней – больше. И песок был каким-то серым. Вода казалась холодной, хотя на самом деле была достаточно теплой. Желание купаться куда-то пропало, и мы просто бесцельно бродили по берегу. Вожатые, надзиравшие за купанием, – Полина и немолодая женщина, которая отвечала за «специальных», – принялись нас подбадривать.
– Эй, что вы там ждете? Последний раз этим летом!
Среди нас были хорошие пловчихи, которые сразу устремлялись к надувному плоту, обозначавшему границу разрешенной для купания зоны. Но были и те, кто хоть и плавал неплохо, как мы с Шарлин, но до плота доплывал только раз – чтобы доказать, что может плавать на глубине, а потом сразу возвращался на мелководье. Полина всегда держалась возле плота: оттуда она лучше видела, все ли зашли в воду, и в случае чего могла быстрее прийти на помощь. В тот день, однако, искупаться решались не все, и Полина сначала подбадривала девочек, а потом разозлилась и потребовала, чтобы все немедленно лезли в воду. Сама она оставалась у плота и пересмеивалась там с нашими лучшими пловчихами. Другие девочки, одолев несколько метров, вставали на ноги и принимались брызгаться или кувыркаться в воде. Плавать всерьез никому не хотелось. Воспитательница, надзиравшая за «специальными», стояла по пояс в воде, а верхняя часть ее купальника была сухой. Но глубже ей забираться и не требовалось, потому что «специальные» решались зайти в воду только по колено. Воспитательница легкими движениями рук плескала воду на своих подопечных и, смеясь, убеждала их, что купаться – это здорово.
Мы с Шарлин зашли в воду по грудь. Как несерьезные пловчихи, мы могли подолгу кувыркаться в воде, колотить по ней руками и ногами, лежа то на спине, то на животе, до тех пор, пока кто-нибудь из взрослых не приказывал нам прекратить валять дурака. Еще мы соревновались, кто дольше пробудет под водой с открытыми глазами. Или старались незаметно подобраться сзади и вскочить одна другой на спину. Вокруг было полно таких же хохочущих, визжащих и бесящихся девчонок.
Пока мы купались, начали подъезжать родители. Им не хотелось зря терять время, и они выкрикивали с берега имена своих чад. Это создавало дополнительный шум и суматоху.
– Смотри, смотри! – закричала вдруг Шарлин.
Даже не закричала, а выплюнула эти слова, поскольку секунду назад я удерживала ее под водой и она выскочила оттуда, отплевываясь.
Я посмотрела в ту сторону, куда она показывала, и увидела, что к нам плывет Верна. На ней была голубая купальная шапочка, она колотила по воде своими длинными руками и улыбалась так, словно ей вдруг вернули на меня законные права.
В последующие годы я не поддерживала отношений с Шарлин. Даже не помню, как мы с ней распрощались. Сказали друг другу хотя бы «до свидания»? Мне помнится, что наши мамы и папы приехали почти одновременно, нас запихнули в машины – а что мы могли сделать? – и повезли в прежнюю жизнь. Машина родителей Шарлин наверняка не была такой шумной развалюхой, как та, которую приобрели наконец мои предки. Но даже если это было не так, мы и не догадались бы познакомить своих родственников. Все вокруг, и мы в том числе, торопились поскорей выехать из этой суматохи, где одни не могли найти свои вещи, другие – родителей, а третьи садились в автобус.
Много лет спустя я случайно увидела свадебную фотографию Шарлин. В те времена они все еще регулярно появлялись в газетах, выходивших не только в маленьких, но и в крупных городах. Я натолкнулась на ее фото в торонтской газете, которую просматривала, ожидая подругу в кафе на Блур-стрит{76}.
Свадьба состоялась в городе Гелфе. Жених был родом из Торонто и окончил Осгуд-холл. Очень высокий – или Шарлин оказалась маленького роста? Во всяком случае, она едва доставала ему до плеча, хотя волосы ее были уложены в пышную прическу, напоминающую шлем. Эта шевелюра делала ее лицо мелким, как бы сплюснутым. Глаза она сильно накрасила, в духе модного тогда фильма «Клеопатра»{77}, а губы казались бледными. Все это выглядело нелепо, но, безусловно, в духе времени. От хранившегося в моей памяти детского образа остался только задорно выпяченный подбородок.
Невеста, говорилось в газете, окончила колледж Святой Хильды в Торонто.
Значит, она жила здесь, в Торонто, и ходила в колледж Святой Хильды в то время, когда я училась в университете. Мы проходили по одним и тем же улицам в одно и то же время, направляясь каждая в свой кампус. И ни разу не встретились. Вряд ли она, заметив и узнав меня, решила бы не подавать виду. И я не стала бы ее избегать. Хотя, конечно, я взглянула бы на нее несколько свысока, узнав, что она учится в этом колледже. В моем кругу было принято считать, что это заведение для будущих домохозяек.
Я училась уже на старших курсах и занималась антропологией. Решила никогда не выходить замуж, хотя это ограничение не запрещало мне иметь любовников. Носила очень длинные волосы – мой вид, как и внешность моих друзей, был явным предвестием эпохи хиппи. Воспоминания детства стирались из памяти, казались далекими и не столь существенными, чем кажутся сейчас.
Я могла бы написать Шарлин на адрес ее родителей в Гелфе – он был в газете, – но не стала этого делать. Мне тогда казалось, что поздравлять женщину со вступлением в брак – это верх лицемерия.
Она написала мне сама – через пятнадцать лет. Письмо пришло на адрес моего издательства.
Дорогая моя подружка Марлин!
Как же я была счастлива, когда увидела твое имя в журнале «Маклинз»{78}! И как была поражена, узнав, что ты написала книгу. Я пока еще не успела ее купить, потому что мы уезжали в отпуск, но обязательно это сделаю в ближайшее время. Я просматривала журналы, которые накопились за время нашего отсутствия, и увидела твою потрясающую фотографию и замечательную рецензию. И решила, что надо тебе написать и поздравить.
Ты, наверное, замужем, а девичью фамилию используешь как псевдоним? Есть ли у тебя семья? Напиши мне и расскажи о себе. У меня, к сожалению, нет детей, но я много занимаюсь разной волонтерской работой, благотворительностью, садоводством, а еще мы с Китом (мужем) ходим на яхте. В общем, скучать некогда. Я работаю в Библиотечном комитете, так что пусть только библиотеки попробуют не заказать твою книгу, я им покажу!
Поздравляю еще раз! Я, конечно, была удивлена, но все-таки всегда подозревала, что ты совершишь нечто необыкновенное, специальное.
Однако я и в этот раз не наладила с ней контакта. Не было смысла. Поначалу я не обратила внимания на слово «специальный» в самом конце письма, но потом воспоминание об этом заставило меня вздрогнуть. Да нет, ерунда, – сказала я себе тогда, – она ничего такого не имела в виду. Мне и сейчас так кажется.
Упомянутая ею книга выросла из моей первой, начатой и брошенной, диссертации. Я не остановилась и написала другую диссертацию, но позже вернулась к прежнему тексту – уже для самой себя. Потом поучаствовала еще в паре коллективных монографий, как требовала карьера, однако над этой книгой работала одна, и именно она принесла мне некоторую известность за пределами научных кругов (и, разумеется, недовольство этих самых кругов). Сейчас ее уже нигде не достать, все распродано. Называлась она «Идиоты и идолы», – в наше время такое ни одному автору и в голову не придет, да и тогда это название заставило понервничать моих издателей, хотя они и признавали, что оно очень броское и сразу привлекает внимание.
Я пыталась исследовать отношение людей разных культур – слово «примитивные» применительно к этим культурам уже никто не смел использовать – к тем, кто выделяется в умственном или физическом плане. Слова «дефективный», «неполноценный», «умственно отсталый», разумеется, также отправлены в мусорную корзину, и, может быть, правильно – не только потому, что подобные выражения утверждают превосходство и выдают привычное бессердечие говорящего, но и потому, что просто неверно определяют свой объект. Они не берут в расчет всего того, что есть в «специальных» людях примечательного, пугающего или просто впечатляющего. А мне было интересно обнаружить в отношении к ним, наряду с презрением, еще и восхищение, которое заставляет приписывать им некие способности – священные, магические, опасные для общества или, наоборот, ценные для него. Я привлекала как исторический, так и современный материал, в том числе поэзию, художественную прозу и, разумеется, религиозные практики. Коллеги даже критиковали меня за излишнюю литературность и за то, что я добывала материал по большей части из книг. Но в последнем я была не виновата: мне не удалось получить грант на экспедицию.
Разумеется, я понимала, откуда у меня возник интерес к этой теме, – и о том же, возможно, догадывалась и Шарлин. Но странно – до чего далекой и маловажной казалась теперь эта причина, эта начальная точка моих размышлений. Как, впрочем, и все, что имело отношение к детству. То ли дело взрослая жизнь. Повзрослев, чувствуешь себя в безопасности.
«Используешь девичью фамилию», – написала Шарлин. Давненько не слышала я этого словосочетания. От «девичьей фамилии» недалеко и до «девицы» – слова, звучащего так целомудренно и так грустно. Впрочем, мне оно совершенно не подходит. К тому времени, когда Шарлин вышла замуж, я уже не была девственницей, да и она, наверное, тоже. Не могу сказать, что у меня в жизни было много любовников, и даже любовниками большинство из них не назовешь. Как многие женщины моего возраста и социального положения, не прожившие жизнь в моногамном браке, я знаю число своих возлюбленных. Шестнадцать. Я понимаю, что многие женщины достигают этого числа еще до двадцати лет, если не раньше. (Когда я получила письмо от Шарлин, то цифра, само собой, была поменьше. Насколько – сейчас лень считать, да и незачем.) Из них по-настоящему дороги мне были только трое, все из начала списка. Что я имею в виду, когда говорю «дороги», – это то, что с этими тремя… нет, пожалуй, только с двумя; третий значил для меня гораздо больше, чем я для него. Так вот, только двое вызывали во мне желание раствориться в партнере, отдать ему не только тело, но и всю жизнь, чтобы оказаться в полной безопасности.
Я с трудом сдерживала такие желания.
Видимо, была не совсем убеждена в такой безопасности.
А совсем недавно пришло еще одно письмо. Его переслали из университета, в котором я преподавала до того, как выйти на пенсию. Оно дожидалось меня целый месяц, пока я разъезжала по Патагонии (в последнее время я стала заядлой путешественницей).
Напечатано на компьютере, – впрочем, за это автор сразу извинялся.
«Почерк у меня ужасающий, – объяснял он и продолжал, представившись: – Муж вашей старой школьной приятельницы Шарлин». Он очень, очень извиняется, что вынужден сообщить мне печальные известия. Шарлин лежит в больнице Принцессы Маргариты в Торонто. У нее рак, начавшийся с легких, а потом перешедший на печень. К сожалению, она всю жизнь курила. Жить ей осталось недолго. Про меня, свою подругу детства, она вспоминала нечасто, но если вспоминала, то неизменно восхищалась моими «примечательными свершениями». Она очень высоко ценила меня и захотела повидаться в конце жизни. И просила мужа привезти меня к ней. Должно быть, ей были очень дороги какие-то детские воспоминания, предполагал он. Детские привязанности – они такие сильные.
Ну что ж, подумала я, теперь она, должно быть, уже умерла.
Но если умерла, – соображала я дальше, – то не будет ничего страшного, если я съезжу в больницу и осведомлюсь о ней. Тогда моя совесть – или как это называют – будет спокойна. Смогу написать ему письмо: так, мол, и так, была в отъезде, но как только вернулась, тут же поехала к ней.
Нет. Лучше ничего не писать. Он потом еще заявится с благодарностями. И слово «приятельница» мне не понравилось. Равно как не понравилось, несколько по-другому, выражение «примечательные свершения».
Больница Принцессы Маргариты находится совсем рядом с моим многоквартирным домом. День, когда я направилась туда, был ясным и солнечным. Звонить мне почему-то не захотелось. Наверное, старалась уверить себя, что делаю все возможное.
В регистратуре сказали, что Шарлин жива. Спросили, хочу ли я с ней повидаться, и я не смогла ответить «нет».
Поднимаясь на лифте, я думала: а не повернуть ли назад, не дойдя до стола дежурной медсестры в отделении? Или, может, просто развернуться на триста шестьдесят градусов – то есть поехать вниз на том же лифте. Регистраторша внизу ничего не заметит. Она забыла о моем существовании, как только заговорила со следующим в очереди. А даже если и не забыла, что с того?
Но мне же самой будет стыдно, – убеждала я себя. Не столько за бесчувственность, сколько за трусость.
Я подошла к столу дежурной сестры, и та назвала мне номер палаты.
Это оказалась отдельная палата, совсем крошечная, где не было ни внушительных медицинских приборов, ни цветов. Шарлин я увидела не сразу: в тот момент, когда я вошла, над ней склонилась медсестра. Точнее, так: сестра склонилась над кроватью, на которой, казалось, были сложены простыни и одеяла, но не было человека. «Увеличенная печень», – вспомнила я и пожалела, что не убежала из больницы.
Сестра выпрямилась, обернулась и улыбнулась. Это была пухлая мулатка с очень мелодичным голосом – должно быть, из Вест-Индии.
– Вы, наверное, та самая Марлин? – спросила она.
Произнесла так, словно ей нравилось мое имя.
– Она вас так хотела увидеть. Да вы подойдите поближе!
Я послушно приблизилась и взглянула на отечное, раздутое тело, заострившиеся черты лица, цыплячью шею – до того тощую, что больничная пижама казалась на много размеров больше. Завитки волос – она все еще оставалась шатенкой – крошечные, не длиннее половины сантиметра. Ничего похожего на Шарлин.