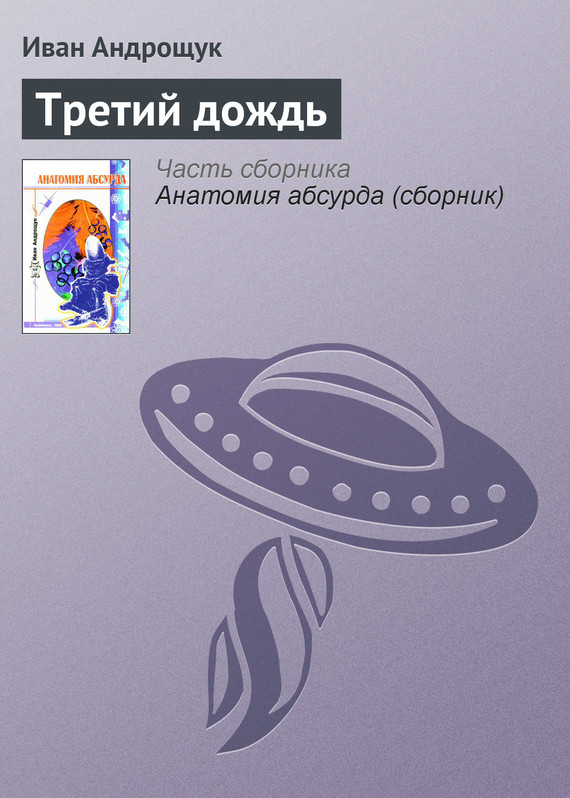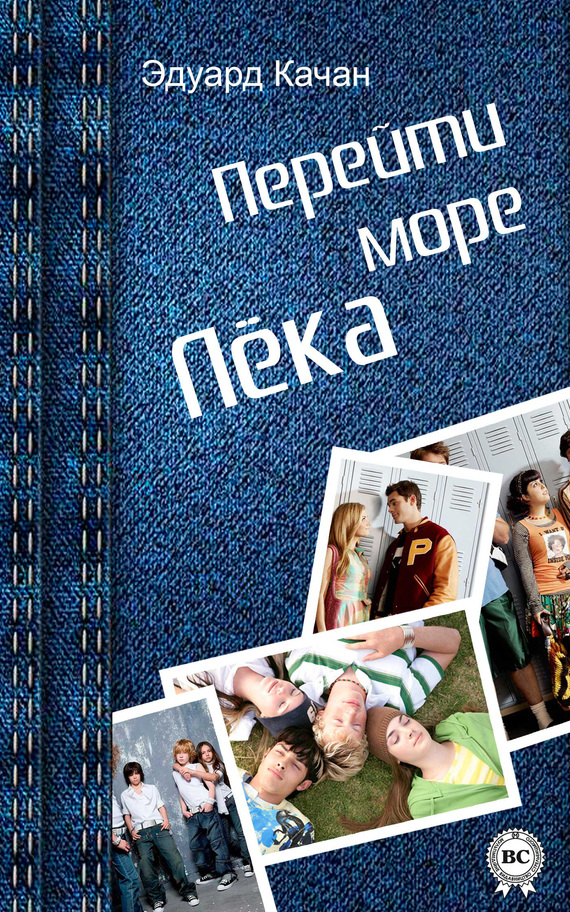Слишком много счастья (сборник) Манро Элис

TOO MUCH HAPPINES
Copyright © 2009 by Alice Munro
All rights reserved
© А. Д. Степанов, перевод, примечания, 2014
© ООО «Издательская Группа Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®
Измерения
Дори добиралась на трех автобусах: сначала до Кинкардина, оттуда на лондонском и еще в Лондоне{1} – на городском. Она отправилась воскресным утром в девять часов, но преодолела весь путь – чуть более сотни миль – только к двум часам дня. Много времени она провела в ожидании и насиделась не только в автобусах, но и на остановках. Хотя, вообще-то, Дори против этого ничего не имела: всю неделю на работе присесть не удавалось.
Она служила горничной в мотеле «Голубая ель». Мыла ванные комнаты, меняла постельное белье, пылесосила ковры, протирала зеркала. Работа ей нравилась тем, что прогоняла лишние мысли и после нее можно было быстро заснуть. Убирая номера, Дори редко сталкивалась с удручающим беспорядком, хотя ей случалось слышать от других горничных довольно неприятные истории. Все остальные горничные были старше и в один голос твердили, что ей надо поискать занятие получше, с перспективой на будущее. Говорили, что, пока она еще молода и выглядит неплохо, надо выучиться чему-нибудь и потом сидеть за столом в офисе. Но Дори и это место устраивало. Общаться с людьми ей не хотелось.
Никто в мотеле не знал о том, что произошло. А если и знали, то не подавали виду. Могли знать: ведь фотография Дори тогда появилась в газете. Это был тот самый снимок, который сделал он: Дори со всеми тремя детьми. Новорожденный Демитри у нее на руках, а Барбара Энн и Саша смотрят на малыша. В то время она была натуральной шатенкой, с длинными вьющимися волосами, как ему нравилось. Выражение лица – нежное и застенчивое и тоже не столько свойственное ей, сколько предназначавшееся ему.
После случившегося Дори осветлила волосы и сделала короткую стрижку. Она сильно похудела. Сменила имя, точнее, стала представляться своим вторым именем – Флёр. Ну и работу ей помогли подыскать подальше от тех мест, где она жила раньше.
В такую поездку, как сейчас, Дори отправлялась уже в третий раз. В первые два он отказывался от встречи. Если бы и сейчас отказался, она перестала бы пытаться. И даже если бы он согласился встретиться, Дори, наверное, взяла бы большую паузу перед следующей встречей. Тут важно не переборщить. Хотя она и сама толком не знала, как поступить.
В первом автобусе ей было спокойно. Просто ехала себе и рассматривала пейзажи за окном. Она выросла на берегу океана, где весна всякий раз сменяла зиму, а тут вслед за зимой почти сразу приходит лето. Еще месяц назад лежал снег, а теперь так тепло, что можно носить одежду с короткими рукавами. По полям разлились полосы ослепительно сверкающей воды, и солнце мелькает в еще голых ветвях.
Однако, пересев во второй автобус, Дори начала нервничать и невольно думать, не едет ли кто-нибудь из пассажирок туда же, куда и она? В автобусе были одни только женщины, в большинстве весьма прилично одетые. Наверное, специально оделись так, словно собрались в церковь? Те, что постарше, выглядели как прихожанки церквей, куда строгими правилами предписано приходить в юбке, чулках и шляпке определенного фасона. А те, что помоложе, как будто принадлежали к общинам, позволяющим женщине надеть в церковь и брючный костюм, и сережки и сделать прическу.
Дори на их фоне выделялась. За полтора года работы в мотеле она не купила себе ни одной новой вещи. На службе носила гостиничную форму, в остальное время – джинсы. К макияжу она так и не привыкла: раньше он не разрешал, а теперь было ни к чему. Короткие взъерошенные волосы цвета спелой кукурузы не очень шли к ее исхудавшему лицу, но Дори было все равно.
В третьем автобусе она села у окна и постаралась успокоиться, читая вывески и рекламные плакаты. У нее был один трюк, с помощью которого можно заставить себя ни о чем не думать: надо выхватить наугад какое-нибудь слово и начать складывать из его букв другие слова. «Кофейня», например, превращалась в «фею», а затем в «фон» или «фен»; в слове «магазин» таились «маг» и «миг» и еще… секундочку… еще «зима». Слов становилось особенно много на выезде из города: автобус проезжал мимо билбордов, гигантских магазинов, парковок. Попадались даже рекламные воздушные шары, привязанные к крышам.
Дори не рассказала миссис Сэндс про две прошлые поездки. Наверное, не надо говорить и про эту, последнюю. Они беседовали по понедельникам, во второй половине дня, и в последнее время миссис Сэндс говорила, что дела идут на поправку, хотя раньше только повторяла, что нужно подождать и не стоит торопить события. Теперь она говорила, что Дори постепенно начинает восстанавливать силы.
– Я понимаю, что вам до смерти надоело слышать одно и то же, – заметила она. – Но что я могу поделать, если все так и есть.
Миссис Сэндс самой резануло слух слово «смерть», но она решила не усугублять свою неловкость извинениями.
Когда Дори исполнилось шестнадцать – а это было семь лет назад, – она каждый день после школы ходила к матери в больницу. Мама перенесла операцию – как говорили, серьезную и опасную, – и теперь ей был прописан постельный режим. А Ллойд работал санитаром в отделении. У него нашлось много общего с матерью Дори: оба в молодости хипповали (хотя Ллойд немного моложе мамы), и потому всякий раз, когда выпадала свободная минутка, Ллойд заходил к ней в палату поболтать про концерты, про марши протеста, в которых они оба участвовали, про знакомых обалденных чуваков, про кислотные трипы и тому подобное.
Ллойд пользовался у больных большой популярностью, потому что все время шутил и хорошо делал массаж. Приземистый, коренастый, широкоплечий, он говорил так внушительно, что его иногда принимали за доктора. (Кстати, вряд ли ему это нравилось: он считал, что большинство лекарств – обман, а доктора – кретины.) Еще у него была очень нежная розовая кожа, светлые волосы и смелый взгляд.
Однажды он поцеловал Дори, когда они вместе ехали в лифте, и сказал, что она похожа на цветок в пустыне. Потом засмеялся и спросил: «Ну что, здорово сказал?»
– Да ты поэт, хоть сам того не знаешь!{2} – ответила Дори, чтобы показать, как хорошо к нему относится.
Вскоре мама скоропостижно умерла от закупорки сосуда. У нее было много подруг, которые охотно взяли бы девочку к себе, и у одной из них Дори недолго пожила, но в конце концов предпочла нового друга – Ллойда. К своему следующему дню рождения она была уже беременна, а затем они поженились. Оказалось, что Ллойд никогда раньше не был женат, хотя у него имелось двое детей, про которых он почти ничего не знал. Впрочем, к тому времени его дети должны были уже давно вырасти. С годами жизненная философия Ллойда изменилась: теперь он проповедовал крепкий брак, постоянство и выступал против предупреждения беременности. Он решил уехать с полуострова Сечелт в Британской Колумбии, где они жили, потому что там было слишком много людей из его прежней жизни – и друзей, и любовниц. И они с Дори переехали на другой конец страны – в маленький городок, который выбрали на карте просто по названию: Майлдмэй. Но и в самом городке жить не стали, а сняли дом в деревне поблизости. Ллойд нанялся на фабрику мороженого. Устроили вокруг дома сад. Выяснилось, что Ллойд отлично разбирается в садоводстве, а также в плотницком деле, в дровяных печах и умеет поддерживать на ходу старую машину.
Родился Саша.
– Это вполне естественно, – сказала миссис Сэндс.
– Правда? – спросила Дори.
Дори всегда садилась на стул с прямой спинкой, стоявший у стола, а не на диван с обивкой в цветочек и подушечками. А миссис Сэндс на своем стуле пододвигалась как можно ближе – так, чтобы их не разделяла никакая преграда.
– Я так и думала, что вы туда поедете. Наверное, на вашем месте я сделала бы то же самое.
Год назад, когда они познакомились, миссис Сэндс так не сказала бы. Тогда она была куда осторожнее, зная, как легко взбудоражить Дори одной мыслью, что хоть кто-то – любая живая душа – мог оказаться на ее месте. Но теперь миссис Сэндс знала, что Дори немного успокоилась и воспримет такие слова всего лишь как попытку ее понять.
Миссис Сэндс была не похожа на знакомых Дори. Не особенно стройна и миловидна, хотя и не слишком стара. Примерно столько же лет сейчас было бы матери Дори, только в миссис Сэндс ничего хипповского, разумеется, нет. Короткая седая стрижка, родинка на скуле. Обувь на плоской подошве, узкие брюки и блузки с узором в цветочек. Даже если эти блузки были клубничного или бирюзового цвета, она не выглядела в них так, словно нарочно вырядилась. Скорее, создавалось впечатление, что кто-то ей подсказал: надо бы тебе, милочка, принарядиться – и та послушно отправилась в магазин за чем-нибудь особенным. Весь ее облик – сдержанный, отстраненный и доброжелательный – как бы уравновешивал агрессивную жизнерадостность ее одежды, и Дори это не было неприятно.
– В первые два раза я его вообще не видела, – сказала Дори. – Он просто не вышел.
– Но на этот-то раз вышел?
– Вышел. Но я его едва узнала.
– Постарел?
– Да, конечно. И еще похудел сильно. И потом эта одежда. Роба. Я никогда его не видела ни в чем таком.
– То есть он показался вам другим человеком?
– Да нет.
Дори прикусила верхнюю губу, пытаясь найти слова, которые передавали бы разницу. Ллойд был очень тихий. Раньше она его таким тихим никогда не видела. Не решался сесть напротив нее. Она даже спросила в самом начале: «Ну что, так и будешь стоять?» И он ответил: «А можно сесть?»
– Он был какой-то… неживой, – сказала наконец Дори. – Может, они ему колют что-нибудь?
– Может, и колют, чтобы вел себя спокойно. Трудно сказать. Ну и вы поговорили?
Да как сказать? можно ли это вообще назвать разговором? Она задавала ему какие-то дурацкие вопросы, самые обычные: «Как ты себя чувствуешь?» – «Нормально». – «Как тут кормят?» – «Ничего». – «А выйти погулять можно?» – «Можно, под присмотром. Только разве это прогулка».
– Тебе надо дышать свежим воздухом, – сказала она.
– Да, точно, – ответил он.
Она чуть не спросила, не подружился ли он тут с кем-нибудь. Так расспрашивают ребенка про школу. Если бы ваши дети ходили в школу, вы бы обязательно задавали им такие вопросы.
– Да-да, – закивала миссис Сэндс, подталкивая к ней заранее приготовленную коробку с салфетками.
Дори их не взяла: глаза у нее оставались сухими, но было нехорошо где-то внутри, в животе. Что-то вроде рвотного позыва.
Миссис Сэндс молча ждала. Она знала, что сейчас не надо вмешиваться.
Потом Ллойд, словно угадав, что она собирается спросить, сказал: тут есть психиатр, приходит побеседовать время от времени.
– Но я его предупредил, чтобы он не терял времени, – сказал Ллойд. – Я и без него все знаю.
Это был единственный момент, когда Ллойд показался ей прежним.
Во время свидания сердце у нее сильно билось. Ей казалось, что она вот-вот упадет в обморок или даже умрет. Чтобы взглянуть на него, приходилось преодолевать себя. Делать усилие, чтобы в поле зрения появлялся этот худой, седой, неуверенный в себе, ко всему безучастный, неуклюжий, безотчетно двигающийся человек.
Ничего этого она не стала рассказывать миссис Сэндс. Та могла бы спросить – тактично, разумеется, – кого Дори боялась. Себя или его?
Но она совсем не боялась.
Когда Саше было полтора годика, родилась Барбара Энн. А когда Барбаре исполнилось два, родился Демитри. Имя Саша они выбрали вместе и после этого условились, что в дальнейшем Ллойд будет давать имена мальчикам, а она – девочкам.
Демитри, в отличие от старших, страдал коликами. Дори думала сначала, что, может быть, ему не хватает молока или что молоко у нее недостаточно калорийное. Или слишком калорийное? В общем, с молоком что-то было не так. Ллойд отыскал женщину из «Лиги ла лече»{3} и поговорил с ней. Что бы ни произошло, сказала эта женщина, нельзя подкармливать малыша из бутылочки. Это шаг в опасном направлении, тогда он очень скоро совсем откажется от груди.
Она не знала, что Дори уже подкармливает малыша. И ему это, похоже, нравилось: все чаще Демитри поднимал крик, когда ему давали грудь. Месяца через три он полностью перешел на искусственное вскармливание, и тогда стало невозможно скрывать это от Ллойда. Дори сказала мужу, что у нее кончилось молоко и потому пришлось давать бутылочку. Ллойд подскочил к ней как бешеный и стиснул ей груди. Пролилось несколько капель. Он назвал ее лгуньей. Они поругались. Он сказал, что она такая же шлюха, как и ее мать.
– Все эти хипповки были шлюхами!
Вскоре они помирились. Но всякий раз, когда Демитри капризничал, или простужался, или пугался Сашиного кролика, или держался за стулья, тогда как его брат и сестра в том же возрасте уже вовсю ходили, – всякий раз припоминалось искусственное вскармливание.
Когда Дори впервые пришла на прием к миссис Сэндс, какая-то посетительница в приемной сунула ей буклет: на обложке золотой крест и слова, напечатанные тоже золотом на лиловом фоне: «КОГДА ТВОЯ ПОТЕРЯ ПОКАЖЕТСЯ НЕВЫНОСИМОЙ…» Внутри оказалось написанное нежными красками изображение Иисуса и какой-то текст мелким шрифтом, который Дори не стала читать.
Руки Дори вцепились в эту книжицу и не отпускали ее. Она села на стул в кабинете и вдруг задрожала всем телом. Миссис Сэндс сама вынула буклет у нее из рук.
– Кто это вам дал? – спросила она.
– Там, – ответила Дори, дернув головой в сторону закрытой двери.
– Вам не нравится это?
– Когда тебе плохо, все начинают доставать, – сказала Дори и тут же осознала, что именно так говорила ее мать, когда женщины с подобными бумажками приходили к ней в больницу. – Они думают, что надо только встать на колени – и все поправится.
Миссис Сэндс вздохнула.
– Да, конечно, – сказала она. – Все не просто.
– Лучше скажите «невозможно», – добавила Дори.
– Ну, может быть, и нет.
В первые встречи они ни разу не заговорили о Ллойде. Дори старалась даже не думать о нем, а если все-таки вспоминала, то как о каком-нибудь ужасном стихийном бедствии.
– Даже если бы я во все это верила, – сказала она, указывая на буклет, – то только потому…
Она хотела сказать, что такая вера была бы очень кстати: можно представить Ллойда горящим в аду или что-нибудь в этом духе. Но она не стала продолжать, потому что глупо говорить об этом. А кроме того, ей в который раз показалось, что у нее в животе словно кто-то стучит молотком.
Ллойд считал, что детей надо учить дома. Это не было связано с религиозными причинами: он не возражал против изучения динозавров, пещерных людей, обезьян и прочего. Просто хотел, чтобы дети оставались поближе к родителям и их можно было подготовить к взрослой жизни осторожно и постепенно, а не бросать сразу в мир, как в воду. «Я просто думаю о том, что это мои дети, – заявлял он. – То есть мои собственные, а не отдела образования».
Дори, скорее всего, не справилась бы сама с их обучением, но оказалось, что отдел образования подготовил на такой случай и инструкции, и планы уроков, и все это родители могли получить в местной школе. Саша был умным мальчиком, он почти без посторонней помощи научился читать, а двое остальных были пока слишком малы, чтобы учить их всерьез. По вечерам и по выходным Ллойд учил Сашу географии, рассказывал об устройстве Солнечной системы, о зимней спячке животных или о том, почему машина ездит. На любой вопрос ребенка следовал отдельный рассказ. Очень скоро Саша стал опережать школьные планы, но Дори по-прежнему получала их в школе и в назначенное время давала ему делать упражнения, чтобы не возникало претензий.
Неподалеку от них жила еще одна женщина, у которой дети учились дома. Звали ее Мэгги, и у нее был минивэн. Ллойд на своей машине каждое утро отправлялся на работу, а Дори так и не научилась водить. Поэтому она была очень довольна тем, что Мэгги раз в неделю подвозила ее до школы, там они отдавали выполненные задания и получали новые. Разумеется, они брали с собой всех детей. У Мэгги было двое мальчиков. Старший страдал аллергией, и матери приходилось строго следить за его питанием, поэтому он и учился дома. А потом Мэгги решила перевести на домашнее обучение и младшего. Тому хотелось играть с братом, и к тому же он был астматиком.
Как радовалась Дори, что у нее все трое здоровы! По мнению Ллойда, это потому, что она родила всех детей, когда была еще молода, а Мэгги ждала чуть не до менопаузы. Он, конечно, преувеличивал возраст Мэгги, но ждала она действительно долго. Она работала оптометристом – подбирала людям очки. Когда-то они с мужем были бизнес-партнерами и откладывали начало семейной жизни до тех пор, пока не купили дом в деревне, чтобы она смогла оставить работу.
Волосы у Мэгги были с проседью, совсем коротко подстриженные. Ллойд называл высокую, плоскогрудую, неунывающую и самоуверенную Мэгги «наша лесби» – но только за глаза, разумеется. Бывало, хохмит с ней по телефону, а потом, прикрыв трубку рукой, говорит Дори: «Это наша лесби». Дори к этому относилась спокойно: она знала, что Ллойд многих женщин так называет. Но она опасалась, что Мэгги сочтет его шуточки слишком фамильярными и просто не захочет терять с ним время.
– Хочешь поговорить со старушкой? Да. Здесь она. Возится со стиральной доской. Да, такой я эксплуататор. Это она тебе сказала?
Взяв в школе бумаги, Дори и Мэгги обычно отправлялись в продуктовый магазин за покупками. Потом иногда заходили в кафе Тима Хортона и отвозили детей в парк на берегу реки. Там мамаши сидели на скамейке, а Саша и сыновья Мэгги носились по детской площадке и карабкались на лестницы, Барбара Энн качалась на качелях, Демитри играл в песочнице. Если было холодно, женщины оставались в машине. Беседовали они по большей части о детях и о кулинарных рецептах, но иногда Дори вдруг узнавала что-то интересное: например, что Мэгги, прежде чем стать оптометристом, объездила всю Европу. Мэгги, в свою очередь, с удивлением узнавала, как рано Дори вышла замуж и как легко она впервые забеременела. А потом долго не получалось, и Ллойд начал ее подозревать: копался в ее ящиках в поисках противозачаточных таблеток, думал, что она их принимает втайне от него.
– А ты не принимала? – спросила Мэгги.
Дори даже не знала, как ответить. Сказала, что никогда бы на такое не осмелилась.
– Ну, то есть это было бы ужасно: пить их, не сказав ему. Я просто пошутила, а он сразу кинулся их искать.
– Ох, – вздохнула Мэгги.
Однажды Мэгги спросила:
– Слушай, у тебя все в порядке? Я имею в виду с мужем. Ты счастлива?
Дори без колебаний ответила «да». Но потом подумала, что не все так гладко. В ее семейной жизни было много такого, к чему она привыкла, а другие этого бы не поняли. Ллойд по любому вопросу имел собственное мнение, такой уж он был человек. И в самом начале, когда она познакомилась с ним в больнице, он уже был такой. Старшая медсестра вела себя очень надменно, и он звал ее «миссис Велитчелл» вместо «миссис Митчелл». Произносил эти слова так быстро, что разница была едва уловима. Ему казалось, что у старшей медсестры есть любимчики, но он к ним не принадлежит. И на фабрике мороженого был человек, которого Ллойд ненавидел, – кто-то, кого он звал «Луис-сосала». Дори так и не узнала настоящего имени этого парня. Но это доказывало, по крайней мере, что не одни только женщины его раздражали.
По мнению Дори, все эти люди были вовсе не так плохи, как считал Ллойд, но спорить с ним не имело смысла. Наверное, мужчины просто не могут жить без врагов, как не могут жить без шуток. Иногда Ллойд подшучивал над своими врагами – точно так же, как иногда посмеивался над собой. И ей разрешалось смеяться вместе с ним – при условии, что не она первая начала.
Она надеялась, что он будет снисходителен к Мэгги. Но временами уже чувствовала, как рушатся ее надежды. А если он запретит ей ездить с Мэгги в школу и в магазин, то это будет крайне неудобно. Но еще хуже то, что придется позориться: выдумывать какие-то глупости, как-то объясняя свои отказы с ней встречаться. А Мэгги бы все поняла – по крайней мере уловила бы ложь и решила, что в семье Дори все гораздо хуже, чем на самом деле. Мэгги тоже была по-своему резковата в оценках.
Тогда Дори спрашивала себя: а почему ее, собственно, заботит то, что подумает подруга? Мэгги почти чужая, с ней даже общаться не очень комфортно. Так Ллойд сказал, и он прав. Истинная связь между ними, мужем и женой, – это то, что недоступно посторонним, и вообще это никого не касается. Если Дори станет бережно относиться к своей семье, то все у них будет хорошо.
Однако дела пошли хуже: общаться с подругой он ей пока не запрещал, но все чаще высказывался критически. Говорил, что Мэгги сама виновата в болезнях сыновей. Он вообще считал, что мать всегда виновата. Ему случалось наблюдать в больнице таких матерей, которые стремятся держать детей под полным контролем. Обычно так поступают слишком умные.
– Но послушай, иногда дети просто рождаются больными, – не подумав, возразила Дори. – Нельзя же во всех случаях винить мать.
– Да ну? А почему это мне нельзя?
– Я не про тебя говорю. Не в том смысле, что тебе нельзя. Я говорю: разве не могут дети родиться больными?
– А с каких это пор ты стала так разбираться в медицине?
– Я и не говорю, что разбираюсь.
– Правильно, не разбираешься.
Плохое сменялось худшим. Он пожелал знать, о чем они с Мэгги разговаривают.
– Не знаю. Так, ни о чем.
– Забавно. Значит, две женщины едут в машине… Первый раз такое слышу. Две женщины едут и ни о чем не говорят. Она решила вбить между нами клин.
– Кто? Мэгги?!
– Я таких баб знаю.
– Каких – таких?
– Таких, как она.
– Не говори глупости.
– Эй, потише! Ты сказала, что я дурак?
– Скажи, пожалуйста, зачем ей это нужно?
– Откуда мне знать зачем? Захотелось, и все. Вот погоди, еще увидишь. Она тебе еще все уши прожужжит о том, какая я сволочь. Погоди немного.
И действительно, все случилось так, как он говорил. Ну, во всяком случае, выглядело именно так в глазах самого Ллойда. Однажды около десяти часов вечера она оказалась у Мэгги на кухне: сидела, хлюпая носом и размазывая слезы, и прихлебывала травяной чай. Когда она постучала в дверь, муж Мэгги открыл и спросил: «Какого черта вам надо?» Он понятия не имел, кто она такая. Дори еле сумела сказать: «Простите, что беспокою…» – а он глядел на нее выпученными глазами. Затем вошла Мэгги.
Дори прошла весь путь до ее дома пешком, в темноте. Сначала по проселочной дороге, у которой они с Ллойдом жили, затем по шоссе. Там приходилось прятаться в канаве всякий раз, когда приближалась машина, и потому шла она очень медленно. Она провожала взглядом машины, боясь, как бы Ллойд не поехал за ней. Ей не хотелось, чтобы он нашел ее сейчас – по крайней мере до тех пор, пока он не испугается собственного безумия. Бывали случаи, когда ей удавалось самой его напугать таким образом: она плакала, выла и даже колотилась головой об пол, приговаривая: «Неправда, неправда, неправда!..» В конце концов он шел на попятную и говорил: «Ну ладно, ладно. Я тебе верю. Ну все, милая, успокойся. Подумай о детях. Ну все, я верю тебе, милая. Только замолчи».
Но сегодня вечером она взяла себя в руки уже в начале представления. Надела пальто и вышла за дверь, а он кричал вслед: «Эй, не вздумай! Я тебя предупредил!»
Муж Мэгги отправился спать, по-прежнему недовольный, хотя Дори все повторяла: «Простите меня! Простите, что врываюсь к вам так поздно!»
– Да замолчи ты! – прикрикнула на нее Мэгги. Вид у нее был хоть и озабоченный, но доброжелательный. – Хочешь вина?
– Я не пью.
– Тогда лучше сейчас не начинай. Я тебе заварю чая. Это успокаивает. С клубникой и ромашкой. С детьми-то все в порядке?
– Да.
Мэгги сняла с нее пальто и протянула ей пачку салфеток – вытереть нос и глаза.
– И не говори пока ничего. Скоро придешь в себя.
Но даже немного успокоившись, Дори не рассказала, как у них обстоят дела, иначе Мэгги решила бы, что подруга сама во всем виновата. Кроме того, ей не хотелось рассказывать про Ллойда. Не важно, что он ее измучил. Все равно ближе его у нее никого нет, и если она начнет на него жаловаться, все сразу рухнет, это будет как измена.
Она объяснила, что они с Ллойдом опять поругались и она так от этого всего устала, что захотела прогуляться. Но это все ничего, пройдет. Они помирятся.
– Ну что ж, со всеми супругами случается, – заметила Мэгги.
Тут зазвонил телефон, и Мэгги сняла трубку.
– Да. Она в порядке. Просто захотела прогуляться, сменить обстановку. Отлично. Ладно, тогда я отвезу ее домой утром. Ничего страшного. Хорошо. Спокойной ночи.
– Это он, – сказала Мэгги. – Ну да ты поняла.
– Какой у него был голос? Нормальный?
Мэгги улыбнулась:
– Ну, я не знаю, как он разговаривает в нормальном состоянии. Во всяком случае, он был не пьян.
– Он тоже не пьет. У нас в доме даже кофе нет.
– Хочешь, поджарю тост?
Рано утром Мэгги повезла ее домой. Муж Мэгги не поехал на работу и остался сидеть с мальчиками.
Мэгги спешила вернуться домой. Разворачивая свой минивэн у них во дворе, она сказала на прощание только:
– Все, пока! Позвони, если захочешь поболтать.
Было холодное весеннее утро, на земле все еще лежал снег, но Ллойд сидел без куртки на ступеньках крыльца.
– Доброе утро, – громко произнес он вежливым и полным сарказма тоном.
Она тоже поздоровалась, сделав вид, что не заметила этого.
Он продолжал сидеть на ступеньках, не пуская ее внутрь.
– Не ходи туда, – сказал он.
Она решила обратить все в шутку:
– Не пустишь? Даже если я очень попрошу? Ну пожалуйста!
Он посмотрел на нее, но ничего не ответил. Только улыбнулся, не разжимая губ.
– Ллойд! – позвала она. – Послушай, Ллойд!
– Лучше не ходи туда.
– Послушай, Ллойд, я ничего Мэгги не рассказывала. Прости, пожалуйста, что я убежала. Мне просто воздуха не хватало.
– Говорю: не ходи.
– Да что с тобой? Где дети?
Он мотнул головой – так, как делал в тех случаях, когда ему не нравилось то, что она говорила. Этот жест заменял средней силы ругательство, что-то вроде «блин».
– Ллойд! Где дети?!
Он чуть подвинулся, чтобы она смогла пройти, если захочет.
Демитри лежал в своей колыбельке, но на боку. Барбара Энн – на полу возле своей кроватки, словно она упала оттуда или ее вытащили. Саша – у двери в кухню: он пытался убежать. Только у Саши были кровоподтеки на шее. Остальных он задушил подушкой.
– Во сколько я вчера звонил? – спросил Ллойд. – Когда звонил, все уже случилось.
Он сказал: «Это ты во всем виновата».
Присяжные постановили, что он находился в помраченном состоянии сознания и не подлежит наказанию. Ллойд был признан невменяемым в отношении совершенного преступления и помещен в специальное учреждение.
Дори выбежала из дому и бродила, спотыкаясь, по двору, взявшись обеими руками за живот, словно он был вспорот и она пыталась удержать внутренности. Такой ее увидела Мэгги, когда вернулась. У нее возникло дурное предчувствие, и она решила развернуться и поехать назад. Сначала Мэгги подумала, что муж избил Дори, ударил ее в живот. Из стонов Дори ничего нельзя было понять. Ллойд, по-прежнему сидевший на ступеньках, вежливо подвинулся, не сказав ни слова, и пропустил ее в дом. Войдя, Мэгги увидела то, что уже ожидала увидеть. Она позвонила в полицию.
В течение некоторого времени Дори набивала себе рот всем, что попадалось под руку. Землей, травой, потом платками, полотенцами и собственной одеждой. Казалось, она хочет подавить не только вопли, которые рвались у нее из горла, но и сам образ той сцены, бесконечно всплывавший в сознании. Ей начали колоть какое-то лекарство, и это помогло. Она стала очень тихой, хотя в кататонию и не вошла. Врачи говорили, что ее состояние стабилизировалось. Когда Дори выписалась из больницы и социальный работник привез ее на новое место жительства, ее взяла под свою опеку миссис Сэндс: нашла ей дом, подобрала работу и еженедельно с ней беседовала. Мэгги приехала было повидаться, но оказалось, что она единственный человек, которого Дори не могла видеть. Миссис Сэндс объяснила, что это естественно: возникает нежелательная ассоциация, и Мэгги ее поймет и простит.
Миссис Сэндс сказала, что, посещать или не посещать Ллойда, должна решать только Дори.
– Понимаете, я ведь здесь не для того, чтобы разрешать или запрещать. Как вы сами думаете, лучше вам станет, если вы его увидите? Или хуже?
– Не знаю.
Дори не могла объяснить, что она встречалась как бы и не с ним. Это было все равно что увидеть привидение. Такой бледный. И одежда на нем широкая и тоже бледная, и туфли такие, что шагов совсем не слышно, мягкие тапочки наверное. Ей показалось, что у него выпадают волосы. А раньше были такие густые, волнистые, цвета меда. Не было теперь ни широких плеч, ни ямки между ключицами, куда она, бывало, склоняла голову.
Полиции он тогда сказал, и это попало в газеты: «Я сделал это, чтобы спасти их от страданий».
Каких страданий?
«Страданий от того, что мать их бросила».
Эти слова горели в мозгу у Дори, и, возможно, она решила повидаться с ним только для того, чтобы заставить его взять их обратно. Заставить его понять и принять события такими, какими они были на самом деле.
«Ты сказал: прекрати спорить или убирайся из дому. Вот я и ушла».
«Я всего лишь пошла переночевать к Мэгги. Разумеется, я собиралась вернуться. Никого я не бросала».
Она очень хорошо помнила, с чего начался спор. Она купила банку спагетти, и на этой банке оказалась вмятина, совсем небольшая. Из-за этой вмятины банка продавалась со скидкой, и Дори обрадовалась, что можно сберечь немного денег, что она поступает разумно. Но мужу, когда он начал задавать вопросы, она про скидку не сказала. Почему-то решила сделать вид, что просто не заметила вмятины.
Ллойд заявил, что ее нельзя не заметить. Мы все можем отравиться. Да что с ней такое? Или она это сделала нарочно? Может, хотела посмотреть, что станет с детьми и с ним самим?
Она сказала: не сходи с ума.
Он ответил: ты сама сошла с ума. Кто, кроме сумасшедшей, станет покупать яд для своей семьи?
Дети наблюдали за ними, стоя в дверном проеме в гостиной. Это был последний раз, когда она видела их живыми.
Вот о чем она думала, когда отправилась к нему, – надо заставить его наконец понять, кто тогда был сумасшедшим.
Когда Дори осознала, с каким намерением едет к нему, ей следовало выйти из автобуса. Пусть даже на последней остановке, вместе с другими женщинами, но не плестись вслед за ними к тюремным воротам, а перейти дорогу и сесть в автобус, идущий назад в город. Наверное, кто-то из приезжавших сюда когда-нибудь так уже поступал. Собрался на свидание, а в последний момент передумал. Возможно даже, такое происходит здесь постоянно.
А может быть, и к лучшему, что она все-таки не ушла и увидела его таким странным, словно выжатым. Теперь некого проклинать и винить. Некого. Этот человек ей как будто приснился.
Ей снились сны. Однажды приснилось, что она выбегает из дому, увидев там их, а Ллойд вдруг принимается хохотать, да так весело, как раньше, а потом она слышит, как смеется у нее за спиной Саша, и тут до нее доходит, к ее огромному облегчению, что они ее просто разыграли.
– Вот вы спрашивали, стало ли мне легче или тяжелее, когда я его увидела. В прошлый раз спрашивали.
– Да-да, – подхватила миссис Сэндс, – ну и как?
– Мне это надо было обдумать.
– Разумеется.
– В общем, я решила, что стало тяжелее. И больше не поехала.
Ей было нелегко сказать это миссис Сэндс. Та в ответ только одобрительно кивнула.
Поэтому, когда Дори решила, что, так и быть, съездит еще раз, она не захотела упоминать об этом в разговоре с миссис Сэндс. А поскольку ей было трудно скрывать события своей жизни, даже совсем незначительные, она позвонила и отменила встречу. Сказала, что собирается в отпуск. Начиналось лето, и значит отпуска становились обычным делом. Уезжаю с подругой, – сказала она.
– А ты сегодня в другой куртке. Не в той, что неделю назад.
– Не неделю.
– А сколько?
– Это было три недели назад. А теперь жарко. Эта курточка полегче, хотя даже она сейчас не нужна. Теперь можно ходить совсем без куртки.
Он спросил, как она доехала, какими автобусами добиралась из Майлдмэя.
Дори ответила, что больше там не живет. Назвала город, в который перебралась, и перечислила автобусы.
– Да, не близко. Ну и как, тебе нравится жить в городе побольше?
– Там легче найти работу.
– Значит, ты работаешь?
Во время последней встречи она уже рассказывала ему и о том, где живет, и об автобусах, и о своей работе.
– Я убираю номера в мотеле. Я тебе уже говорила.
– А да, точно. Забыл. Извини. А в школу не собираешься? В смысле, окончить вечернюю школу?
Она сказала, что думала об этом, но так, не всерьез. Ее и работа горничной устраивает.
После этого им, похоже, стало не о чем разговаривать.
Он вздохнул. Потом сказал:
– Ты извини. Я тут совсем отвык от разговоров.
– А чем же ты занимаешься целыми днями?
– Ну, я читаю довольно много. И типа того… медитирую.
– Вот как.
– Я тебе очень благодарен, что ты приехала. Это для меня очень важно. Но только не надо это делать все время. В смысле, ты приезжай, но только когда действительно захочешь. Если почувствуешь, что надо. В общем, я хочу сказать: уже то, что ты можешь приехать, что ты хоть раз приезжала, это для меня большое дело. Понимаешь?
Она сказала, что да, наверное, понимает.