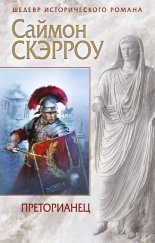Записки на айфонах (сборник) Цыпкин Александр

Иду не поворачиваясь. Мимо шаурмы, мимо мешков с комбикормом. Когда я был маленьким, у меня были куры. Летом они питались червяками, зимой капустой.
Шаги приближаются.
В магазине яркий свет и родные лица продавщиц. Ужасно рад их видеть.
Не могу вспомнить, что хотел купить.
Дверь открывается.
– Здорово, сосед!
Крепкое рукопожатие Иваныча.
Я вышел вон. Никого. Только пустое шоссе и темнота.
Черный асфальт, жёлтые листья
Проснулся на полу в белом пиджаке. На щеке текинский узор ковра. Сверху нависает хрустальный осветительный шедевр, результат бабушкиной потребительской активности – громадная чешская люстра.
Пока я собирался с силами, чтобы встать и выпить стакан воды, эти килограммы остановившегося блеска пробудили воспоминания.
Почти двадцать лет назад я работал курьером в известном на весь мир журнале, который вместе с победой консюмеризма появился и в России. От двух до трех сотен страниц толстой бумаги лоснились моднейшими нарядами, драгоценными камнями и металлами, роскошными автомобилями, курортными виллами, белыми снегами и синими морями.
Имея склонность к фотографии и мечтая о славе Хельмута Ньютона, я в то время разослал свои снимки по разным изданиям, но ответа не получил. Поникнув головой, однажды я рассказал о постигшей меня неудаче отцу, и он, тяготимый – впрочем, не слишком – чувством вины за бегство от матери и мое неполноценное детство, взялся помочь.
Оказалось, его тогдашняя пассия занимает должность в издательском доме, которому принадлежит добрая половина всех существующих журналов, и полномочия ее вполне позволяют устроить меня для начала курьером.
Я получил именной пропуск и на законных основаниях проник в чертог глянцевых мифов, оказался в непосредственной близости к желанному эпицентру. Так начался мой трудовой путь, закончившийся вчера.
Весь штат сотрудников, от главного редактора до секретаря, состоял из женщин. Рабочий коллектив представлял собой шкалу женского социального успеха, пиковым показателем которого являлась главред, а нулевое или даже отрицательное деление было закреплено за уборщицей. Все трепетали перед главной, подражали ей в манере наряжаться, но не слишком, не дай бог обскакать, говорили с ее интонациями, боялись ее гнева, жаждали похвалы и мечтали занять ее место, чтобы проводить совещания, как она, положив ноги на стол, поедая куски сырого лосося с соусом васаби.
Чары не распространялись лишь на нас с уборщицей. Она плохо говорила по-русски, считала всех девиц пропащими вертушками и угощала меня домашними сочащимися мантами. Я же мыслил себя художником мировой величины и не испытывал перед всем этим дамским царством никакого благоговения.
Непосредственным моим начальником была Юля – секретарь редакции. Она называла себя на латинский манер Джулией. К ней стекались все поручения по доставке экземпляров, пригласительных, договоров, букетов, шампанских бутылок и прочей дорогостоящей мелкой мишуры, которую так любили получать даже очень богатые люди, способные позволить себе весь наш журнал вместе с главной.
Каждое утро я представал перед Джулией, выслушивал инструкции о нравах очередной актрисы, которой следует доставить это, о расписании певца, которому надо передать то. За мою тогдашнюю записную книжку многие бы щедро заплатили. Чьих только номеров там не было! Своенравные звезды, окруженные ореолом недосягаемости, принимали меня на пороге своих весьма порой прозаических жилищ, а личные помощницы могущественных воротил спрашивали, какой напиток я предпочитаю.
Каждую ночь я засыпал с чувством утомленной удовлетворенности. У меня завязалось несколько романтических знакомств с ассистентками некоторых моих адресатов, а одна исполнительница известной роли попросила меня однажды повесить ей упавшую занавеску.
Редактор отдела моды, услышав о моем увлечении фотографией, попросила показать снимки, и я не заставил себя долго упрашивать. Она посмотрела и поручила штатному фотографу поснимать меня на белом фоне. О моих фотоработах больше не вспоминали, зато время от времени стали наряжать в присылаемые для рекламы наряды, в которых я, скучая, но и не без тщеславия, позировал.
Несколько раз я предпринимал попытки напомнить о своем фототаланте, но отклика не встретил и вскоре разговоры оставил. Жизнь моя была так ярка и весела, что лавры господина Ньютона померкли сами собой. Однако редактор отдела моды все-таки сыграла роль в моей судьбе. Из сострадания к моей творческой несостоятельности или из озорства она как-то раз спросила моего мнения по поводу одной фотосессии и, видимо, сочла его небезынтересным, потому что с тех пор стала со мной советоваться и к некоторым советам прислушивалась. Она оказалась первой убедившейся в том, что отсутствующий у меня талант фотографа компенсируется умением видеть недостатки в работах других и пониманием, как эти недостатки исправить. Свойство во всем видеть недостатки, из-за которого многие считали меня букой, сослужило добрую службу.
* * *
Вся наша женская команда, включая стилиста Колю, который предпочитал называться Никой, состояла из одиночек. Некоторые успели обзавестись детьми, но это считалось скорее изъяном, чем поводом для гордости.
Все, в том числе Ника, искали мужа или хотя бы покровителя.
Хоть изредка приходящего.
Хоть кого.
Лишь одно условие должно было быть соблюдено непременно – его богатство. Физическая привлекательность, ум, чувство юмора, знакомство с хорошими манерами и наличие высшего образования приветствовались, но не являлись решающими. Джокером в этой игре были деньги.
Известность и слава не ценились так высоко, как богатство. Наша главред, опытная красавица с университетским дипломом, несгибаемой волей и двадцатилетним сыном-оболтусом, который, по слухам, страдал от непрекращающихся недугов и депрессий, будучи совершенно здоровым, даже она таяла, когда на приемах с ней заговаривал какой-нибудь господин из списка богачей.
Все девочки и, конечно, Ника время от времени крутили с вполне прозаическими типами, которых часто ссужали деньгами, давали приют и порой совершенно сажали себе на шею. Такие связи держали в секрете, стеснялись их. Но каждая, предохраняя маникюр во время мытья посуды, повязывая галстук и даже издавая вполне искренние звуки в постели, всегда представляла себе палубу яхты, прохладу ювелирного салона, замах гольфовой клюшкой и ржание племенной кобылы.
Появление платежеспособного поклонника обязательно делалось общей новостью. Об этом сообщали курортные фотографии, шикарные обновки, а то и кольцо, отбрасывающее бриллиантовые искры.
Хвастовство не считалось зазорным. Счастливица выставляла напоказ тот или иной предмет, и любопытство остальных, хоть и сдержанное, вскоре прорывалось: «Кто?», «Где?», «Как?» Счастливица отвечала лениво и напоказ безразлично, но потом вдруг срывалась и взахлеб выбалтывала правду и неправду.
Большая часть таких презентаций, впрочем, были подделкой. Чужие автомобили, в которых разрешили посидеть, выдавались за свои, чужие стены, где удалось временно притулиться, – за личные пространства. Цены на подарки непременно завышались, цифры ресторанных счетов утраивались, а ночам приписывалось куда больше страсти, чем они на деле вмещали.
В минуты откровенности рассказчицы входили в такой раж, что не стеснялись ничего. Помню, однажды сотрудница рекламного отдела так разошлась, расписывая подарок, полученный от ухажера – увеличенную грудь, что задрала платье до шеи, продемонстрировав добросовестную работу хирурга.
Брачный успех ждал немногих. В таких случаях девушка закатывала прощальную пати с изысканными кондитерскими изделиями и хорошими напитками. Прощания имели оттенок торжествующей грусти, когда счастливица сходила на берег семейного благополучия, а остальные, проглотив слезы завистливой радости, с новым усердием брались за весла.
Часто браки заключались с европейцами, с которыми знакомились по работе. Обыкновенно те были вовсе не богачи, но их талант одеться, мелодичные речи и комфортабельные страны компенсировали отечественные активы. Ведь обзавестись дворцом часто хочется, когда вокруг разруха, всеобщее же усредненное благоденствие настраивает на более мирный лад.
Нашедшие себе мужей среди отечественных спонсоров, фактических владельцев и наемных директоров обычно получали в распоряжение некоторую собственность и порой даже открывали магазинчики и кафе, которые вскоре прогорали, или благотворительные фонды, предназначенные больше для обеления нелегальных доходов супруга.
Такие обыкновенно страдали от недостатка внимания и часто стремились обратно в журнал, но уже не на должность, а на страницы светской хроники.
К этим выскочкам наша главная относилась презрительно, интервью с ними, пусть коротенькие, браковала, портреты, даже еле различимые, отвергала. Пробить эту брешь удалось лишь одной – тонкокостной ведьме из степного захолустья, захомутавшей отставного спортсмена, обладателя внушительного капитала, выколотившей из него средства на открытие и рекламу кабаре и умудрившейся дело не провалить, а, напротив, сделать прибыльным. Главред игнорировала успех нахалки сколько могла, но не устояла, когда та лично преподнесла ей в единственном экземпляре выпущенную карту, дающую пожизненное право на лучший столик и открытый счет.
Отдельным объединяющим качеством было место рождения. География появления сотрудниц на свет, их первых шагов, школ и вузов демонстрировала все величие русского мира, охватывая не только одну шестую часть суши, но и зоны влияния.
Обозревательница косметических новинок родилась в Будапеште, где папа-майор служил в Западной группе, а редактор отдела моды прибыла с погранзаставы острова Итуруп, столь вожделенного для японцев.
Все они ненавидели и обожествляли Москву, как наркозависимый ненавидит и обожествляет зелье. Каждое утро обещали бросить и каждый вечер торчали от новой дозы.
* * *
Будучи по природе натурой эмоциональной, я вскоре влюбился. Не влюбился даже, а приобрел сильную романтическую привязанность. Дамой моего сердца стала непосредственная начальница, Джулия.
Нос у Джулии был кривоват, что она впоследствии, поднакопив средств, исправила, на левой ноге синими речушками разбегались тонкие вены. Но это все мое свойство выявлять недостатки. Даже в прошлом их умудряюсь отыскать. В остальном Джулия была устроена привлекательно. Очертаниями обладала не умопомрачительными, но пропорциональными, а лицо ее можно было отнести к тому типу, который романтические пошляки сравнивают с Венерой Боттичелли.
Влюбленность моя была совершенно бестелесной. Я не желал обладать Джулией, мое чувство было целиком иррациональным, лишенным логики и оттого предельно острым. Я страдал, путал имена адресатов, время и место доставки, схлопотал несколько выговоров, едва не лишился места.
Родом Джулия была из отдаленного городка, то ли лагерного, то ли курортного, и помышляла, разумеется, о браке с олигархом. Только в отличие от других, планирующих олигарха, а по факту готовых рассмотреть предложения поскромнее, она и в самом деле наметила себе определенного многомиллиардного холостяка и целенаправленно искала встречи.
Небольшое настольное зеркало, стоящее на ее рабочем столе, было оклеено его фотографиями, вырезанными со страниц журналов, и ее собственными портретами на фоне заграничных достопримечательностей: рядом с благополучными жилыми комплексами, возле автомобилей высшей ценовой категории, с продуктами питания из рациона гурманов. Джулия заклинала судьбу.
От остальных девушек Джулия отличалась постоянным волнением. И какой-то нервностью.
То и дело она начинала кашлять, без видимой причины протирала руки влажной салфеткой.
Разумеется, она не была любимицей коллектива. Одни подшучивали над ее педантичным преследованием богатого холостяка, другие усматривали признаки невменяемости в той верности, которую Джулия хранила своему ни о чем не ведающему жениху.
У нее и в самом деле не было дружка, мужчины пугали ее своими притязаниями, только мне она позволяла ухаживания, и то небось потому, что чувствовала – ничего за этим не последует.
Думаю, недостижимый жених был подсознательно ею выбран по тому же принципу – он совершенно избавлял ее от замужества.
Цель свою, однако, Джулия реализовывала настойчиво. Отчаянно билась за пригласительные, любой ценой промыливалась на приемы и однажды все-таки встретила его. И вроде он даже в ее сторону посмотрел. Или близко прошел в конвое бодигардов.
Что бы там ни произошло, история стала быстро обрастать. Вскоре открылось, что он с Джулией в тот вечер о чем-то обмолвился, а затем просочилось и про романтический ужин.
Он якобы писал ей, но она по прочтении стирала. Конфиденциальность превыше всего, шпионы только и ждут, как бы взломать и шантажировать.
Выходило, у нее самый настоящий тайный роман. Скептики презрительно фыркали, доверчивые восхищались, все завидовали. Абсолютно невозможно, конечно, но чего в жизни не бывает.
На праздновании дня рождения нашей редакционной повелительницы я помогал Джулии расставлять по вазам букеты. Моя ничем не подпитываемая влюбленность потихоньку угасала, и настроен я был легкомысленно – успел незаметно приложиться к одной из привезенных для праздника бутылок.
И вот втыкали мы перехваченные лентами веники в хрустальные, стеклянные и любые другие жерла и запыхались. И Джулия вскарабкалась на подоконник, чтобы открыть высокое окно. А я сказал, что у нее ноги очень красивые.
После того случая Джулия стала уделять мне внимание. Вела со мной разговоры об одиночестве и тоске по мужчине. Щупала мои совсем не спортивные мышцы и восхищалась их крепостью. Осыпала комплиментами и какими-то туманными намеками, а когда однажды я, вконец осмелев, накренился в ее сторону, оскорбленно оттолкнула меня.
Как я мог! Она повода не давала и вообще не понимает, что со мной творится.
За этим наступило потепление, новые ласковые прикосновения, невзначай оброненные вздохи, приведшие к моей новой попытке, с упоением ею отвергнутой.
В Джулии обнаружилось неприятное свойство – приманивать с целью отказа. Я относился с сочувствием, потому что уже тогда понимал: женщины – создания загадочные. Коротая время в перерывах, я листал наш журнал и узнавал много нового. Например, в одном из номеров наткнулся на короткий наглядный комикс, снабженный несложным текстом. Комикс был посвящен тому, как доставить женщине наслаждение. Не будучи особо искушенным, я ничего нового для себя не открыл, но одна вещь поразила: оказалось, что если ее голова свешивается вниз, то впечатлений она огребет в сто раз больше. А если она и вовсе висит вниз головой, то насладится так, как и мечтать не могла.
Вернувшись домой, я тотчас лег на кровать и свесил голову вниз. Конечно, женщина из меня так себе, но решил прикинуть, каково это. Хотя бы отдаленно понять слабый пол, их внутренний мир, и все такое. Очень скоро в ушах загудело, на глаза стало что-то давить, вот-вот выскочат. Единственное, чего хотелось уже через минуту, так это встать на ноги.
На следующий день я расспросил редактора отдела личной жизни Дилю про эти дела вниз головой, в чем, типа, прикол. Диля сообщила что-то о мозговых центрах и, сославшись на занятость, беседу свернула.
Единственное, что я тогда уяснил окончательно, – женщины удивительные существа. И Джулия не была исключением.
Я продолжал все более нахальные посягательства, избавляясь тем самым от остатков чувств. Спросил Джулию, не хочет ли она попробовать вниз головой. Она бы могла легко сбить с меня спесь, если бы согласилась, но она только дулась и погружалась в себя.
Вконец обнаглев, я, наверное, совсем бы затравил Джулию, но редактор отдела моды, уже привыкшая со мной советоваться, выставила мою кандидатуру на обсуждение, и мне предложили немыслимую для курьера должность – уполномочили отслеживать любые касающиеся фотоматериалов недостатки во всех журналах издательского дома. Будь я женщиной, мое свойство замечать недостатки никто бы не оценил, его объяснили бы недостаточно насыщенной личной жизнью и гормональными сбоями. Но у мужчин есть привилегии.
Переезжать далеко не потребовалось – соседнее крыло того же здания.
На скромном чаепитии в честь моего повышения каждая из девочек по очереди произнесла доброе напутствие, Ника разрыдался, а Джулия подарила букет тюльпанов.
Приступив к выполнению новых обязанностей, я продолжил навещать ставшую родной редакцию, где новый курьер кочевой национальности обживал мое недавнее место.
Визиты мои неуклонно делались реже, и в один из них Джулия предложила пойти вместе на перекур.
Мы стояли на лестнице, я рассказал о себе, расспросил ее, выразил восхищение нарядом.
Тут она и прижала свои губы к моим.
Те, кто говорит, будто мужчинам все равно, с кем и когда, глубоко ошибаются. Мужская природа тонка и не до конца изучена. Мужчинами правят хрупкие дуновения, которые принято считать грубыми инстинктами.
От поцелуя Джулии мне стало невероятно тягостно. Мое очарование ею к тому моменту окончательно улетучилось. Непроизвольное воображение нарисовало, будто она предлагает мне надеть старую, заношенную, нестираную, выброшенную уже одежду.
– Что же ты, поцелуй меня, – то ли велела, то ли попросила Джулия, пытаясь игриво преодолеть мою холодность.
Встретившись со слабым, даже жалобным, но все же сопротивлением, она мгновенно переменилась. Спросила, противна ли мне, и, получив самые горячие разуверения, схватила мои ладони и прижала к своей груди.
Столкнувшись с таким напором, я вынужден был соврать, что отдан другой и не могу нарушить клятву верности. Я наивно решил, что это охладит Джулию, а заодно заставит порадоваться за мою личную жизнь.
Мой расчет провалился. Несуществующая возлюбленная пробудила в Джулии настоящее бешенство. Она бесновалась, называла ее шлюхой, а меня предателем, беглецом и трусом. На крики сбежались. Она не унималась, забрызгала меня слюнями и потребовала вернуть тюльпаны.
На следующий день, немного волнуясь и одновременно гордясь своей честностью, я взошел по ступеням нашего ИД и повернул в нужное крыло.
Джулия была на своем месте. Когда я положил перед ней букет, она нарочно смотрелась в свое волшебное зеркало. Я замешкался, не обратить ли все в шутку, все-таки я принес ей букет, но, скосившись, она перебила мои мысли:
– Я дарила бледно-сиреневые, а эти алые.
* * *
Я все больше погружался в работу, делал рациональные предложения и совсем увлекся. На прежнем месте близких знакомых не осталось, а разрыв с Джулией избавил от обязанности наносить визиты в соседнее крыло.
Прошло несколько месяцев, я почти ничего не слышал о ней, кроме того, что она испрашивала повышения, претендовала на место выбывшей по замужеству редакторши одного из разделов, но была отвергнута.
Осенью я получил от Джулии конверт с приглашением на свадьбу. Оттиснутые красивыми буквами на плотной бумаге слова сообщали о предстоящем торжестве такого-то числа, в такое-то время, в таком-то ресторане.
Имя жениха сохранялось в секрете.
Вместе с приглашением распространился слух, что Джулия выходит за того самого богача и холостяка, самого завидного жениха Федерации. Все этажи нашего издательского дома бурлили, виновница отсутствовала, заблаговременно взяв отпуск.
Привыкшие к самым разным поворотам, сотрудники поквохтали и успокоились.
Скептики уверяли, что подобное событие невозможно сохранить в тайне, и если бы это было правдой, то шумиха стояла бы невероятная. Такие не верили даже в саму возможность их знакомства, не то что свадьбы.
Другие с аргументами скептиков соглашались, но осторожно возражали, что теоретически возможно всякое, и приводили какие-то аналогичные, известные в основном по любовным романам случаи.
Кто-то ухитрился раздобыть номер секретаря жениха, позвонил и задал прямой вопрос. Отрицательный ответ ничего не прояснил, а лишь укрепил каждую из партий в собственной правоте.
Все ждали дня свадьбы с одинаковым любопытством.
Не зная, чем можно порадовать будущую жену миллиардера, я слонялся среди полок ее любимого магазина, о котором она мне когда-то рассказывала, пока не увидел пару увесистых сережек синего стекла. У моей ба таких была целая люстра.
И вот день настал. На подступах к назначенному заведению меня охватила тоска. Откуда-то возникла ясность, что с минуты на минуту жизнь моя необратимо изменится, и предотвратить это никак нельзя. Я разозлился вдруг на то, что ничто нельзя удержать. Самое ценное неумолимо утекает, будто красивый вид за окном поезда, который не успел рассмотреть, и уже мчишься куда-то, все дальше и дальше.
На подступах не было скопления роскошных машин. Лишь длинный лимузин скучал неподалеку.
В дверях курила наша выпускающая. На моих глазах она дотянула одну сигарету и тут же зажгла следующую. Лицо ее выражало нечто странное, будто она, конечно, подозревала, но до конца не верила.
Я не стал расспрашивать и прошел в зал. Меня встретил бесстрастный распорядитель.
На пороге толпились сотрудники нашей редакции, некоторые сидели. За дальним концом длинного, уставленного угощениями стола расположилась Джулия в чудесном, сразу понятно, что каким-то большим мастером сшитом, платье.
Жениха нигде не было видно.
– Что же вы, девочки, ничего не едите. Французский повар старался. Белки с углеводами – иногда можно. Угощайтесь.
Увидев меня, она воскликнула: «А вот и ты!», назвав по имени-отчеству, и потребовала тост.
Официант не успел, и я налил себе сам из ближайшей бутылки.
Я сказал, что желаю ей счастья.
Сказал, что все мы любим ее.
Я хотел добавить еще что-то, но понял, что становлюсь похож на психолога, уговаривающего стоящего на подоконнике самоубийцу.
– Не правда ли, сегодняшний день оформлен совершенно в гамме Версаче? – то ли спросила, то ли сообщила Джулия. – Черный асфальт, желтые листья.
* * *
В клинике я ее навестил. Там все в застиранных халатиках бродили, и она тоже.
Стрижку покороче сделала и цвет изменила. У нянечки оказался парикмахерский талант.
На прощание она спросила, помню ли я, как похвалил ее ноги.
Потом Джулия выписалась и пропала. Говорили, родила от женатого и вернулась к матери в свой то ли лагерный, то ли курортный городок.
Прошли годы. Я познакомился с целеустремленной девушкой, мы задумались о жилищных условиях и потомстве. Первое должна была обеспечить доставшаяся мне от предков квартирка и мой же стабильный заработок, второе гарантировали ее фертильность и пышные эндометрии.
Тут наш издательский дом и закрылся.
Снова осень. И октябрь, как когда-то точно подметила Джулия, оформлен совершенно в гамме Версаче – черный асфальт, желтые листья. Вчера была прощальная вечеринка.
За прошедшие годы во мне проявилось семейное свойство – страх толпы. Дед мой тоже толпу не любил – служил командиром пулеметной роты.
Я устроился на галерке за полупустым, заваленным подсыхающими яствами столом. Внизу, в зале, шушукались, чмокались и угощались знать и рядовые почившего ИД. В том числе и моя бывшая главред. Нюх ее не подвел – уже пару лет назад, не дожидаясь унизительного увольнения, она соскочила. Теперь что-то курирует и кого-то консультирует на почетной марионеточной должности. На потолке было очень похоже нарисовано звездное небо, рядом сидели дамочки из разных редакций. Общим числом три: старая, молодая и бухгалтерша.
Я быстро выпил бутылку белого и раскрепостился. Наплел что-то старой. Она позвала в туалет, курить.
Отказался, я все-таки почти женатый человек.
Она ушла одна. Я порылся в ее сумочке. Помада, кошелек, таблетки. Ссыпал в рот сколько было.
Молодая смотрела с ужасом и восторгом. Бухгалтерша не заметила, ее увлекли выходки нашего, теперь уже бывшего, генерального, куролесящего на сцене в парике, который он, видимо, считал очень смешным.
Когда старая вернулась, я уже что-то шептал молодой, не забывая, впрочем, что я почти женатый человек.
Потом что-то им обеим, старой и молодой, не понравилось, они ушли, а бухгалтерша взялась меня жалеть. Мол, какие мы все бедные, за что же нас уволили и что теперь будет.
Культурно попрощавшись, я покинул помещение. Над головой снова чернело небо, в котором, вместо множества мелких звезд, была провернута одна большая луна.
Я трясся по разноцветным подземным веткам. Можно было бы на такси, но водители разговорчивы.
Дома встретила моя. Я предложил заняться размножением не откладывая.
Она не протестовала.
Передо мной стали мелькать старая, молодая, бухгалтерша и почему-то наш генеральный в своем парике. Пока я от него отмахивался, моя отодвинулась.
Сказала, что я теперь не только безработный, но еще и путаю ее с другими, один из которых мужик. Она так не может, и мне лучше убраться.
* * *
И вот я лежу на полу в соседней комнате, под бабушкиной люстрой, которая занимает все пространство и весит не меньше тонны.
Когда-то она обошлась в целое состояние. Дед был хоть и пулеметчик, но перспективный. Ставка ба оправдалась. Ей бы на ипподром.
В юности она в общежитии кроватные ножки в жестянки с керосином ставила, чтобы клопы не наползли. Потом следом за Вторым Белорусским фронтом санитаркой подбирала еще дышащие красноармейские организмы. Там и встретила деда.
Старшим школьником я позвал приятелей, мы хлебнули, и как-то вышло, что я зацепил люстру ногой. Кажется, один из гостей поднял меня вместо штанги. Люстра лишилась части хрустальной бахромы, и я очень боялся, что ба мне устроит. А она, когда увидела, сжала мою руку своей цепкой лапкой и сказала, что в жизни главное…
Что же она сказала…
Не помню, но точно не чешский хрусталь.
Теперь никого из моих не осталось, смотрю на люстру и думаю, что в ней нет изъянов, даже сколы, нанесенные моей ногой, ее украшают.
Вот только хорошо ли она закреплена?..
Бетон состарился, искрошился, резьба на крюке наверняка ослабла, и бабушкины сбережения, дедушкин подвиг, все завоеванное и нажитое вполне может на меня обрушиться.
С кухни доносится запах кофе – надо бы бежать прочь. Хотя бы встать, водички попить, но шевельнуться не могу.
Лежу опухший и красивый, будто все уже случилось. Будто придавило меня синими кристаллами, и выбраться из-под них мне уже не суждено.
* * *
Я поднялся и, ослепнув на секунду от головокружения, сделал первый шаг.
Крещенский лёд
На следующий день после праздника Крещения брат пригласил к себе в город. Полгода прошло, надо помянуть. Я приоделся: джинсы, итальянским гомиком придуманные, свитерок бабского цвета. Сейчас косить под гея – самый писк. В деревне поживешь, на отшибе, начнешь и для выхода в продуктовый под гея косить. Поверх всего пуховик, без пуховика нельзя, морозы как раз заняли нашу территорию.
Только выхожу за ворота, а староста нашей деревеньки Петрович тут как тут. Весь православный люд ночью окунулся, я же святым ритуалом манкировал. В жизни не окунался. Холодно. Староста описал ночное купание весьма живописно:
– Да ты окунись, окунись! Я вижу, у тебя крестик на шее, – говорил по-свойски староста, хотя на шее у меня в тот день, кроме трехдневного засоса, да и тот глубоко под шарфом, ничего не было. Я спорить не стал, эти верующие сейчас такие ранимые, только их чувства оскорбишь, они тебе петлю на шею вместо крестика. Петрович в очередной раз что-то мутил:
– Надо нам объединяться… – произнес он и многозначительно умолк.
– А что случилось? – спросил я, беспокойно поглядывая в сторону остановки – как бы автобус не пропустить.
– Дай им волю, они наше озеро засыплют и синагогу поставят или памятник Холокосту своему, – он кивнул на дом между его и моим. – Вон, в Птичном, уже детки черненькие по улицам бегают!
Все жители деревеньки нашей считают владельцев дома, что между мной и Петровичем, евреями. Слух пустил Петрович. Не без участия моей матушки. Они вместе обсуждали какие-то вопросы деревни, канаву, что ли, водоотводную копать общими силами собирались, и «евреи» отказались деньги на канаву сдавать. Канаву так и не выкопали, а слушок пошел. Матушку мою не нагреешь, она еврея за версту чует. «С папашей вашим обожглась, зато поумнела», – говорит она нам с брательником, когда вместе собираемся. Думаю, мать права, домик и людишки тамошние очень странные. Одних телевизионных антенн пять штук висит. Как на радиолокационной базе, ей богу. Ну ладно две – одна для обычного телевизора, другая для еврейского, но пять-то зачем? Да и с нами у них нехорошо получилось, спор из-за земли вышел. Петрович сделал неправильные замеры, евреи, или кто они там, поставили забор, но вскоре обнаружилось, что забор сдвинут на полметра в нашу сторону. Петрович сразу позабыл, кто замерял, и накинулся на евреев с обвинениями. Мол, нечего было спешить забор городить, надо было сначала геодезистов вызвать, чтобы они все по спутнику выверили. Так переполошился, будто у него землю оттяпали, а не у нас. Но на то евреи и евреи, чтобы первым делом ото всех отгородиться. Боятся они всех, что ли, или скрывают чего? Короче говоря, хоть староста и ошибся в замерах, но землю у нас оттяпали незаконно, по-еврейски как-то. Приезжали комиссии, перемеривали, пришлось евреям забор передвигать. Передвинуть передвинули, но осадочек остался.
С тех пор Петрович, у чьего деда еврейские комиссары в свое время отобрали мельницу, взялся за дело всерьез и стал выводить на чистую воду все их еврейские секретики. То они в лес мешки с химическими отходами сбрасывают, то в гараже своем поддельную стеклоомывательную жидкость разводят.
Обеспокоенная нарастающей в деревне антисемитской кампанией, тамошняя женщина с горбинкой, в смысле, что на носу у нее горбинка, еврейская женщина, короче, позвала нас с матерью на чай – продемонстрировать свой миролюбивый настрой, а заодно и то, что никакого подпольного цеха они не держат и радиоактивных отходов не хранят. Плюс загладить инцидент с землей. Дом оказался довольно путаным, с какими-то ходами и переходами, которыми женщина очень гордилась, но главным моим впечатлением стал не дом и не зефир в шоколаде, а знакомство с отопительной системой.
Система располагалась в цокольном этаже и представляла собой помещенный в желоб, длиннющий и достаточно широкий в обхвате винт, наподобие тех, что крутятся в мясорубке. Винт этот следовало кормить дровами, которые он сам перемалывал и отправлял в топку. Она и нагревала жидкость, бежавшую по трубам еврейского дома. Хозяйка торжественно включила механизм, и тот начал с хрустом крошить поленья из русских березок и отправлять их в огонь. Хозяйка раскрыла перед нами топку. Пахнуло так, что ресницы оплавились, и мы отскочили. Показалось мне в то мгновение, что гостеприимная еврейка – на самом деле коварная колдунья, которая заманила нас и теперь изжарит, подаст своему сыну и всему своему кагалу на ужин, и обглодают они мои бедные, тоже, надо признаться, не совсем русские косточки, и закопают тайно в лесу, и только Петрович будет об этом знать, да никто ему не поверит.
– Перемалывает и сжигает! – ликовала хозяйка. – А золу на огород!
Тут гигантское сверло заскрежетало, взвизгнуло и замерло. Стали изучать, ничего не поняли.
– Надо вызвать мастера, – заключила мать и заторопилась.
Мы поспешно откланялись. Позже узнали, что хитрый механизм заклинило – подавилась еврейская машинка русскими березками. Исправление агрегата встало бы так дорого, что решено было заменить систему отопления на обыкновенную электрическую, на огород ничего не ссыплешь, зато работает. Почивший же дьявольский винт так и остался в доме, демонтаж его требовал разрушения стен. Топку тоже решили не трогать, приспособили для сжигания мусора. Наверняка и токсичными отходами не брезгуют, нет-нет, да сунут в огонь что-нибудь токсичное.
У матери с евреями особые отношения. Из-за моего папаши. Никаких памятников Холокосту он в жизни не строил, его проект участвовал однажды в конкурсе на очередной такой памятник, но не выиграл. Отец предлагал где-то в Польше или на Украине огромный крест поставить, но евреи не согласились. А сам он не то чтобы еврей, просто от деда фамилия досталась своеобразная.
Отец никогда себя евреем не считал. Даже на лечение в Израиль ехать отказался. А я милым ребенком был, это потом вдруг шнобель отрос и вся рожа какой-то нездешней стала. Недаром наша еврейская соседка в тот раз все зефиром меня потчевала – почуяла своего. Вообще у меня между отражением в зеркале и внутренним миром большие противоречия. Если б я выглядел, как мой внутренний мир, мог бы запросто викинга в кино исполнять. Тем более мать не еврейка. Из-за чего, кстати, пейсатые меня за своего не признают. Зато все остальные к ним причисляют. А какой я еврей, только нос и фамилия – Израиль.
Братец же мой старший, Серега, кстати, не Израиль, а Подковкин. Хотя с виду он как раз больший Израиль, чем я, копия отца: шнобель, очки, лысина. Родители ему материнскую фамилию дали, чтобы с институтом проблем не было, а я уже в пору демократических перемен рос. Мальчишкой я однажды спросил мать, почему я Израиль, а не Подковкин, а она ответила ласково: «Не твое собачье дело». Позже узнал: мать в Израиль планировала, там пенсия выше, меня в качестве неопровержимого аргумента растила, приговаривая: «Хоть какая-то польза от папаши будет». Но сборы затянулись. До сих пор собирается.
А Серега Израилем просто не выжил бы. Он и так псих. Я в принципе тоже. Но он больше. Наверное, потому, что на десять лет старше. У нас в стране каждое старшее поколение больше не в своем уме, чем последующее. И все в целом психи, потому что родители-психи детям диагноз передают.
– Кого отец любил? Маму? Нас? Эту свою, последнюю? Или вообще никого не любил. Не понимаю… – рассуждает Серега.
Я таки до города, до брательника своего, добрался. Сидим перед низким столиком, на котором помимо купленных мною закусок три большие банки соленых огурцов стоят.
– Холынские. – Серега взял одну банку, колыхнул.
Огурцы выплыли сонными рыбами из рассольной мути и стукнулись тяжелыми лбами о стекло.
– Редкий деликатес. На работе ценители угостили. Знаешь, как их солят?
Я покачал головой, секрет засола холынских огурцов мне неизвестен. А Серега ботан, все знает.
– Есть такая знаменитая деревня – Холынья, там уже полтыщи лет огурцы солят в бочках, которые зимой держат в реке, отчего огурчики просаливаются по-особенному, становятся крепкими и хрустящими, – сообщил Серега, будто читая статью из Википедии.
Тут бы просунуть руку в стеклянный ободок баночного жерла, достать по огурчику, откусить. Серега даже банку открыл, но вовсе не для того, чтобы выудить закуску. Все пространство поверх рассола и под самую крышку было заполнено пышной, пенящейся, словно ванна какой-нибудь телезвезды, плесенью. Только сняли крышку, пена встала шапкой и комнату наполнила густая вонь, от которой, без преувеличения, сразу стало некуда деться. Серега крышку тотчас обратно нахлобучил, но все равно пришлось проветривать. И выпить, чтоб от холода не околеть.
– Папа меня к огурцам приучил. Помню, я малышом был, мы с ним рассаду сажали, потом в парник на майские, а потом рыщешь рукой среди листьев, нащупываешь. Крепкие, колючие немножко, как женская ножка.
Я скосился на Серегу, но он своих аллюзий эротических не разъяснил.
– Давай эту понюхаем, – Серега другую банку придвинул. – Еще он закатывал.
Соление огурцов было папашиной страстью. Хотел быть русее русского, огурцы солил, косой любил помахать, разве что в плуг не впрягался.
Серега откупорил банку, на дне которой плавало два-три заготовленных овоща. Гладь рассола покрывал красный бархат. Плесень была не такой пышной, как у холынских, зато радовала редким, богатым цветом. В нос ударил пряный аромат. Поплыли мысли об аэропортах восточных стран и тамошних борделях.
– Меня отец не хотел. Да и мама, кажется, тоже, – вздохнул я без всякой грусти, а скорее с весельем человека, который давно пережил яркое событие и теперь рад: есть чем прихвастнуть. – Пошла делать аборт, и врач просто дал ей таблетку. Ранняя стадия, таблетки достаточно. Через неделю пришла провериться, таблетка не помогла. Тогда назначили процедуру. И тут у них что-то там сломалось, кажется, кресло. Назначили на другой день, но она больше не ходила. И вот он я! Наверное, из-за этого мне никакие таблетки не помогают.
Серега покивал не глядя. Я ему благодарен, что не перебивал. Знает он эту историю. Мать каждый мой день рождения ее рассказывает. Серегины воспоминания про огурцы мне тоже наизусть известны. Тем не менее выпили за Крещение и за обстоятельства, позволившие мне родиться на свет. Сработай тогда таблетка, не сломайся кресло в медицинском кабинете, не нюхать мне плесени знаменитой холынской, не вдыхать закисшего папашиного рассола. В третьей банке плесень была и не плесень вовсе. Так, пузыри.
– Нюхнешь? – Серега протянул мне банку. – Тоже папашины. Еле от матери сберег, в унитаз хотела вылить!
Матушка наша иногда наведывается к своему старшенькому, прибирается, продукты привозит, ходит с ним в магазин новую одежку прикупить.
Нюхать я отказался. Чего там нюхать. И без нюхания ясно – пахнет кислятиной и нищим прошлым.
Серега снял крышку. По комнате разнесся тонкий аромат ранней весны, в котором смешивались запахи запревших под снегом листьев, распускающихся цветов и тел усердных дворников, подметающих улицы. Показалось даже, что аромат остановил мороз, лезущий в приоткрытое окно.
Насладившись обонятельной дегустацией, мы прошли по протоптанной по полу дорожке на кухню и поставили банки на подоконник. На место их постоянной приписки. Серега в этой съемной однушке только спит, остальное время на работе, выходные с сыном. Передвигается одними маршрутами, оттого и дорожки образовались. Как на садовом участке. Легко можно вычислить передвижения хозяина: кровать – туалет – кухонный стол – раковина. Тропки различаются довольно явственно, давно мать не приезжала.
– Не могу выбросить. Посмотрим, что через месяц будет. – Серега погладил банки. – Мне иногда кажется, что из этой плесени кто-то родится.
По своим следам вернулись к еде и напиткам. Так, ступая след в след, ходят по снегу и грязи разведчики. Серега из-за своего немного маньяческого взгляда и вправду походил на еврейского диверсанта, отправившегося по русскому снегу в арабский тыл.
– Думаю, они из-за тесноты разошлись. Однушка, двое детей, ссоры. Мать просто взяла и уехала в деревню. А эта, его последняя, была против того, чтобы мы общались. Боялась, мы на квартиру претендовать будем. Только недавно стали видеться. Он не сразу мне позвонил, когда диагноз узнал. Неудобно, говорил, было, вроде как я ему понадобился, только когда приперло… Знаешь, что он сказал мне перед тем, как… это?
Брат запрокинул голову, приоткрыв рот и закрыв глаза. Типа умер.
– Он сказал: «Будь здоров».
Мы выпили. И погрузились в думы. Особенно Серега, у него к раздумьям склонность. От умственной натуги глаза его взбухли, морда зажглась бурым.
– А что там, кстати, с квартирой?
– Все этой своей оставил. Я у нее попросил что-нибудь на память, угадай, что она мне дала?
Серега подошел к шкафу, порылся, вытащил куклу Буратино с тряпичным туловищем, тонкими ручками-ножками-шарнирами из гладкого дерева и круглой головой. Без носа.
– Узнаешь?
Для меня встреча с безносым Буратино стала вроде очной ставки палача с жертвой. Это была любимая игрушка Сереги. Когда я начал ползать, отец решил, что длинный острый нос Буратино опасен для меня, и отрезал его. Положил голову Буратино на колено и спилил ему нос.
Серега протягивал мне Буратино. Деревянные ручки, ножки и изуродованная голова свисали.
– Зачем он это сделал? – спросил Серега.
Так на агитплакатах обезумевшие матери спрашивают фашиста, зачем он заколол штыком их дитя.
– Серега…
– Ты не виноват.
Брат всучил мне куклу, обхватил голову руками и начал тосковать.
– Он говорил, я не его сын. Не похож на него.
– Он шутил, – успокаиваю брата. – Ты вылитый отец. Нос, очки, лысина. Просто он не мог признать, что сам выглядит так же.
– Надо уезжать. Не могу я больше здесь, – сказал Серега, вскочил неожиданно – и к вешалке.
Есть у него пунктик – в даль рвется. В пустошь какую-то. Или пустынь. В леса. По святым местам. Подальше. Смысла жизни искать. У него это всегда было, но как жена ушла – обострилось. Однажды он аж до вокзала добрался, где я его и подобрал. Проку никакого, только мать волнуется.
Над вешалкой, как специально, картинка висит, забыл, какого художника. Французы в обрывках мундиров, замотанные в какие-то тряпки, бредут сквозь русскую метель.
Я перекрыл дверь своим телом.