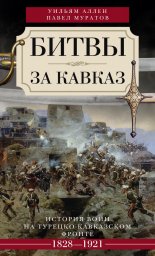В лесу было накурено Зеленогорский Валерий
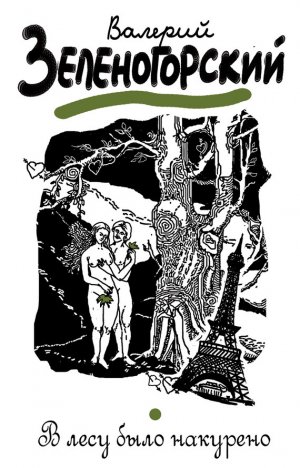
Король, лев и змея
Пришлось однажды решать задачу, описанную в учебнике по логике, — про поиски льва в Африке. У меня задача была полегче: льва надо было найти в России. Разница состояла в том, что учебник предлагал такой алгоритм решения: последовательно разделить территорию Африки на две части и далее по схеме дойти до участка два на два, где стопроцентно находится лев. В России так льва искать бессмысленно в силу своеобразия территории и особенностей национального сознания: по учебнику у нас ничего не найдешь, а в конце поиска сам окажешься в данном квадрате вместо льва, а лев в это время будет на гастролях в Орле.
Планировалась презентация автомобильного концерна, у которого на капоте эмблема льва. Требовался живой царь зверей для экшна, запланированного в цирке на Вернадского. Идея была создать образ изделия, которое в воде не тонет, в огне не горит — вообще шедевр человеческого разума. Называлось это шоу «Три стихии». В цирке есть бассейн и лед, а пламя пиротехники обещали согласно выделенной смете.
Все складывалось хорошо, но загвоздка состояла в том, что в эти сроки на всей территории России не было свободного льва — тигров и слонов навалом, а львы в дефиците. Клиент не соглашался на замену живого льва компьютерной куклой, не хотел тигра, загримированного львом, хотел льва. Дело было под угрозой, и мой продюсер поставил вопрос однозначно: или лев, или у нас будет другой менеджер проекта.
Найти льва стало для меня делом чести и профессионального мастерства. Как всегда, я лег на диван для мозгового штурма. Штурма не получилось, мозговая атака захлебнулась через пять минут молодецким храпом. Я проснулся, а лев еще не пришел, хотя твердо обещал мне во сне, что придет за обещанный гонорар в виде северного оленя — он хотел его попробовать. Чуда не случилось, пришлось работать над этой проблемой.
Я пошел в цирковое ведомство, которое руководило всеми львами на территории бывшего СССР. Самым главным там был дрессировщик тигров, и поэтому с ним говорить было не о чем. Случайно на задворках здания я увидел вывеску «Отдел кормов», толкнул дверь и попал туда, куда хотел. Прошел мимо птиц, без сожаления пробежал мимо морских млекопитающих, на ходу отвергнув симпатичный вариант с морским львом — их в наличии числилось шесть, — и вот передо мной оказался заведующий сектором хищников.
Заведующий был на больничном, его обязанности исполнял старший менеджер кошачьих, и я со львами его раздражал, но мой взор и мяуканье про гонорар заставили его смириться. Я зашел издалека и спросил, глядя в небо:
— А что за хуйня у нас со львами?
Вопрос попал в самую точку: делать им на работе давно уже было нечего, их время, когда перед ними кланялись народные и заслуженные, прошло и перспектива обсудить тему дефицита львов во всероссийском масштабе со мной их оживила. Первая версия инспектора по голубям была экстравагантной. Он намекнул на закрытое решение Политбюро, которое пролоббировала еще Галина Брежнева: сократить поголовье львов на арене из-за нежелания руководителя львиного аттракциона вступить с ней в преступную связь на гастролях в Сочи в 75-м году. Вторая версия вообще была дикой, ее выдвинул инспектор по кормам лошадей, бывший прапорщик-кавалерист. Он сказал, что львы с зарубежных гастролей провозили в своих желудках до пятидесяти килограммов мохера, и из зависти дрессировщики собачек и слонов, чьи животные мохер на дух не переваривали, написали телегу в ЦК — меры приняли. Дальше я пресек дискуссию и спросил, где взять льва. Все почесали репу, и один незаметный труженик кормопланирования вспомнил, что в Орле есть на пенсии лев, живущий на задворках ремонтирующегося цирка. Он сказал:
— Надо искать Гришу, он сможет, он король.
За 200 рублей я получил телефон Гриши и, выйдя из здания, набрал заветный номер.
Трубку он взял сразу — он делал это всегда, ожидая, что каждый звонок окажется судьбоносным. Он что-то жевал, но голос его был бодрым. Я кратко обрисовал проблему, он без паузы и кокетства ответил:
— Мне штуку, льву семьсот, питание льва и расходы триста.
Я не спорил — в смете на аренду льва мне осталось 3 тысячи, это меня устраивало.
Мы еще немного поговорили о деталях, и я узнал кое-что о Грише и его творческом методе.
Он попал в цирк после перестройки, до этого трудился в мастерской по изготовлению надгробий и памятников, снабжал мастеров материалами, но особенно ему удавалось общение с клиентами: он умело убеждал их заказывать мрамор вместо бетонных изваяний. Учитывая, что работал он со скульпторами и поэтами, он считал себя натурой творческой и даже сам написал несколько эпитафий, чем и прославился.
Он много читал в детстве и запоминал, его метод стихосложения был прост и изящен: он брал эпитафии известным людям и, слегка подправив, предлагал обеспеченным горожанам. Кое-кто, прикупая место заранее, покупал и Гришину эпитафию.
У него была универсальная болванка — эпитафия Нины, жены А. Грибоедова: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?»
Гриша менял русскую память на армянскую, мордовскую, подпись тоже была универсальной: муж — жене, жена — мужу. Все шло на ура.
С кладбища пришлось уйти, когда пришли бандиты. Гриша делиться не хотел и ушел в цирк — там было спокойнее.
На новом месте он быстро освоился, работу замдиректора по общим вопросам понял буквально и делал что хотел. А особенно ему удавались частности на почве личного интереса. Директор его уважал за месячный конверт и личное обаяние.
В назначенный день презентации он позвонил и сообщил, что «груз 300» прибыл и он поехал на рынок за мясом для льва. Спросил, не надо ли мне вырезки на шашлык. Я решил не объедать льва и взять деньгами.
В обед я приехал в цирк, где произошла наша встреча с Гришей и со львом. Оба персонажа меня не удивили. Лев имел неплохой товарный вид, а Гриша полностью соответствовал моему заочному представлению: это был коренастый и крупный сорокалетний мужик, на вид бывший борец на пенсии с глазами героя плутовского романа.
Гриша познакомил меня со своей творческой группой: основной персонаж — дрессировщик, мужчина в годах, активно пьющий, у которого все в прошлом. Он когда-то имел успех со своим аттракционом, но звери его умерли, на новых хищников у него денег не было, вот и остался он не у дел, осталась у него маленькая пантера, которую он воспитал дома.
Молодая хищница подросла, однажды махнула лапой на хозяина, и он понял, что пора начинать курс дрессуры собственного изготовления.
Он пошел в сарай, взял железный лом и аккуратно ударил пантеру по лбу ровно два раза — и все, кошечка стала шелковой и больше на хозяина хвост не подымала.
После дрессировки она была готова к работе моделью для съемок в местном гипермаркете, где после димедрола спала на цепи у фонтана и фотографировалась с разными идиотами покупателями. Этим дрессировщик кормился, а поездка в Москву — это уже искусство. Были два ассистента — охранники из цирка, они приехали посмотреть Москву и боялись только милиции, так как числились в федеральном розыске.
Час презентации настал, цирк трещал от гостей, на халяву пьющих шампанское от автогиганта, лев нервничал от посторонних запахов, Гриша, наоборот, был спокоен и убеждал меня, что лев не подведет. Так и случилось: под барабанную дробь он прошел два круга в лучах прожекторов и совершенно очаровал французского посла и всю ложу гостей. Зрители ждали трюков, но не получили, так как трюки — это уже другие деньги и другие львы.
Я был совершенно опустошен, и мне требовался экшн, и я его получил. За неделю, проведенную в цирке, я осмотрелся и заметил артистку, работающую редкий номер «Женщина-змея» — это акробатический этюд, когда женщина сворачивается в неприличные позы и не поймешь с ходу, где голова, а где жопа.
Я с ней познакомился, неделю с ней шутил и намекал на зарубежный контракт в Эмиратах, предполагая, что это искусство им будет по душе. Женщина-змея не отвергала меня, но ждала более весомых предложений, я решил и сделал.
В холле цирка в ювелирной лавочке я купил скромную цепочку из золота невысокой пробы и пошел проводить кастинг на зарубежные гастроли. Змея цепочку приняла благосклонно, и мы укрылись в гримерной комнате для творческого контакта.
Девушка начала работать номер, и когда ее голова оказалась у нее между ног, я понял, что мечта моя сбывается на моих глазах: мне всегда не хватало в позе сзади глаз любимого человека, а тут все рядом. Все случилось спонтанно, как в кино у Тинто Брасса: я сыграл в красное и черное, где в этой комбинации всегда джекпот.
Белые трусы с красными лампасами
Нижнее белье в жизни человека имеет магический смысл, власть всегда следила за населением на предмет, что у него в штанах. Унификация и системный подход к исподнему привели к установлению четкого порядка: мужская линия состояла из трусов и кальсон. Кальсоны были предпочтительнее, их носили все: и военные, и штатские. Летние тонкие и зимние теплые трусы были редкостью — только черные и синие, а после Двадцатого съезда появились цветные с цветочками и мелкими овощами (огурцами, редькой, арбузом).
Плавки тоже были: трусы до колена подворачивались до талии — и вот тебе плавки. Кальсоны, конечно, душевнее, их фасон был универсальный: спереди щель для мелких надобностей, на поясе пуговка и внизу, на щиколотке, завязки, которые торчали из-под брюк, вызывая здоровый смех и смущение обладателя. Более унизительное, чем кальсоны, придумать было сложно, их покрой давил на человека больше, чем «Манифест» К. Маркса.
Без трусов человек был беззащитнее перед властью, и поэтому долгое время народ прожил в кальсонах, находя в них особую прелесть. До сих пор кальсоны оставались привилегией армейского сообщества — не зря говорят, что у России есть два друга: армия и флот.
Переход от кальсон к трусам — это мейнстрим и залог необратимости демократии. Сергеев всегда хотел белые трусы с красными лампасами и первый раз надел их на первом курсе института, выступая за курс в турнире по волейболу. После турнира трусы не сдал и оставил их для выходов в свет темной ночью — для усиления своей притягательности. Он заметил, что когда на нем эти трусы, женщины к нему более благосклонны. Каким органом они это улавливали, он не понимал, но статистика упрямо свидетельствовала о наличии данного феномена. Лучшая девушка факультета, приехавшая из ГДР, где ее папа стоял против войск НАТО, обратила на него внимание, пронзив его взглядом, полным надежд. На следующий день Сергеев, с пламенеющим взором, но в старых сатиновых синих трусах, ждал большого перерыва, чтобы сделать непристойное предложение. Белокурая Жази прошла мимо него, не оставив ему никаких надежд увидеть ее без одежды.
Сергеев осознал это и стал беречь трусы, как алхимик секрет философского камня, тем более что по философии у него дела шли плохо: он не понимал диалектики — почему одним все, а другим ничего? Но зачет сдал за две бутылки вина, поднесенные лаборантом кафедры доценту — тайному метафизику и алкоголику.
Ну что ж, оставим эти трусы в покое — они еще выстрелят в нашем рассказе, как ружье у Чехова.
Сергеев в институте никого не любил, последствия школьного романа, сделавшего из него зрелого мужчину, не давали ему достойных образцов для высокого чувства, пришлось довольствоваться низким, то есть волочиться за однокурсницами, чтобы не потерять квалификацию.
В группе у Сергеева училась девушка Л., умная, но не очень симпатичная. Все у нее было на месте и в полном комплекте, но гармонии не наблюдалось — нос был чуть длиннее, ноги чуть короче и грудь в масштабе 1:5 от желаемой. В трезвом виде эта композиция не вызывала желания, но в пьяном обличье взгляд корректировал огрехи природы, и если по другим направлениям не складывалось, то тогда на сдачу оставалась Л., ожидавшая своего часа.
Так продолжалось все годы учебы, и выпускной вечер стал точкой в этом сложноподчиненном положении. Сергеев, начищенный и блистающий новым костюмом из ткани нейлон финского производства, слонялся среди однокурсников, пребывающих в легком возбуждении.
Вручали по списку. Ректор, профессор по неорганической химии, был неплохой человек, он мог руководить цирком и хлебозаводом, но судьба забросила его в высшее образование, и он в нем чувствовал себя хорошо, его диссертация «Марксизм-ленинизм и неорганическая химия» для всех первокурсников была настольной книгой. Дошла очередь до Сергеева. Ректор назвал его фамилию, и пока он шел к президиуму, секретарша что-то шепнула, и ректор пожал руку Сергееву, но диплом не дал, велел зайти завтра.
Сергеев все понял: он не сдал трусы на спорткафедру, и они встали барьером на его пути к высшему образованию.
Сергеев позвонил домой и сказал маме, что в дипломе обнаружилась опечатка и завтра обещали исправить, зашел в спортзал, нашел старого мудака Степаныча, который не подписал обходной лист, и за пять рублей устранил препятствие на долгой дороге к знаниям, которые в жизни ему не пригодились — диплом долгие годы был прибит в туалете гвоздями, каждый день напоминая, что знание умножает печаль.
До осознания вышесказанного прошло немало лет, а в тот день еще надо было пережить ужин в ресторане и попрощаться со своим «царским лицеем» и его обитателями.
Никакой грусти и печали у Сергеева по этому поводу не было. Юноши напились довольно быстро, девушки в платьях до пола выглядели невестами, многие к пятому курсу стремительно вышли замуж, чтобы не уезжать из столицы в свои Пырловки. Жизнь налаживалась. Сергеев пошарил по залу и наткнулся на Л., угрюмо взиравшую на происходящее. Она в этот день тоже постаралась и выглядела неплохо. Сергеев подсел к своей долгоиграющей подружке, понимая, что она ждет от него сокровенных слов и конкретных действий.
Решение упало на голову, как яблоко И. Ньютону: надо наконец дать девушке надежду и отнять то, чем они все безосновательно гордятся, то есть честь. Это заблуждение Сергеев решил устранить, открыв девушке новые горизонты, так как старые уже препятствовали постижению новых далей. Девушка почувствовала предстоящее, и ее основной инстинкт сообщил разуму, что спорить не надо. Она выпила стакан вина, чтобы помочь разуму справиться с этой новостью. Разум понял и ушел в тень до утра.
Сергеев и Л. покинули ресторан и пошли домой к Л. — она жила с родителями, людьми долга и твердых нравственных убеждений. Блядство они не поощряли, но дочь решила, и остановить ее мог только несчастный случай, который, естественно, пришел неотвратимо в лице Сергеева — неопытного совратителя. В доме было тихо. Родители спали, не ведая, что ждет их солнце и свет в окошке. Сергеев и Л. расположились на тахте в девичьей светелке, где Л. провела не одну бессонную ночь, мечтая о том, что должно произойти.
На столике в изголовье тахты стояла настольная лампа типа «колокольчик», включенная для интима. Девушке хотелось видеть глаза того, кому она собиралась отдать свою драгоценность. Сергеев стал снимать брюки и запутался в трусах. В самый решительный момент он дернул ногой, стаскивая трусы-оковы, и тут светильник-«колокольчик» упал, и острый край плафона рухнул на лицо бедной Л.
Раздался крик, и кровь полилась ручьем, все компоненты запланированного действа случились, но не в том месте — видимо, время для Л. еще не пришло и кто-то сверху остановил грехопадение, заменив на падение электроприбора.
Трусы вернулись в исходное положение, срочная госпитализация в травмпункт завершила эту незаконченную пьесу. Девушка стонала по дороге в больницу, теряя очарование. Сергеев понял, что сочувствует ей как прохожий и это не любовь.
Он отвез девушку домой, пожалел из приличия и пошел домой, сетуя на качество нижнего белья: если бы он имел те белые атласные трусы с красными лампасами, то они бы скользнули птицей в ответственный момент и все произошло бы иначе.
Много лет спустя он встретил Л. на рынке в Перово и увидел у нее под глазом шрам — последствие губительной ночи. Л. тоже заметила его взгляд и смутилась Он узнал, что она до сих пор не замужем, но стала большим начальником в управе. Они разошлись в разные стороны, и каждый унес в своей памяти ту ночь, когда между ними встали трусы отечественного производства.
Бабкин
Певец Бабкин был в первой двадцатке уже десять лет. Начинал он неплохо, на конкурсе в Ялте получил премию за песню, которую изящно украл у европейской звезды, слегка изменив припев.
Пышные волосы на всем теле привлекали толпы малолетних фанаток и теток восковой спелости.
Он выделялся на эстраде лишь тем, что мог спеть своим голосом и имел минимальное музыкальное образование (умел в отличие от других, поющих под магнитофон, а иногда и под чужую фонограмму, сыграть на балалайке «Светит месяц»).
Дела его шли хорошо: много концертов, много денег, но хотелось европейской славы Э. Джона и Робби Уильямса, хотелось так, что сводило яйца от зависти, и успех на родине лишь распалял эту страсть.
Он работал, сутками сидел в студии, многократно прослушивал песни великих исполнителей и не понимал секрета: простенькая мелодия из семи нот у них звучала, как симфония, а его выступления с симфоническим оркестром и многоногим балетом выглядели, как жопкин хор в Карнеги-Холл.
Все у него было, как у больших: лимузин длиннее, чем у Джексона, костюмов немерено, личный «фалькон», охрана из ветеранов подразделения «морские котики» и целая свора стилистов, визажистов, пресс-агентов и прочей шушеры, окружающей артиста, поющей ему, что он гений. Он не обольщался, зная цену этой гусенице-многоножке, переползающей от артиста к артисту, со съеденного дерева на зеленое и плодоносящее.
Бабкин был везде: на обложках глянца, на креме от морщин, на премиях «Грэмми». Выступал на лучших концертных площадках мира, получал музыкальные премии в Монако из рук принца, как самый популярный в России.
Кто знает, кто самый популярный в пиратской стране, да и стоила эта премия недорого — один концерт в Сургуте, и ты лауреат и поешь в концерте после Джексона, а за тобой какая-нибудь Марайя Керри. Ты поешь, а в зале удивляются: кто этот прикольный русский в блестящем? «Чувак думает, что он поет, хрен поймешь этих русских», — шелестело в зале.
Потом в «Новостях» показывали Бабкина в обнимку со звездами — он не радовался: понимал, что сам фотографируется со зрителями после своих концертов, а они потом показывают в своем Ульяновске, как дружат со звездой.
Коллеги-композиторы приносили тонны своих творений, но что ни песня, то торчат уши Маккартни или Стинга: случайно музыка навеяла.
Он начал сотрудничать с западными продюсерами, записываться в студиях Лондона и Майами, заказал костюмы у Гальяно.
Музыканты, записывающие мюзиклы Уэбберу, не понимали, чего хочет этот русский, кто он — нефтяник или банкир? — но русский платил хорошо, а за деньги они готовы были играть ревущему медведю.
На гастролях в Москве Э. Джона он просидел весь концерт, затаив дыхание, и пытался понять, как человек, сидящий спиной к залу за одним роялем, достигал такого оргазма.
После на закрытой вечеринке он умолил критика Двойкина, известного специалиста по западным звездам, представить его сэру Джону и, если тот разрешит, спеть для него свои новые хиты, купленные у композитора из Голливуда как отходы, не вошедшие в новый фильм.
Целый день Бабкина трясло, как Везувий, он не знал, что надеть, уже десять костюмов он отверг и к пяти часам решил надеть мундир маршала артиллерии, подаренный Министерством обороны за заслуги на генеральских банкетах.
Он зашел в ресторан «Марио» в белом мундире с золочеными пуговицами, и все замерли от восхищения. Сэр Джон даже не повернул головы, продолжая говорить со своим менеджером. Он был уже в пальто, когда Двойкин подвел его к трясущемуся Бабкину.
Сэр учтиво выслушал, что перед ним русская мегазвезда и у него десять платиновых дисков. Сэр удивился: у него было только семь. Бабкин, не знающий ни одного языка, таращил глаза и глупо улыбался.
Он церемонно снял китель со своих плеч, подал сэру Джону, желая поменяться, как футболисты. Сэр не понял, пальто не снял, а китель принял.
Бабкин юркнул за сцену, надел феерический костюм от Гальяно и запел; все хлынули к подиуму, где пел кумир, а сэр, испугавшись, что придется хвалить, ушел, оставшись без назойливого внимания, даже Двойкин пропустил исход гения.
Спев две песни, Бабкин вернулся в зал. Без Элтона стало как-то лучше, все встало на свои места. Все вкусно ели и пили — при высоком госте робели: черт их поймешь, этих нерусских.
На следующий день в газете «Жизнь звезд» вышел огромный разворот с фотографиями, на которых Элтона Джона, плачущего на последнем концерта своего друга Нуриева, совместили с лицом Бабкина. Вышло значительно и масштабно.
Почитатели гордились Бабкиным, а он остался недоволен неучтивостью Джона, так порядочные люди не поступают. «Ну что с него взять, с меньшинства?» — думал Бабкин.
Сам он себя ценил, сдал сперму в банк будущих поколений и генетический материал свой не транжирил.
В зрелом возрасте он занялся акробатикой и довел свое тело до фантастической гибкости. Это позволяло ему самому делать так, что его ДНК на сторону не уходила. Он осуществлял полный цикл, все сам — кому доверишь божественное тело?
Вскоре он стал замечать: чужие песни поют у него в голове, совершенно забивая его собственные мелодии. Он пошел к врачам, стал жаловаться, что голоса сводят его с ума, светила смущенно кивали и обещали помочь, но их рецепты не помогали.
Бабкин не мог выступать, он выходил на сцену, начинал петь, но далекие голоса от Фрэнка Синатры до Робби Уильямса сбивали его, хор этих голосов рос и множился, и в этом хоре Бабкин уловил грозное предостережение, смысл которого он понял кромешной ночью — ему они вынесли приговор: «Закрой рот, не нарушай вселенскую гармонию, твой голос лишний в нашем хоре!»
Бабкин перестал петь даже в душе, карающий меч витал над ним, но однажды он заметил, что на караоке это не распространяется, и теперь поет в свое удовольствие, и его ничто не беспокоит.
Две дамы с собачкой
Пять лет я наблюдаю за двумя дамами и одной собачкой неизвестной породы во дворе дома на улице пламенного революционера. В отличие от собачки дамы были породистыми: мама лет семидесяти с хвостиком и дочь пятидесяти лет без хвостика, с двумя исправлениями в паспорте в сторону уменьшения — для увеличения шарма и поблекшего очарования. У них все уже в прошлом: успех, благосостояние, личная жизнь. Они живут по системе 3Д: доживают, доедают, донашивают.
В прошлой жизни у них был папа, ангел-хранитель, советский ученый по канцтоварам, автор первой российской авторучки, которую изобрел его дедушка раньше Джорджа Паркера, 115 лет назад. Дедушка умер, секрет достался внуку, и он получил Сталинскую премию и квартиру на Песчаной площади в доме видных деятелей коммунистического движения.
В то благословенное время авторучку папы засекретили компетентные органы для неблаговидных целей, сделав из канцтовара стрелковое оружие. Таким образом на долгие годы мы лишились этого пишущего средства в угоду государственной безопасности. Папа-ученый трудился над шариковой ручкой, мама с дочкой отдыхали в поселке Узкое на академической даче, а в бархатный сезон ездили в Пицунду или Ялту, в «Ореанду», где отдыхал весь цвет советской элиты, включая творческую интеллигенцию. Мама нигде не работала, немножко рисовала, немножко пела, ну, в общем, дышала полной грудью, которая и в натуре была немаленькой. Дочка поучилась в инязе, вышла замуж за соседского мальчика, папа которого числился генеральным секретарем компартии Гватемалы. Мальчик родился в изгнании, мужем был недолго, но помнила его дочь долго за страсть и пьяные побои на почве хронического алкоголизма.
В конце пятидесятых годов папа чуть не пострадал за преклонение перед Западом — он переписывался со шведским ученым, соединившим карандаш с ластиком. Он вел с ним оживленный научный спор: что первично — карандаш или ластик. Они спорили уже двадцать лет, дружили, никогда не виделись, но стояли на разных идеологических платформах. Спасло папу, что он публично раскаялся на страницах журнала «Наука и жизнь», осудил своего шведского коллегу и заклеймил его, назвав фашистским наймитом американского империализма. Его простили, но дачу в Узком отняли и не утвердили членкором АН СССР.
Папа умер на два года раньше Брежнева, в год смерти Высоцкого. Его похоронили на Троекуровском кладбище, мама хотела Ваганьковское, но не вышло.
После папы остались на сберкнижке триста тысяч рублей, «Волга» с оленем и приличная академическая пенсия и паек. Жизнь их материально не изменилась, но без папы стало неуютно и грустно: он был единственным мужчиной в их жизни.
Несмотря на робкие попытки обеих кого-то найти, ничего не получалось, мешал образ папы, мужа и Святого Духа. Вскоре в доме появилась собачка, смесь лайки и колли, безумная любовь двух дам обрушилась на нее, как золотой дождь на поп-звезду. Собачка была скромной, не наглела и получала все и еще чуть-чуть.
Мама жила, уже давно находясь в дороге к папе, еженедельно посещая кладбище, где часами разговаривала с папой, высеченным в камне в полный рост и опирающимся на свою авторучку, как Стаханов на отбойный молоток. Она рассказывала ему новости о переменах в Политбюро, которые после Брежнева происходили очень часто, вся страна жила в ожидании очередных похорон и уже привыкла к проезду лафета с почетным караулом от Колонного зала до Мавзолея. Папе это, наверное, было интересно, так как газет в раю нет, а то, что он был в раю, мама не сомневалась.
Дочь каждый год ездила в дом отдыха «Шахтер», где ее утонченность и манеры высоко ценили передовики шахтерских коллективов. Они заряжали ее бодростью и энергией на всю зиму и позволяли переживать одиночество и печаль.
По инерции шились новые наряды и шляпки, без которых дамы не выходили даже за картошкой. Посещали консерваторию и театры, жили настоящей духовной жизнью и не заметили, как пришел 92-й год, когда дуэт Павлов — Гайдар станцевал на их сберегательной книжке зажигательную джигу и их вклад, стоящий шестьдесят машин «Жигули», сгорел во время этого полового акта, как свеча из стихотворения Пастернака. Тогда эти двое отымели всю страну и оставили тех, у кого что-то было, с голой жопой. Так бывает, когда мужчина груб и не думает о партнерах.
Вот тогда дамы вернулись на землю и поняли, что пришел настоящий пиздец.
Денег, которые оставил папа, должно было хватить на лет тридцать, а их не стало сразу и навсегда, они начали помаленьку продавать вещи из дома. Давали мало, через пять лет продали все и стали жить на пенсии — скромно, но не ругая власть и судьбу.
Ели мало, ничего не покупали, первая трата — это еда собачке, остальное как придется.
Помогал немного водитель папы: привозил с дачи картошку и овощи, вот и вся помощь братьев по разуму. Они никуда не ходили просить — стеснялись, да и просить было некого. Однажды на улице их уговорили кришнаиты ходить к ним в бесплатную столовую, но, сходив один раз, перестали: там им не понравилось — слишком долго нужно было петь перед едой, а это раздражало.
Каждый день я вижу эту парочку с собачкой, единственной родной душой для них, в парке или в магазине. Их взгляды полны нежности друг к другу, они не мешают никому, не сетуют на судьбу, просто доживают век рядом с нами, и никому до них нет дела. Когда-нибудь в хрестоматии по литературе начала XXI века о них напишут ручками, придуманными их папой и мужем, что они были лишними людьми, балластом времени перемен. Наверное, это так, но все-таки какой чудесный народ достается власти в России уже не одну тысячу лет!
Восточные сладости
В центре Москвы у храма есть ресторан «Восточные сладости» — ресторан пафосный, по нынешней московской моде: много дизайна, много понтов, атомные цены и персонал — сплошные визажисты и девушки, готовые в любую минуту сбросить фартук и прыгнуть в постель клиенту за хорошие чаевые, а если повезет, то и упасть в ту постель и самой ходить в свой ресторан в качестве гостя и торжествовать перед бывшими коллегами.
Рестораны Москвы — это отдельная песня: их все больше и больше, а поесть как было можно в считанных местах, так и осталось. Рестораны Москвы — это не место, где едят, — в них делают все, что угодно: позиционируют себя, снимают телок, нюхают кокаин, встречаются с людьми по делам — ну, в общем, как всегда, в России особый путь.
Молодые люди валом валят в официанты, крупье, сомелье и в салоны красоты. О проституции мы не говорим — это вообще религия нового поколения: продаваться на всех работах, лишь бы денежка была, эта орда услужливых тимуровцев не гнушается ничем. Мамы ведут пятилетних на кастинги, бабушка гордится внуком-стриптизером, муж — женой, делающей массаж с проникновением.
В нашей истории разговор не об этом. В таком ресторане работала пара ребят из Средней Азии: он жарил мясо на заднем дворе элитного ресторана, и именно на него ходили в этот ресторан люди, понимающие в еде. Он делал это так, как его дед, — без примочек про фьюжн и авторскую кухню, когда в русский борщ добавляют рукколу и соевый соус и называют этот рецепт именем повара, который распиарен, как поп-звезда, и стоит в зале и торгует лицом, загребая жар и бабки чужими руками.
Мальчика звали Меджун. Он жарил на заднем дворе, потом его творение несли на кухню, где украшали, поливали каким-нибудь говном и гордо выносили в зал втроем, устраивая шоу с серебряными крышками под дирижирование шефа — звезды ресторанных рейтингов.
Мальчик жарил двенадцать часов, потом мылся в туалете для персонала и шел спать в подвал, где не было милиции, но были крысы. Он гордился своим местом: в горной деревне, откуда его привезли, он спал во дворе, видел только небо, а здесь город, люди, машины, много магазинов с диковинными вещами. Первое, что он купил, был плейер. Он целый день слушал музыку и удивлялся, откуда в этой коробочке столько умещается.
Потом он купил кроссовки, джинсы и футболку, сделал стрижку, как у Д. Деппа, и молился каждый день за дядю, который его сюда привез.
К началу летнего сезона он попросил у администратора разрешения съездить домой. Ему дали три дня. Он приехал как звезда, его водили в каждый дом, и даже старики разговаривали с ним с почтением после того, как он рассказал, что каждый день видит Кремль.
Привезли ему девочку из соседнего села, она ему понравилась, они поженились через три дня, и он повез ее в Москву, надеясь, что ее возьмут в ресторан убирать туалеты.
Все так и случилось: она убирала, он жарил, а ночью в подвале они лежали на узкой раскладушке, он учил ее русскому, обнимал, обнимал, обнимал…
В выходной он повез ее на рынок, купил наряды и даже колечко у цыган — золотое, за 100 рублей.
Лейла — так звали его девушку — боялась всего: гостей, милицию, шума машин, но ночью в подвале она была царицей, и этого ей хватало на целый день, когда она протирала бесконечно сияющие толчки.
Гости ресторана ее не стеснялись, делали свои дела при ней, не закрывая двери, — они просто не видели ее, считая приложением к тряпке, которую она не выпускала из рук. Один раз толстый пьяный господин дал ей 100 долларов и предложил сделать что-то. Но она не поняла, он засмеялся, показал руками, что он имеет в виду, однако она и этого не поняла. Он ушел, но деньги не забрал. Вечером она отдала своему мужу 100 долларов и спросила, что хотел этот господин. Она повторила жест господина, и Меджун заплакал от бессилия.
Все было чудесно: в ресторане всегда были люди, они приезжали и уезжали, хлопали друг друга по плечам, целовались, как бабы. К вечеру приходили девушки, пили чай и ждали, когда мужчины напьются и захотят их на десерт вместе с коньяком и ягодами.
Они любили эти ягоды, и ягоды сами прыгали в их лакированные лукошки с федеральными номерами и пропусками «проезд всюду».
Лейла в туалете иногда встречала странных людей, которые через какие-то трубочки вдыхали носом белую пыль, и после этого на разных частях сияющих до блеска унитазов оставалась пыль, которую она оттирала каждый день. После посещений этих людей ей становилось как-то веселее, она начинала замечать, что ей нравится находиться в атмосфере этого облака. Однажды две уже знакомые ей девушки из постоянных клиенток ее кокаинового салона в туалете в шутку предложили ей понюхать. Она попробовала, и вечером в подвале ее муж удивился ее раскованной свободе и неистовости объятий. Девушки приходили часто, и Лейла их ждала, желая вдохнуть это и улететь в горы — так она ощущала кайф.
В мужском отсеке тоже витала пыль. Мужчина, который когда-то, смеясь, дал ей сотку, заметил перемены и дал пакетик с порошком, а она сделала ему то, о чем он просил в прошлый раз, а она не поняла. Теперь она все поняла и сделала.
Администратор узнал от своего стукача из официантов, что в туалете гости за порошок развлекаются с горной красавицей, и принял меры. Влюбленная пара оказалась на Казанском вокзале, и поезд «Москва — Душанбе» унес их в заоблачные дали Памира, где их судьба растаяла для нас.
Похороны в Риге
В нашей семье было три брата-небогатыря. Один мой единоутробный, непохожий на меня, второй старше на семь лет. Отец бил его смертным боем за каждую провинность, и я долго думал, что это семейная тайна, состоящая в том, что он не от папы и поэтому тот с ним жесток — нас с братом он пальцем не трогал.
Кровное родство между нами было, а дружбы не было, не было привязанности — у всех троих свои компании, встречались и прощались без поцелуев и слез, внешние проявления любви и нежностей не приветствовались. Лишь мама давала волю чувствам, отец был кремень; мама цементировала семью, была ее стержнем, ее хватало на всех: жертвенность, растворение в муже и детях — недостижимая планка для всех моих жен, коих было две, да и жен братьев тоже.
Такой же, по сути, была ее сестра тетя Роза, жившая в Риге с мужем, отставным военным охотником, пьяницей и бабником. Их сын был нашим ровесником, но Рига — это Париж против нашего Витебска. Брат был звездой, у него имелись собственная комната, магнитофон и приемник ВЭФ «Спидола». Он был красив, высок и жил в центре; семья моего рижского брата занимала три комнаты в огромной квартире то ли адвоката, то ли врача буржуазной Латвии. Остальные соседи числом три семьи были латышами, сидели тихо, но против оккупантов не выступали, просто ненавидели — и все.
Тетя из Риги для нас была многолетним праздником, она приезжала, когда мама лежала в больнице и нужно было помочь отцу пережить эти недели с тремя детьми. Она приезжала, как Дед Мороз, с подарками и огромным количеством диковинной еды, которая была только в Риге — и больше нигде.
Копченая рыба, твердый сыр с тмином, конфеты «Коровка» и много всякого чего — я уже не помню. Она мгновенно наводила порядок в доме, одномоментно стирала, жарила, парила, отправляла детей в школу, отца на работу, варила бульон и морс и шла в больницу к моей маме. Устанавливался покой и счастливые дни — вот такой человек был в нашей семье и теперь перестал существовать.
Мы ехали ее хоронить, не сказав об этом нашей маме, лежавшей в больнице в очередной раз.
Мы все трое к тому времени стали взрослыми людьми, имели семьи, но из близких у нас еще никто не умирал. Это была первая потеря, и мы ехали хоронить родную и любимую тетю на машине брата марки «Жигули» номер один, новенькой, купленной в результате титанических усилий и многоходовых комбинаций.
Мой старший брат — мужчина основательный и успешный, инженер-строитель, директор проектного института, член правящей партии, с моральными установками, что пить водку не в праздник грех, приходить домой надо до девяти вечера, запирать двери на два замка и спать, потому что завтра на работу, а работа — это святое.
Машину он водить любил со страстью Шумахера, но не умел катастрофически. Он за рулем был напряжен, как летчик-испытатель, преодолевающий в первый раз сверхзвуковой барьер, ничего не видел по сторонам, запрещал разговаривать пассажирам, и каждый километр, преодоленный им на дороге, приравнивался к подвигу. Зимой он не ездил, и поэтому при полном отсутствии способностей к вождению был опасен на дороге даже для конных повозок. Вот такой Козлевич достался нам в этом путешествии.
Выехали мы часов в пять утра. Это считалось очень мудрым: можно ехать без помех и пробок. Никаких помех тогда на дорогах не было, но есть особенность: чем меньше город, тем больше жители говорят о пробках, даже если светофор только один, возле горсовета.
На дороге машин почти не было, крейсерская скорость 50 км предвещала десять часов дороги, и мы стали вспоминать семейные истории, которые все знали наизусть, но всегда их пересказывали. В каждой семье есть домашние мифы и легенды, были они и у нас.
Первая история всегда была обо мне, как я в третьем классе в школьном лагере во время похода на другой берег реки потерял шорты и шел домой в трикотажных трусах по району, выбирая укромные места. Что в этом смешного, я до сих пор не понимаю.
Мне было стыдно и страшно, смеялись всегда все, кроме моей дочери, чувствительной, переживавшей за папу. Вторая история касалась моего старшего брата, который в седьмом классе написал отличнице-однокласснице записку с непристойным предложением, украсив это послание рисунком двух особей и позой, которая нравилась ему своей экспрессией. Записку изъяла классная, передала ее директору, вышел скандал, папа избил его, объяснил, что писать не надо, надо убеждать словами, а писать не дело: это документ, а следов оставлять не положено.
Третья история касалась моего брата-близнеца, с которым я спал до пятнадцати лет на одном диване в связи с отсутствием дополнительных квадратных метров для еще одной кровати. С тех пор я не могу спать с мужчинами — спасибо советской власти за антигомосексуальное воспитание, хотя в армии на сборах приходилось спать в палатках, прижимаясь к соседям, чтобы не сдохнуть от холода.
Так вот, многие годы мы проводили с братом по три смены в пионерских лагерях, где ковались характеры. Пионерлагерь был подготовительной школой выживания в тюрьме и солдатской казарме: туалет на двадцать очков с туалетной бумагой лопух полевой, на завтрак кофе с пенкой, вызывающей рвоту только от воспоминания о ней, и, конечно, ночные рассказы после отбоя в кромешной темноте о синей руке, женщине, поедающей детей, и сексуальные фантазии выпускников третьего класса, услышанные во дворе от старших товарищей, прошедших колонию малолеток, где они повысили свою квалификацию на ниве греха. Они показывали нам наколки и шары, вживленные в их причинное место, и мы сгорали от стыда и любопытства.
Так вот, мой брат простудился в какой-то день, купаясь до посинения в реке. В одну из ночей разбудил меня, дрожа от страха и ужаса, и показал свою мокрую постель, и я понял, что надо его спасать от дневного позора, когда вывешивают матрас для сушки, и все обсуждают, кто обосцался, и этому человеку жизни нет.
Я пошел в изолятор, влез в окно, забрал там матрас, матрас брата отнес на помойку, и так честь нашей семьи была спасена.
* * *
Дорога в Ригу катилась под колесами «Жигулей», старший брат, вцепившись в руль, как летчик Гастелло перед тараном, время от времени орал на нас, чтобы мы не разговаривали, не мешали рулить, но остановить наши воспоминания было невозможно.
Я всегда любил Ригу, где архитектура и остатки прежней досоветской жизни давали реальный пример, как могут жить люди в другой системе координат. Отдых в Юрмале в советские годы был нашим Баден-Баденом, Монако и Довилем. Кто-то еще помнит, как зажигали в кабаре «Юрас Перлас», где пела Лайма, осталось в памяти рижское пиво тех времен с черными сухариками, концерты в Домском соборе. Это была настоящая альтернатива хамскому Сочи и домам отдыха с танцами и бегом в мешках.
Сегодня я не хочу в Ригу из-за виз и паспортного контроля, а тогда хотел и любил этот город, как Париж, в котором не был.
Мы ехали в Ригу на похороны любимой тети, и грусть и смех перекатывались волнами в наших душах. К ночи мы подъехали к городу, и тут началось невообразимое. Наш драйвер никак не мог найти дорогу в центр, где жили наши родственники, раз за разом он промахивался в нужные повороты, мы орали на него, он на нас, потом я остановил это безумие, позвонил рижскому брату. Тот сел в свой «Запорожец» и привез нас в скорбный дом.
Мы сели за стол, помянули тетку, после третьей рюмки наш старший брат, измученный дорогой, пошел спать, сказав, что завтра трудный день и пусть все тоже ложатся.
Теткины родные слегка удивились, но спать не стали и продолжали пить. Я остался с ними.
Мы пили до утра без слез и рыданий, и в этом молчании было столько тоски и грусти, что слова и слезы не стоили ничего. Брат иногда бил в стену и призывал закончить: он любил порядок и не понимал, как водка может утешить.
На следующий день все, разделившись на группы, занялись похоронными делами. Мне достался морг. Нужно было забрать тело. В морге я до этого ни разу не был, но страха большого не испытал. Мы приехали, передали вещи, заплатили за ритуальные манипуляции — сегодня всегда есть люди, которые за деньги четко и грамотно все исполняют и не мучают, как в прежние времена, когда семья оставалась с горем и заботами одна. Я за свою небольшую жизнь вынес столько гробов, что смело мог бы быть специалистом по ритуальным услугам.
Днем были похороны на Братском кладбище, потом в столовой завода, где работала тетя, были поминки. В Латвии они имели европейский колорит, люди приходили, поминали и уходили, никто не сидел часами, не снимал пиджаки и не ждал горячего и анекдотов на десерт.
После поминок мы вернулись домой, и тризна продолжилась в семейном ключе.
Сели за стол и неспешно, без посторонних стали выпивать, не произнося речей и слов, которые никогда не описывают состояние горечи от утраты, а, наоборот, только опошливают банальными сентенциями и не дают в скорбном молчании пережить случившееся.
Старший брат ушел спать — он готовился к дороге и, уходя, в очередной раз заявил, что хватит пить, пора спать. Никто не услышал его праведного гнева, и пьянка набрала новые обороты.
Напряжение прошедших дней стало уходить, и наступило спокойствие, и потихоньку разговоры плавно перетекли в житейскую плоскость, когда живые пока еще люди возвращаются в обыденную жизнь, где есть все: радость и боль, смех и слезы.
Стали вспоминать истории рижской семьи, ее мифологию, легенды и предания.
Отношения отца и сына нашей рижской родни отличались от нашей патриархальной.
Отец и сын были друзьями, вместе охотились, мой брат с детства водил машину, стрелял на охоте, пил с десяти лет и с тринадцати путался с бабами и преуспел в этом. В семнадцать он первый раз женился, а через год у него был ребенок, и он против нас с братом числился центровым, серьезным взрослым человеком с биографией. Мы его уважали и гордились им.
Они с папой были друзьями. Когда тетка уезжала отдыхать, в их квартире открывался притон с кучей гостей разного возраста и половой принадлежности.
Девушки, приходящие в дом, не различали их по возрасту, и не раз бывало, что папа уводил у сына его добычу.
Вспоминается история, как в году 78-м в Ригу приехал Национальный балет Венесуэлы. Сто великолепных девушек жили в отеле «Латвия», где мой брат ошивался в баре сутками, занимаясь коммерцией. Он вел преступный образ жизни плейбоя, пройти мимо балета не мог и заклеил в холле солистку. Английский его был достаточным, чтобы что-то купить или объяснить девушке, чего он от нее хочет. Он хотел ее, она тоже была не против, так она попала в их квартиру. В туалете висели восемь кружков для унитаза, но брат, увидев ее испуг, сказал, что это на каждый день, а один праздничный. Она удивилась этой безумной роскоши — ах эта загадочная русская душа!
В спальне ее ждала не менее экстравагантная подробность советской действительности: на кровати, где предполагался интерсекс, не было постельного белья — оно просто закончилось в результате активных действий отца и сына. Тетка, уехав, оставила нормальное количество, не подозревая, что квартира превратится в притон. Прима удивилась, но спорить не стала и приняла это за самобытность и национальный колорит. В разгар соития пришел папа, получил добро на участие и присоединился. Так папа с сыном иногда крепили родственные связи. До сих пор в Венесуэле гуляют предания о России с лицами моего брата и рижского дяди.
Пришло утро, мы простились с осиротевшими родственниками и поехали домой в свою неспешную и неяркую жизнь, где не было балерин, ликера «Шартрез» и моря, в котором купаться невозможно даже летом.
Копылов и Цекайло, или Дембель неизбежен…
Cлужили два товарища в одном полку, Копылов и Цекайло. Естественно, товарищами они не были, Цекайло был «дед» из села под Тернополем, а Копылов из Питера, да еще с высшим образованием, он по-английски разговаривал лучше, чем начальник штаба по-русски, но он был «молодым», а Цекайло «дедом».
Цекайло — здоровенный кабан, любимым делом которого было ебать молодых. Он для этого родился у мамы с папой. Он скучал, в очередной раз ощупывая парадный мундир на дембель, расшитый, как в папуасской армии: погончики с полусферой, обделанные золотой лентой, аксельбанты из бельевого шнура, офицерская фуражка с кокардой несуществующей страны. Сапожки яловые сияли, как котовы яйца, и электрический шнур в подворотничке, и лампасы из того же шнура в галифе п/ш вместе с бляхой из благородного металла латунь, отполированной лучше, чем линзы в планетарии, завершали этот ансамбль — фейерверк казарменного дизайна.
Дембельский мундир плохо изучен в истории костюма. Если бы мундир Цекайло показали Гальяно и Дольче с Габбаной, они бы отсосали у него втроем и наперегонки.
Листая дембельский альбом, Цекайло восхищался этапами своего боевого пути: вот он в горящем танке, а вот на «Фантоме», как пуля быстрый, вот в пустыне Сахаре и снегах Килиманджаро — везде: на земле, на воде и на суше. Три художника трудились, рисовали его биографию, и он, скромный хлеборез из полковой столовой, щедро заплатил им.
Он скучал, напевая песню собственного сочинения «Скоро дембель, за окнами август…». Но привезли Копылова, их встреча была неминуема, как стыковка «Союз» — «Аполлон».
Цекайло был великим человеком, он мог сделать тридцать раз подъем переворотом и съесть бачок каши на десять душ, и все для него в армии было раем. А остальным рядом с ним ад казался домом отдыха.
Копылов стал для Цекайло дембельским аккордом. В первую ночь он построил Копылова в умывальнике и допросил с пристрастием без детектора лжи — у него был свой прибор: нога 45-го размера, которой он выбивал из груди любое признание.
Копылов, крепкий парень, он выстоял только до четырех утра, но не признался, что съел свою бабушку. Цекайло пошел спать, а Копылов пахать в наряд.
После наряда его встречал отдохнувший Цекайло, который предложил «молодому» работу над ошибками: он бросил в лицо ему грязное х/б и приказал его стирать до утренней свежести. Копылов отказался, и ночью снова был урок мужества на тему «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Цекайло приказал Копылову отжиматься со скоростью пульса нормального мужчины — шестьдесят отжиманий в минуту. Копылов сломался на второй минуте и получил дополнительное задание в отхожем месте, где гадило человек двести.
С подъема до отбоя на Копылове упражнялись другие, но ночь принадлежала Цекайло.
В третью ночь он приготовил инсценировку по мотивам фильма «Рокки и его братья». Копылова били все дембели, и он простоял два раунда и не стал прачкой для всех патологически чистоплотных старослужащих.
Копылов не спал уже третьи сутки, его мотало из стороны в сторону, его земляк из Питера шептал ему ночью, мол, хватит, ты ничего не докажешь, ломом танк не остановишь, но Копылов молчал и считал в голове конструкцию прибора, который не успел доработать до призыва.
Он понимал, что его или убьют, или он сдохнет сам, но согласиться с Цекайло не мог, не понимал, откуда эта звериная ярость — догрызть человека, который не хочет, как все. Копылов решил стоять до конца, до их или своего.
До пятницы Копылов еще две ночи изображал Кассиуса Клея и Джо Луиса, но оба боя проиграл Цекайло ввиду явного преимущества и допинга. Обдолбанный Цекайло снизил свой болевой порог до состояния монаха Шаолиньского дацина.
Копылов понял, что в субботу они уходят на дембель и ночь с пятницу на субботу он не переживет. Его поставили на тумбочку дневальным по роте, он качался на ней, как метроном в лаборатории, где изобретал приборы для спасения человечества, но в эту ночь он решил подумать о себе и придумал.
«Деды» пили в «Ленинской комнате» во всей своей дембельской красоте, сверкали бляхи и кокарды — они готовились к заключительному аккорду с кодовым названием «Жертвоприношение Копылова».
После отбоя сержант, дежурный по роте, пошел спать и отдал все ключи Копылову.
Копылов открыл оружейку, взял автомат, вставил рожок и пошел в «Ленинскую комнату» вершить справедливость.
Он вошел туда, открыв ногой двери. Все шесть красавцев в парадной форме с кружками в руках замерли, как в детской игре.
— Встать! — тихо сказал Копылов и показал на дверь.
Цекайло, не веря своим глазам, дернулся на зачморенного Копылова, но получил прикладом по башке, сник и первым пошел к двери. Перед казармой он их построил, дал команду «Лечь!». Все легли прямо в лужу, не просыхавшую даже летом. Первым завыл Цекайло, потом и все остальные, но Копылов этого не слышал. Следующая команда «Встать!» была выполнена на раз, только в строю вокруг Цекайло образовался вакуум, все от него слегка отстранились, крутя головами: оказалось, что он крупно обосрался, вонь была сильнее страха остальных гондонов.
Копылов понял, что на сегодня хватит, вернулся в казарму и лег спать первый раз за неделю. Он спал как убитый.
Утром он узнал, что ночью дембели тихо свалили на вокзал, ни с кем не прощаясь.
Копылова перевели в штаб читать журналы о предполагаемом противнике, там он и закончил ратную службу.
Потом он эмигрировал в Швецию, стал профессором и иногда на барбекю рассказывает своему шведскому коллеге, что у него в России есть друг Цекайло, человек, изменивший его судьбу, — если бы не он, не видать ему Швеции как своих ушей.
Цекайло не знает об этом ничего, он покуражился на дембеле две недели и вернулся в армию на макаронку (стал прапорщиком), то есть тоже нашел себя.
Грустный пони в осеннем парке
После пятидесяти Сергееву перестали сниться девушки. Раньше девушки приходили во сне, как правило, на зеленом лугу, он догонял их, они убегали.
Наяву дела шли лучше: кое-кого он догнал и с одной даже живет теперь, чувствуя себя, как лошадь в стойле.
Жена его кормит, холит, врет ему, что он настоящий жеребец. Он благодарен ей за это преувеличение: он знает, что он грустный пони в осеннем парке, где крутятся карусели, а на нем никто не хочет кататься.
Иногда он взбрыкивает, пытается выйти из стойла, но жена мягко берет его за узду и ставит обратно, ласково объясняя, что он может простудиться на холодной улице или его, не дай Бог, юная кобылица, не знающая его норова, ударит копытом, будет больно.
Девушки перестали сниться в одночасье, после одного пророческого сна, когда он увидел себя на смертном одре в образе маститого писателя, который смотрел на шкаф своих творений, сияющих золотыми переплетами. Мысли его перенеслись на зеленый луг, где он бежит за девушкой — сам молодой и кудрявый. Она уже добежала до свежей копны, он на нее, и она выскальзывает из-под него по влажной траве.
«Эх! — думает писатель. — Если бы все эти книги подложить ей под зад, никуда бы она не делась!»
Так сон по старому анекдоту изменил жизнь Сергеева.
Девушки ушли из снов, но стали сниться документы: то трудовая книжка мелькнет, с записью, что он кузнец пятого разряда, то удостоверение санитара в женском батальоне, а однажды в тупик поставило его донесение в штаб корпуса генерала Шкуро о разгроме бронепоезда.
В реинкарнации Сергеев не верил — он твердо знал, что в прошлой жизни был велосипедом, поэтому в реальной жизни он на велосипеде не ездил и не умел — надоело в прошлой.
После трудовой книжки стал сниться школьный журнал за пятый класс.
Фамилия «Сергеев» сияла в нем, как реклама кока-колы, — неоновым светом появлялось всплывающее окно, в котором он видел, как бежит за одноклассницей Мироновой в конец коридора, где хранились швабры и метелки. Он зажимает ее, и у него кружится голова.
Сны набирали обороты, целую неделю снились записные книжки за разные годы, за 67-й год вспыхнула запись, где зачеркнутый телефон какой-то Аллы и приписано рукой Сергеева: «Все кончено, нет в жизни счастья». Что кончено в двадцать лет? Какая Алла?
Сергеев погрузился в файлы прошлого и вспомнил, как какая-то Алла обманула его ожидания с неким Колей, он трое суток лежал лицом к стене и не хотел жить.
След от Аллы остался исключительно в записной книжке — без лица, только пустая клетка в календаре прошлого.
В среду газета «Правда» с информационным сообщением, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, выбило его из колеи на целый день — сон серьезный, требовал пояснений.
Сергееву в 1967 году было десять лет, он не знал, что значит «Всем дадут по потребностям», и написал в изложении по истории, что хочет три телевизора к 1980 году. Учительница вызвала маму в школу и отдала его изложение подальше от греха. «Пионер не должен так много хотеть», — с укором сказала работница идеологического фронта. Мама отблагодарила ее коробкой конфет «Вечерний звон».