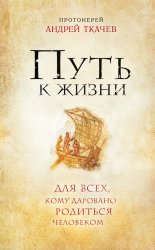Жена немецкого офицера Дворкин Сюзан

«О, нацисты – очень щедрые ребята! – воскликнул комик. – Слышал, они перестали мыться и передали право использования ванных своим гусям, чтобы в день, когда их придет пора резать и жарить к Рождеству, птицы были чистенькие!»
Очень скоро Вайс Фердль исчез.
28 августа 1942 года. Невыносимо жаркая пятница. Я так запомнила дату, потому что в этот день родился Гете. Я пошла в Максимилианеум, знаменитую мюнхенскую галерею, и присела отдохнуть перед пышным, золотистым пейзажем. Наверное, он принадлежал кисти Шмида-Фихтеберга или Германа Урбана – нацисты любили их картины, на которых Германия превращалась в Елисейские поля. Я пыталась увидеть то же, что и они, почувствовать в этой стране смелый желтый и яркий оранжевый, но не в силах была забыть, как истощенные девушки ползли по грязи за тощим французом.
Рядом со мной сел высокий мужчина. Он был истинным арийцем: сжатый, твердый рот, ярко-голубые глаза, тонкие, мягкие светлые волосы. Он был в обычной гражданской одежде, но с лацкана блестела свастика: этот человек был членом нацистской партии. Его сильные, чистые руки знали, что такое труд. Он посмотрел на меня и улыбнулся.
«Прямо перед нами превосходный пример баварского стиля под названием Heimat, – сказал он. – Впрочем, вы это, наверное, знаете и без меня».
«Отнюдь».
«Картины в этом стиле представляют собой восхваление Родины. Фермеры всегда здоровые и сильные, поля богатые, коровы толстые, погода всегда прекрасная, – он проверил, нет ли у меня на руке обручального кольца. – Прекрасная, как вы, фройляйн…?»
Вместо ответа я отодвинулась от него, чтобы показать, что не хочу ни с кем знакомиться. Это его ни на секунду не смутило.
«Я работаю в Бранденбурге-на-Хафеле, – продолжал он. – У нас там полно фермеров, но таких атлетов и красавцев, как на картине, я пока не видел. Как думаете, может, художником владели иллюзии?»
Кажется, в этот момент я позволила себе слегка улыбнуться.
«Сами знаете, наш фюрер обожает живопись. Каждый год он приобретает две-три сотни картин. Если твою картину выставили в Доме Немецкого Искусства – ты счастливый человек. Еще неплохо, чтобы твой дядя был в совете директоров концерна Крупп, а маму регулярно приглашали на чай к Геббельсам».
«Вы художник?»
«Именно».
«Надо же! Вы этим занимаетесь?»
«Занимаюсь я тем, что руковожу малярным цехом на авиационном заводе Арадо. Однако я учился на художника и мечтаю им быть. Слышали, что фюрер подарил свои собственные деньги Зеппу Хильцу, чтобы тот устроил себе студию? А Гердхардингер, между прочим, стараниями фюрера стал профессором. Вчера еще был обычный художник, а с утра уже университетский профессор».
«Нет, я об этом ничего не знала».
«Прогуляемся?»
«Хорошо». Мой собеседник был гораздо выше и крупнее меня, и я с трудом примеривалась к его шагам. Он без конца что-то рассказывал.
«Я лично люблю классику. Фюрер предпочитает австрийцев и баварцев девятнадцатого века – Шпицвег, Грютцнер и так далее. А я вот обожаю Ангелику Кауфман».
«А… кто это?»
«Гениальная художница девятнадцатого века. Если верить автопортрету, еще и красавица. Благодаря Клопштоку она заинтересовалась германской историей и нарисовала несколько полотен, посвященных победам Арминия. На одной из ее картин Арминий возвращается в Тевтобургский лес… Он долго сражался с римлянами, и его встречает молодая жена. Местные девушки приветствуют его возвращение танцем. Это прекрасная картина, – он предложил мне опереться на руку. – Меня зовут Вернер Феттер».
«А меня – Грета Деннер».
«Может, нам вместе пообедать?»
«Только если продолжишь рассказывать мне о художниках».
И он продолжал. Вернер Феттер вырос в Рейнской области, недалеко от Дюссельдорфа, в Вуппертале. Он много знал об искусстве – гораздо больше меня. Это меня очень впечатлило. В Мюнхен он приехал на две недели. У него оставалось еще семь дней отпуска.
Он попросил меня внести свою половину купонов, которые взимались за еду (ни один из других мужчин, с которыми я обедала, этого не делал), и заказал нам по бутерброду. Свой Вернер ел с помощью ножа и вилки, как будто это был шницель. Он заметил, что я удивлена.
«Тетя Паула наказала мне никогда не есть руками, – объяснил он. – Мне тогда было двенадцать. Въелось».
Мне показалось очаровательным, что этот огромный человек так изящно ест бутерброд. У Вернера был очень милый, эксцентричный вид. Тем не менее он состоял в партии. С другой стороны, он так дружелюбно улыбался. И все-таки он мог быть переодетым в гражданское эсэсовцем. Но он столько знал о живописи…
«Макс Либерманн тоже был прекрасным художником, – сказал он, запивая бутерброд пивом. – Жаль только, что еще и евреем».
Мы договорились встретиться на следующий день. Я впервые согласилась на второе свидание с немцем. В итоге мы провели вместе все семь дней, оставшиеся от его отпуска.
Даже сейчас я в ужасе от риска, на который тогда пошла. Он мог быть абсолютно кем угодно! Но, как вы могли понять, Вернер мне понравился. С ним было интересно и легко. Он был разговорчив, так что я могла отмалчиваться. Кроме того, он казался таким типичным немцем: он был глубоко предан фюреру, уверен в скорой победе, презирал русских, живо интересовался сплетнями о Геббельсе и его любовницах. За ту неделю я поняла, как мне притворяться добропорядочной немкой. Я хорошо отработала роль Греты.
Кроме всего прочего, был еще один фактор: с Вернером я снова почувствовала себя женщиной. Он помогал мне подняться по крутой лесенке поезда и открывал передо мной двери. Мне казалось, что я случайно забрела в один из тех баварских пейзажей, что я сама, точно те идеализированные поля, становлюсь золотисто-оранжевой. Это было очень странно и как бы нереально. Еще месяц назад я была для всех обузой, я голодала и всего боялась. Прошел месяц – и я Дочь Рейна, совершающая увеселительную поездку, и сам король викингов делает мне комплименты и упрашивает не бежать на последний вечерний поезд в Дайзенхофен, а остаться с ним на всю ночь.
Вернер повез меня в Нимфенбург, летнюю резиденцию старых хозяев Баварии, Виттельсбахов. Мы бродили по роскошным садам и барочным беседкам и любовались на фарфоровые статуэтки, выставленные за стеклом – на франтов в сложных париках по всей моде семнадцатого века, с золотыми пряжками на туфлях, и на изящных актеров, наряженных персонажами комедии дель арте.
Вернера все это забавляло. Он был рабочим и презирал аристократию. Все смеялись, когда он изображал придворного, застывая в глупых позах. Он поднимал меня на пьедесталы, чтобы я, словно херувим, обняла герб Виттельсбахов. Я изо всех сил старалась не думать о том, что мама, наверное, сидела где-нибудь в гетто за шитьем или кому-нибудь прислуживала. Я сосредоточилась на том, чтобы быть Гретой, счастливой арийской туристкой, и чувствовать себя на своем месте. И все же, завидев полицейского, я пряталась за широкой спиной Вернера.
Мы пошли в Английский сад. Наслаждаясь августовским солнцем, Вернер растянулся на одной из бесконечных лужаек и положил голову мне на колени.
«У меня три брата, – рассказывал он, – Роберт и Герт сейчас на фронте. Третий мой брат хорошо устроился, работает себе спокойно на партию. У Герта есть милейшая дочка Барбль, моя любимая племяшка».
Мы купили для Барбль тряпичную куклу с вышитым ртом и рыжевато-каштановыми хвостиками и зашли выпить пива. Вернер выпил свою кружку залпом, я же пила по чуть-чуть. То, что я пила так медленно, очень его забавляло. Я отметила себе, что нужно научиться пить более жадно, как местные девушки.
«Когда я был маленьким, отец нас бросил, – сказал он. – А мать… как сказать, мать любила пиво куда больше, чем ты. Мы жили в бедности, и нас никто не воспитывал. Мать за собой еще следила, но на нас и на дом ее не хватало. В доме был бардак. Ненавижу такое».
«К нам часто заходила мамина сестра, тетя Паула. Однажды она застала мать в отключке, нашла под кроватью целый склад пустых вонючих бутылок, собрала наши с Гертом вещи и забрала нас к себе в Берлин.
Она была замужем за евреем по фамилии Симон-Колани. Он изучал санскрит, был профессором – я бы сказал, он был одним из настоящих мыслителей. Наверное, он во мне разглядел какие-то способности, потому что отправил меня учиться живописи. Думал, я смогу устроиться».
Так в его семье были евреи, подумала я. Он не считает нас всех чудовищами.
«Однако никакой талант и никакое образование не гарантировало того, что в Депрессию для тебя найдется работа, – продолжал он. – Одним летом мне даже пришлось спать в лесу. Нас таких много было – молодых парней, которые не знали, как заработать, – его голос стал низким и хриплым. – Нацисты направили нас в волонтерскую организацию, выдали униформу и место, где мы могли жить. Я стал даже немного гордиться собой. Я решил съездить к тете Пауле и показать ей и дяде, что хорошо устроился. И тут он умер».
Я вскрикнула. Этого я не ожидала.
«Так что я пошел на его похороны».
Я тут же представила похороны, похожие на похороны моего отца: молитвы на иврите, песнопения – и тут вваливается высоченный светловолосый племянник в нацистской форме. У меня даже дух захватило.
«Поэтому тебя не призвали в армию? – поинтересовалась я. – Из-за того, что ты вступил в партию?»
«Что? Да нет, это потому, что я слеп на один глаз. Попал в аварию на мотоцикле, расколол череп и повредил зрительный нерв. Если приглядеться, немного заметно». Он перегнулся через стол, чтобы я хорошенько рассмотрела его слепой глаз. Я тоже потянулась к нему, чтобы все увидеть. Он пододвинулся еще ближе. Я все пыталась разглядеть его глаз. Он меня поцеловал.
Я и сама не ожидала, что этот поцелуй так мне понравится. Видимо, я залилась краской, и Вернера развеселило мое смущение. «Господи, какая же ты милая», – сказал он.
Мы с Вернером побывали во Фрауэнкирхе, в Петерскирхе, в летнем дворце Шляйсхайм. В прекрасном Гармиш-Партенкирхене мы весь день бродили по холмам, вброд пересекая ручейки. Там, где пройти было трудно, я позволяла Вернеру нести меня на руках. Мы были совсем одни. Вокруг не было ни солдат, ни полицейских. Я немного расслабилась и очень боялась, что забудусь и стану вести себя как я, а не как Грета. Поэтому я следила за каждым словом, каждым жестом и каждым взглядом. Вернеру, очевидно, это нравилось. Урезанная версия меня казалась ему привлекательной. Настоящей меня он не знал.
Каждый вечер мы вливались в толпу, собиравшуюся у одного кафе, чтобы послушать Wehrmacht Bericht, новости с фронта, и узнать, как шли бои под Сталинградом. Гитлер вторгся на территорию России в июне 1941 года, и один за другим русские города капитулировали перед вермахтом. Однако теперь русские яростно сражались с захватчиками. Приближалась зима. В какой-то момент, стоя в толпе, я впервые заметила, что у многих моих соседей обеспокоенный вид. В моей комнате в доме фрау Герль лежало письмо от фрау Доктор. Она писала, что, несмотря на свои сложные отношения с церковью, каждый день посещает службы и молится за спасение вермахта под Сталинградом.
Вернер, однако, ничуть не волновался. «Генерал Паулюс – настоящий гений, – пожимал плечами он. – Скоро город будет захвачен, и немцы смогут провести зиму в тепле».
Мы проходили мимо какого-то великолепного памятника – я по третьей снизу ступеньке, а он, приобняв меня за плечи – по тротуару. Перед нами возникла статуя обнаженной женщины. Укрывшись за ней от посторонних взглядов, Вернер страстно меня поцеловал. Я исчезла в его сильных руках – казалось, его объятие надежно прячет меня от всего мира. Конечно, меня тянуло к этому человеку. В его тени я была бы невидима. Вернер был многословен, и я могла молчать. С ним я чувствовала себя защищенной. Вернер словно довершал мое прикрытие.
По пути к железнодорожной станции Вернер вспомнил, что оставил фотокамеру в кофейне. Камера была очень ценной вещью: купить ее тогда было невозможно. Однако, если бы мы вместе за ней вернулись, я уже не успела бы на поезд до Дайзенхофена, и мне пришлось бы остаться с Вернером на ночь. К этому я была еще не готова.
«Оставайся и иди за камерой, – предложила я. – А я спокойно доеду одна».
«Нет. Ты со мной. Я тебя провожу».
«Но ведь гораздо важнее…»
Его глаза сверкнули гневом. Это меня напугало.
«Не спорь, Грета. Никогда не спорь со мной, и никогда не указывай, что мне делать».
В этом была суть Вернера: в нем сочеталась галантность и некоторая угроза.
Вернувшись в Бранденбург, Вернер написал мне несколько писем и отправил небольшую копию скульптуры «Невинная из Зайне». В сентябре у него был день рождения. Я решила подарить ему пару перчаток.
«Нет, нет, нет, – возмутилась фрау Герль. – Отправь ему торт!»
«Но я не умею печь торты».
«Но я-то умею», – улыбнулась она.
На день рождения Вернера Феттера прямо в Бранденбург приехал торт из Дайзенхофена от Греты Деннер. Он нескоро забыл этот подарок.
Обучение в Красном кресте началось в октябре. Курс длился три недели и проходил в Грефельфинге, в прекрасном лесном отеле Лохам, куда приезжали отдохнуть члены Гильдии пекарей. В столовой этого старомодного здания, отделанного деревом и штукатуркой, на потолке красовался символ гильдии. Осенний лес был просто божественен. В Германии было немало великолепных мест, где, тем не менее, происходили странные и жуткие вещи.
В Красном кресте я ни с кем не сближалась. Я держалась обособленно и делала все, что от меня требовалось, но вела себя вежливо. По утрам медсестры учили нас основам анатомии и объясняли, как делаются компрессы и перевязки. После обеда нас посещали представительницы Frauenschaft, женского отделения нацистской партии, и рассказывали, что на самом деле являлось целью нашей работы: мы должны были поддерживать боевой дух раненых и убеждать их в непобедимости Германии.
«Знайте: каждый порученный вам солдат должен твердо помнить, что, несмотря на подлые британские бомбежки в прошлом мае, Кельнский собор остался цел и невредим, – повторяла плотная, облаченная в нацистскую форму наставница. – Кроме того, вы обязаны говорить, что Рейнланд бомбежкам не подвергался. Это понятно?»
«Да, мэм», – кивали мы.
На самом деле Рейнланд нещадно бомбили воздушные силы Альянса.
«Приглашаем вас участвовать в германизации Вартегау на территории оккупированной Польши путем переезда и заведения большой семьи. Условия там прекрасные. Каждая семья получает собственный дом. В стране достаточно дешевой рабочей силы. Поляки осознали, что они всего лишь ntermenschen, и их судьба – работать на немцев».
Тогда я подумала, что едва ли кто-нибудь из девушек Красного креста примет это предложение всерьез, но, действительно, тысячи немцев уехали в Вартегау наслаждаться своим превосходством. Позже, когда война была проиграна и эти люди в страшной нужде приехали назад, почти никто не хотел им помогать.
Вы, наверное, удивлены тем, что теперь я легко переносила те же бредни о прекрасном нацистском будущем, из-за которых сбежала из Хайнбурга. Все просто: мне больше некуда было бежать. Все окружающие меня люди купились на чудовищные идеи нацистов, и я уходила все глубже и глубже в себя, стараясь следовать примеру моего обожаемого Эриха Кестнера, немецкого писателя, который в годы нацистского режима прибег к так называемой «внутренней эмиграции».
Душа умолкла и закрылась от мира. Тело осталось среди внешнего безумия.
«Помните, – наставляла нас нацистка, – медсестры Красного креста навсегда в сердце Гитлера. Он вас любит. И вы обязаны любить его».
Она заставила нас принести особую клятву верности фюреру. Мы подняли руки и сказали: «Хайль Гитлер!». Заперевшись в своей внутренней крепости, я молилась: «Пусть это животное кто-нибудь убьет. Пусть американцы или англичане разбомбят всех нацистов. Пусть армия насмерть замерзнет под Сталинградом. Пусть меня здесь не позабудут. Пусть кто-нибудь вспомнит, кто я на самом деле».
Приближалась зима. Очень скоро мне должно было прийти направление на работу в какой-нибудь больнице. Холодало, и я решила в последний раз съездить в Вену. Мне отчаянно хотелось с кем-нибудь поговорить, разорвать скрывающую меня пелену молчания, провести хоть пару часов с кем-нибудь, с кем можно было общаться открыто.
Я сказала фрау Герль, что мне нужно забрать в Вене зимнюю одежду – этот предлог ее не удивил – и забралась в поезд. На этот раз я чувствовала себя гораздо спокойнее: при мне было удостоверение работницы Красного креста с моей фотографией.
Оказанный прием разбил мне сердце. Пепи мое неожиданное появление как-то смутило: он явно не знал, как при мне себя вести и что делать. Жизнь Юльчи стала сложнее. У нее почти не было работы. Еврейские рационы урезали. Малыша Отти все-таки не признали «мишлингом», так что ему, как и остальным маленьким евреям, молока не полагалось. В школу он тоже пойти не мог. Я хотела рассказать Юльчи о Красном кресте, о фрау Герль и Мюнхене, но она отказалась меня слушать.
«Возвращайся обратно, – сказала она. – Здесь тебе больше не рады».
Я надеялась остаться у нее на три дня, но через два дня уже вернулась в Дайзенхофен. Эта поездка очень меня расстроила. Однако в прихожей фрау Герль меня ждала телеграмма от Вернера: на следующее утро он собирался приехать в Мюнхен и очень хотел со мной увидеться. Просто удивительно, как все это совпало. Останься я еще на день в Вене, и я получила бы эту телеграмму слишком поздно. Но я приехала вовремя – совершенно случайно.
На следующее утро я поехала в Мюнхен, чтобы встретиться с Вернером. Придя на вокзал, я сняла шапку, боясь, что в зимней одежде меня будет сложно узнать. Но Вернер сразу меня заметил, громко поприветствовал, поднял в воздух и осыпал поцелуями. Потом мы пошли завтракать в кафе при Доме Немецкого Искусства.
«Вчера по дороге на работу я решил, что без тебя мне не обойтись», – сказал Вернер, сжимая мне руку.
«Что?»
«Да-да. Это неизбежно. Ты должна стать моей женой».
«Что?»
«В общем, я отпросился на работе – рассказал начальнику, что дом моей мамы в Рейнланде разбомбили, и мне нужно к ней съездить».
«Вернер! Ты мог попасть в тюрьму! Ложь начальству! Абсентеизм!»
«Так или иначе, они мне поверили. Только посмотри на это лицо, – он довольно ухмыльнулся. – Человеку с таким лицом нельзя не поверить. Ну так что, когда ты за меня выйдешь?»
«Вернер, война в самом разгаре! Нельзя жениться во время войны».
«Но я по тебе с ума схожу! Постоянно о тебе думаю. Сижу в ванне, думаю о тебе, и вода вокруг закипает».
«Господи, Вернер, перестань…»
«Хочу познакомиться с твоим отцом. Поедем в Вену, я с ним обязательно познакомлюсь. Он будет мной доволен, вот увидишь».
Мысли обгоняли одна другую. Я надеялась всего лишь приятно провести день в компании очаровательного мужчины, чтобы немного поднять упавшую самооценку! Об этом я даже не задумывалась. Что же делать? Вернер был готов ехать в Вену и просить моей руки у несуществующего отца. Где я должна была его раздобыть?
«Так, успокойся. Это просто глупо, мы всего несколько дней знакомы».
«Мне этого достаточно. Я человек действия».
«Но почему ты мне не написал? Зачем подвергать себя такой опасности, зачем врать работодателю?»
Вернер откинулся на спинку стула, вздохнул и повесил голову. «Меня мучило чувство вины. Я соврал о том, что я холостяк. Я женат, сейчас в процессе развода. Помнишь, я рассказывал о племяшке Барбль? На самом деле это моя дочка. Поэтому я решил, что, раз я не был с тобой до конца честен, я просто обязан рассказать тебе правду лично. Я люблю тебя, Грета. Ты вдохновляешь меня. Переезжай ко мне в Бранденбург. Мы поженимся, как только с разводом будет покончено».
Руки у меня так тряслись, что кофе пролился на стол. Я была в ужасе. Вернер хотел познакомить меня со своим братом Робертом, его женой Гертрудой, знаменитой тетей Паулой, хотел представить меня друзьям – этот кошмар все не заканчивался.
Мы пошли в музей. Пока мы бродили среди огромных нацистских полотен Хельмута Шааршмидта, Германа Айзенменгера и Конрада Хоммеля, бесконечных портретов Гитлера и Геринга, среди озаренных пламенем небес, в которых скользили орлы, среди угрюмых солдат в железных шлемах и целого Парфенона каменных полубогов Брекера, размахивающих огромными мечами, Вернер все убеждал меня согласиться. Он даже не смотрел на мрачные изваяния. Держа меня за руку, он все рассказывал, как хорошо у него дома, какая у него хорошая работа, какой счастливой он может меня сделать. «Только подумай – ванна! Диван! Я куплю нам с тобой «Фольксваген»!»
Это продолжалось несколько часов.
«Нет, мир слишком нестабилен, – возражала я. – Что, если тебя отправят на фронт и ты погибнешь в бою?»
Вернер только рассмеялся. «Меня никогда не отправят на фронт! Я наполовину слепой!»
«А что, если разбомбят госпиталь Красного креста и я умру?»
«А что, если тебя отправят в какой-нибудь другой госпиталь, и в тебя влюбится какой-нибудь солдат, и я тебя потеряю? Я этого не переживу! Я этого не вынесу!»
«Прекрати, Вернер…»
«Расскажи о своем отце».
Он был убежденным евреем, и если бы он только услышал, что я гуляю по музеям с такими, как ты, он бы убил меня, а потом снова умер от сердечного приступа.
«Расскажи о своей матери».
Она в Польше, куда ее отправил твой мерзкий фюрер.
«Расскажи о своих сестрах».
Они в Палестине, вместе с англичанами сражаются с вашей армией. И да поможет им Господь.
«А твои дяди, тети, двоюродные сестры и братья? Бывшие ухажеры?»
Исчезли. Возможно, мертвы. Ушли в такое глубокое подполье, скрываясь от чумы нацизма, что с тем же успехом могут быть и мертвы.
«Я люблю тебя. Я не отступлюсь».
Нет, нет, оставь меня в покое. Уезжай. Мне стольких нужно защитить. Кристль. Фрау Доктор. Пепи. Тебя.
«Ты! – воскликнула я. – Я не могу выйти замуж за тебя!»
Rassenschande: преступное смешение рас.
«Но почему? Господи, Грета, ты что, помолвлена с кем-то другим? Неужели ты украла мое сердце и не рассказала мне об этом? Этого не может быть!»
У него был глубоко расстроенный вид. Мысль, что я не хочу быть с ним, сильно его ранила. Я знала эту боль: я сама пережила такую же. Я бросилась ему на шею и прошептала в самое ухо:
«Я не могу выйти за тебя замуж, потому что я еврейка! Мои документы – поддельные! Венское гестапо объявило меня в розыск!»
Вернер словно врос в землю. Он отодвинул меня от себя. Я бессильно болталась в его руках.
Его лицо посуровело. Глаза сузились, рот сжался.
«Ах ты лгунья, – сказал он. – Ты меня обманула».
Он был мрачен, словно эсэсовец с картины Краузе.
Идиотка, подумала я. Ты подписала себе смертный приговор. Я уже ждала, когда на мою голову опустится меч брекерского полубога. Я уже видела, как разливается по мраморному полу моя кровь, слышала, как стучат в дверь Кристль.
«Ну что ж, мы квиты, – сказал Вернер. – Я соврал, что разведен, а ты наврала, что арийка. Мы квиты, так давай уже поженимся». Он нежно меня обнял и поцеловал.
Кажется, со мной тогда случилась небольшая истерика.
«Ты просто безумец! Мы не можем быть вместе. Они обо всем узнают».
«Но как? Ты собираешься еще кому-нибудь рассказывать о своей тайне?»
«С этим нельзя шутить, Вернер, все это очень серьезно. Ты, возможно, не понимаешь, но за отношения со мной тебя могут арестовать. Меня и моих друзей казнят, а тебя отправят в один из этих кошмарных лагерей. Как ты не боишься? Ты должен бояться!»
Он только смеялся. Я видела, как его тело болтается в нацистской петле – как болталось тело француза, который полюбил еврейку из трудового лагеря, а Вернер, хохоча, на руках нес меня в залу, полную золотых пейзажей.
Я и по сей день не знаю, откуда в Вернере Феттере была эта невероятная храбрость, когда его соотечественники были такими трусами.
«На самом деле мне двадцать восемь, а не двадцать один», – призналась я.
«Прекрасно. Это хорошо, в двадцать один выходить замуж еще рановато».
Вернер остановился в нише рядом с бюстом Гитлера.
«У тебя все получается так же вкусно, как торт, который ты прислала на мой день рождения?»
Клянусь, сказать «да» меня заставил дух мамы, всегда приходившей мне на помощь в вопросах хозяйства.
Разумеется, это была откровенная ложь. Таким уж человеком был Вернер Феттер: я могла признаться ему, что я еврейка, хотя мы были в самом сердце нацистского государства, но не могла не соврать, когда он спросил, хорошо ли я готовлю.
«Возвращайся в Бранденбург, – прошептала я. – Забудь обо мне. Я ничего от тебя не потребую».
В Бранденбург Вернер вернулся, но так и не передумал. Видите ли, он уже успел принять решение, а в таких случаях сопротивляться ему было бесполезно.
Вы спросите, не боялась ли я, что Вернер донесет на меня, что в дверь к фрау Герль постучатся гестаповцы. Нет, об этом я даже не думала. Я доверяла Вернеру. Честное слово, я совершенно не знаю, почему. Возможно, просто потому, что выбора у меня не было.
Вернер прислал несколько телеграмм, в которых сообщил, что договорился с женой своего приятеля. Ее звали Хильде Шлегель, и она приглашала меня к себе на время, пока развод еще не окончен.
Я боялась этих страстных телеграмм: из-за них мной могли заинтересоваться в СС. Я боялась, что назначение из Красного креста отправит меня в Польшу, и для выезда мне понадобится внутренний паспорт – конечно, нечего было и думать о том, чтобы пытаться его получить. Я боялась, что, оставшись у фрау Герль, привлеку внимание Гестапо. А ведь у моей хозяйки уже были неприятности с режимом. Я понимала, что с Вернером я буду в безопасности – я стану достойной домохозяйкой, женой члена партии и сотрудника компании, которая производила самолеты, сбрасывающие на Лондон бомбы. Вернер был не последним человеком. Ему доверяли, на него полагались. Конечно, быть женой такого человека гораздо безопаснее, чем быть одной.
Узнав, что я помолвлена с Вернером, Пепи разозлился. Как я могла так поступить? Как я могла вообще подумать о том, чтобы выйти замуж не за еврея? «Подумай, что сказал бы об этом твой отец! – возмущался он. – Подумай о том, как сильно я тебя люблю!»
К сожалению, к тому времени я успела на горьком опыте узнать, как сильно он меня любил. Когда я вернулась в Вену, сделал ли Пепи что-нибудь для того, чтобы я хоть одну ночь спала спокойно? Его мать, со всеми ее связями – хоть чашку чая она мне предложила? Между прочим, когда Пепи узнал, что о нем сказала фрау Доктор – что он принадлежит мне, потому что мы с ним спали вместе – он наотрез отказался с ней разговаривать! Эта чудесная женщина так мне помогла – она могла бы помочь и ему, но он даже спасибо ей не сказал, не пожелал даже с ней встретиться. Он мог бы убежать вместе со мной из страны, когда война еще не началась. Мы бы давно жили в Англии, мы могли бы строить в Израиле новую страну, и этот кошмар бы нас не коснулся. Но нет! Пепи, конечно, не мог уехать, не мог покинуть свою чертову матушку-расистку! Вот как сильно он меня любил!
А в Мюнхене я встретила бесстрашного и очаровательного белого рыцаря. С ним меня ждала не только безопасность, но и любовь. Ну конечно, я пошла с ним. И благодарила Господа за такую удачу.
Фрау Герль вместе с мужем украла в лесу небольшую елочку. Тогда рубить деревья было запрещено, но они не хотели оставить меня без подарка. 13 декабря 1942 года я приехала в Бранденбург к Вернеру Феттеру с этой елочкой, привязанной к чемодану.
Фотографии
Леопольд Хан, мой отец.
Клотильда Хан, моя мать.
Около спа в Багдаштейне. Слева направо: моя двоюродная сестра Юльчи, постоялец отеля, я, еще один постоялец, моя сестра Мими, младшая сестренка Ханси.
1939, Пепи приехал в Штокерау и завязывает шнурки.
Эта фотография сделана в тот же его приезд. В тот период я ухаживала за дедушкой после удара. Это единственная сохранившаяся фотография, где мы с Пепи вместе.
Студенческий билет университета Вены, 1933.
На этой фотографии мне 19 лет.
1937. Пепи 24 года.
После Аншлюсса, когда в 1938 году Германия захватила Австрию, все евреи получили новые удостоверения личности. Все мужчины получили второе имя Израиль, женщины – Сара.
Перевыпущенный паспорт. Он казался мне очень странным: фотография сохранилась та же, но теперь я обзавелась вторым именем Сара.
Оповещение, в соответствии с которым нас с мамой выгнали из дома. В дальнейшем мы жили в венском гетто.
Остербургская плантация спаржи. На фото мои подруги нагибаются над вспаханными бороздами.
Ульрике Флешнер, маленькая дочка нашего надзирателя, позирует с нацистским флагом.
Слева, в белой рубашке, надзиратель господин Флешнер. Рядом с ним фрау Тельшер, с которой мы делили комнату. Справа Пьер, французский военнопленный, которого немцы звали Францем. Корзины предназначены для спаржи.
Когда я была в лагере, мы с Пепи обменивались письмами на английском, чтобы практиковать язык. Он часто исправлял меня, но я его – никогда. Я всегда была ученицей, он же – учителем.
Нацисты требовали, чтобы на всех фотографиях в документах было видно левое ухо. Это фото Пепи сделал в 1939-м. Я выбрала его, потому что на нем меня сложнее всего было узнать. Копия этого фото хранилась в гестапо.
Последняя записка, которую мама отправила Пепи накануне депортации. «Мне не дают остаться, – пишет она. – Я должна ехать… Пожалуйста, скажи Эдит… Что Господь нас с ней не оставит».
В этом письме я рассказываю Пепи, что нам с моей подругой Миной Катц понравились присланные им сладости и что мою дневную норму повысили до 35 000 коробок.
Последнее письмо, которое Мина написала мне перед депортацией. Она использует кодовые слова. «Принц-Ойгенштрассе» означает Центральный отдел СС, «тетя» – так выручившую меня Марию Нидераль.
Еврейская продовольственная карточка. Вернувшись из Ашерслебена в Вену, я должна была питаться по ней. Я ни разу ее не использовала.
Эту фотографию я подарила Пепи в 1940 году, прямо перед тем, как меня забрали в трудовой лагерь. Для этого фото я одолжила у Кристль Деннер ее лиловую блузку. До самой своей смерти в 1977 году Пепи держал ее у себя на столе.
Кристль Деннер Беран, моя любимая подруга. Она умерла в 1992-м. Кристль передала мне свои документы и этим спасла мне жизнь. На этом фото она одета в платье, сшитое для нее моей мамой.
Мария Нидераль подарила мне свою фотографию. Я забрала ее с собой в Бранденбург.
Это заявление Кристль о необходимости получения новых документов взамен тех, что она якобы уронила в Дунай.
Свидетельство о браке Вернера Феттера и «Маргарете Деннер». На нем есть «доказательство» нашей немецкой крови (отметка «deutschbltig»), регистрация рождения дочери и сделанная в июле 1945-го пометка о моем настоящем имени.
Вернер Феттер до войны…
И после того, как в сентябре 1944 года его призвали в вермахт.
После рождения нашей дочери Ангелы (Ангелики) в апреле 1944 года Вернер собственноручно нарисовал карточки с новостью об этом событии. Эту мы отправили Пепи, на задней стороне я написала ему записку: «С неба упала звездочка…»
Лето 1944-го. Вернер сфотографировал меня с коляской Ангелы. Рядом Барбль, его четырехлетняя дочь от прошлого брака.
Письмо, присланное Вернером из сибирского лагеря для военнопленных. Оно было спрятано в подкладке футляра для очков. Какой-то неизвестный бросил мне этот футляр и тут же ушел.
В 1947-м, когда Вернер вернулся из лагеря и сделал это фото, Ангеле было 3.
Мое удостоверение личности, полученное в период работы судьей. «OPFER DES FASCHISMUS» означает «Жертва фашизма».
Это удостоверение личности я получила в 1948-м. В нем был указан ложный адрес, необходимый для перелета в Англию. Я несколько месяцев платила ренту, но прожила в той квартире всего несколько недель перед самым отъездом.
Эту фотографию сделали в 1985 году. На ней мы с Кристль Деннер Беран изображены в Посольстве Израиля в Вене, где моей подруге вручили медаль и разрешение посадить дерево в Саду праведников народов мира при музее Яд Вашем в Иерусалиме.
Эдит Хан Беер и ее дочь Ангела Шлютер в 1998 году.
Тихая жизнь на Иммельманштрассе
Теперь я для всех превратилась в обычную домохозяйку. Скрываться под этой личиной было вполне удобно: в нацистской Германии превозносили «домашних», кротких женщин, и домохозяйкам жилось весьма вольготно.
Я вела себя тихо и мало говорила. Ни с кем не сходясь близко, я была со всеми приветлива и мила. Изо всех сил я убеждала себя, что я и есть Грета Деннер. Я заставляла себя забыть прежнюю жизнь, свой жизненный опыт и образование, и стать плоским, невыразительным, вежливым и никогда не привлекающим к себе внимание человеком.
В итоге я добилась только того, что, хотя на поверхности я была невозмутима, словно море в штиль, внутри меня бушевала буря. Я плохо спала, нервничала, чего-то боялась и переживала. Внешне я должна была казаться абсолютно беззаботной.
Квартиру Вернеру выдала компания. Для работников Арадо в восточной части города возвели целую набережную с совершенно одинаковыми домами. Все три с лишним тысячи квартир предназначались для тружеников завода. Мы жили на Иммельманштрассе. Сейчас эту улицу переименовали в Гарцштрассе. Плату за проживание удерживали из зарплаты Вернера еще до выдачи денег на руки.
На заводе Арадо производились военные самолеты, и в том числе первый в мире реактивный бомбардировщик. Во время войны эта компания была крупнейшей в своей сфере во всем Бранденбургском округе, в который входили, между прочим, такие города, как Потсдам и Берлин. Директора компании, Феликс Вагонфюр и Вальтер Блюме, были очень известны и богаты. Блюме стал старшим правительственным советником по вопросам военной экономики, а Альберт Шпеер сделал его профессором.
К 1940 году в Арадо работали 8 000 человек, к 1944-му – уже 9 500. Почти тридцать пять процентов работников были иностранцами. Возможно, вас удивит, что нацисты допускали к такому важному и секретному производству столько иностранцев. Я лично уверена, что это связано с желанием Гитлера сделать из ариек надежные и защищенные инкубаторы. Они должны были сидеть дома и рожать детей.
Американцы и англичане приглашали матерей на военные заводы, получая, таким образом, много патриотически настроенных и мотивированных работниц. В обмен на это государство организовало детские сады и выплачивало женщинам хорошую зарплату. Однако фюреру этот выход был отвратителен. Немки получали прибавки к рациону и даже почетные медали за успехи в размножении. Поэтому на заводе Арадо и в других подобных местах работали в основном совсем молодые ребята, старики, девушки, прекрасно понимавшие, что выгоднее забеременеть, и пленники из захваченных стран. Последние, разумеется, не слишком старались побить рекорды производительности: успех Люфтваффе их интересовал мало.
Иностранные работники Арадо жили в восьми трудовых лагерях. Голландцам, особенно конструкторам самолетов, жилось вполне неплохо. Так же повезло французам, которых немцы начали уважать за их умения и особую прилежность, и итальянцам, которые были нашими союзниками. Ох уж эти союзники! Большинство немцев были уверены, что итальянцы трусливые и невоспитанные. Итальянцы же считали, что немцы – всего лишь напыщенные дикари. Кроме того, итальянцы ненавидели немецкую кухню. Одна моя соседка с ужасом рассказывала, что как-то раз при ней в ресторане один итальянец, скривившись, выплюнул сосиску («Прямо на пол!» – восклицала она) и выбежал на улицу, вопя, что эти отбросы могут употреблять в пищу только грязные гунны.
«Восточные» иностранцы – поляки, сербы, русские и так далее – жили в нищете и в постоянном страхе. При них всегда находилась охрана.
К счастью, в малярном цеху, которым заведовал Вернер, работали в основном французы и голландцы. Вернер следил, чтобы всем хватало краски и чтобы на самолеты наносили правильные опознавательные знаки. Ему очень хорошо платили. Наша квартира была лучшей во всем доме.
В домах для работников Арадо было по четыре этажа, и на каждом этаже располагалось по три квартиры. Мы жили на первом этаже с окнами на улицу. Прямо через дорогу начиналась большая пустошь, которой в дальнейшем суждено было стать парком. Пока там были только мусорные баки. В нашей квартире была спальня, большая кухня, объединенная с гостиной, еще одна жилая комната и ванная – с настоящей ванной. Фактически в ванной была газовая печка с большим чайником. Воду мы грели в чайнике и выливали в ванну. Этот предмет роскоши был только у нас.
Наша печка была приспособлена к военному времени. Она была электрическая, но без электричества ее можно было растопить угольными брикетами.
Вернер сделал все, что мог, чтобы уберечь меня от соседских сплетен. До января 1943-го, когда наконец завершился бракоразводный процесс, мы жили раздельно. Меня пригласила к себе жена его друга, Хильде Шлегель – дружелюбная кудрявая девушка. Она жила в нескольких домах от Вернера. Муж Хильде, Хайнц, тоже был художником, но его отправили на фронт. Хильде мечтала о ребенке и как раз незадолго до моего приезда перенесла операцию, которая должна была облегчить зачатие. К солдатским женам нацисты были очень щедры. Хильде всего хватало, и работать ей не приходилось.
«Когда Хайнц ушел в армию, мне выдали сумму, на которую я могла поехать с ним повидаться, – рассказывала Хильде. – Его ранили, но неопасно. Он лежал в лазарете в Меце. Ах, Грета, как нам было хорошо – это был мой первый в жизни настоящий отдых, прямо медовый месяц. Раньше нам приходилось несладко. Когда я была еще маленькой, бывали и совсем тяжелые времена. У папы двенадцать лет не было постоянной работы. Мы фактически жили на чужие пожертвования. Но когда к власти пришел наш дорогой фюрер, жить стало гораздо легче. Почти все мои знакомые одного со мной возраста вступили в Гитлерюгенд. В пятнадцать меня пригласили на банкет, организованный нацистской партией. Там подавали рулетики со сливочным маслом. Я тогда впервые его попробовала». Неужели это – единственная причина? Неужели все они притворялись слепыми и отводили взгляд ради масла? – думала я.
«Всем, что у нас есть, мы обязаны нашему дорогому фюреру, да живет он вечно».
Она чокнулась своей чашкой о мою.