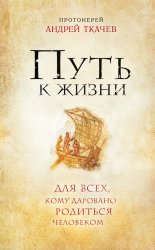Жена немецкого офицера Дворкин Сюзан

Пришло утро, а за ним следующее. Прошли недели, и в своем воображении я снова встретилась с матерью. Вечером она присела ко мне на кровать и напомнила стихи, которые я когда-то читала наизусть дедушке. Честное слово, так оно и было: на следующий день я помнила все до последнего слова и готова была учить им Ангелу. Когда моя девочка научилась ползать, я видела, как мама радостно хлопает в ладоши. «Вот видишь, Эдит, она у нас умница. Скоро будет бегать через мост в Штокерау…»
За кухонным столом, держа шляпу в руках, сидел офицер вермахта. Я думала, что он пришел сообщить о смерти Вернера. По моей шее стекали горячие слезы.
«Нет, – сказал офицер, – не плачьте. Вернер жив. Он попал в плен к русским. Его полк атаковали у крепости Кюстрин. Они отступали сколько могли. Затем их окружили, и они сдались. Все они в плену».
«Он ранен?»
«Не думаю».
«О, большое вам спасибо!» – воскликнула я.
«Он отправится в Сибирь, в лагерь для военнопленных. Вы увидитесь еще не скоро».
«Спасибо! Спасибо!»
Он надел шляпу и пошел к следующей солдатской жене.
Я была уверена, что лучшего исхода и быть не могло. Вернер был в безопасности. Он был здоров, и я не сомневалась, что в русском лагере он будет чувствовать себя не хуже других. Я думала о нем так же, как о сестре Ханси – оба они были в хороших руках. А вот братьям Вернера, Герту и Роберту, повезло меньше. Позже я узнала, что оба погибли от ран в полевых госпиталях.
Муж Хильде Шлегель, Хайнц, погиб в одном из последних сражений на Восточном фронте.
Хильде отправила свою дочь, Эвелин, к матери, а сама с ужасом стала ждать оккупации.
«Все говорят, что русские – просто чудовища, что они всех изнасилуют, – рассказывала она. – Я слышала, что, прежде чем выстрелить из пушки, они привязывают к ней какую-нибудь несчастную старушку, чтобы ее разорвало на части при выстреле».
К тому моменту я потеряла свою уверенность в том, что подобные рассказы – всего лишь пропаганда.
«Может, тебе поступить так же, как Вернер – забрать все деньги из банка, чтобы, если придется, дать кому-нибудь взятку?»
«Ах, Грета, это очень плохая мысль. Все наши деньги хранятся в банке, там их никто не достанет».
В Пасхальное воскресенье 1945 года Бранденбург подвергся очередной бомбежке. Мы остались без электричества и без газа. Эсэсовцы притащили бригаду русских и приказали им выкопать перед домами траншеи и защищать горожан. Думаю, это были военнопленные. Они так боялись наступления Красной армии, что спрятались в квартирах тех самых людей, которых должны были защищать. Их увели обратно.
Мы услышали сирену. Сигнал длился целый час, и мы поняли, что Бранденбург пал. Все мы взяли детей – их было примерно двадцать – и пошли в убежища. Одна девочка плакала и кричала, потому что ее любимая кукла осталась наверху и могла потеряться в бомбежке. Мать не вытерпела ее мольбы и пошла за куклой. Как только она снова спустилась к нам, прямо в крышу ударил взрыв такой силы, что она испугалась и выронила куклу. Плакали и девочка и ее мать. Все были на взводе.
Я уснула там, обнимая свою тихую, воспитанную Ангелу. Я знала, что нас очень скоро освободят. Один из стариков из гражданской обороны спустился к нам и сказал, что на путях стоит товарный поезд с продуктами. Многие пошли за едой и поделились найденным с остальными.
Нас разбудил немецкий солдат. «Русские прорвались, – сказал он. – Объявлена эвакуация».
Я сделала то же, что и остальные: уложила дочь в коляску и побежала. Повсюду были солдаты, указывающие, куда нам двигаться. Мы бежали и бежали. Город горел. Мы слышали взрывы – это вермахт взрывал за нами мосты, чтобы замедлить продвижение русских. Когда стемнело, я добралась до небольшого пригородного поселка. Я зашла в ближайший сарай, спряталась там в углу, завернула Ангелу в свой плащ, и мы обе уснули. Утром все небо было в огне. Как и Ангела. На ее коже выступили красные пятна. Ее лихорадило. Это была корь.
Лечить ее было совершенно нечем – у меня не было даже воды. Я стучалась во все двери, умоляя нас впустить – ведь мой ребенок был так болен. Одна наша соседка, увидев, в каком мы положении, тоже стала ходить по домам. Но все отказывали. Люди боялись. И все-таки одна женщина с дочерью разрешили мне остаться у них. Это был самый последний и самый маленький дом. Обе хозяйки уже переболели корью. Они посоветовали держать Ангелу в полумраке и обильно ее поить.
Казалось, через этот пригород прошел весь Бранденбург. По пятам горожан тянулась когда-то такая непобедимая, а теперь совершенно разбитая армия: солдаты боялись попасть в руки русских. Пара солдат зашла в наш маленький домик немного отдохнуть. У одного из них был радиоприемник, работавший от батареек. Все мы – я с больной дочерью, пожилая женщина, ее дочь и загнанные солдаты – собрались вокруг радио. Мы услышали голос адмирала Деница. Он объявил, что Германия более неспособна защищаться, война проиграна, и немцам следует подчиняться требованиям победителей.
Тишина. Никто не заплакал. Никто даже не вздохнул.
«Так. Кто-нибудь голодный?» – спросила я.
Все удивленно уставились на меня.
«Идите к местным фермерам, попросите у них муки, яиц, молока, джема и хлеба, – сказала я. – Несите продукты сюда, оружие оставьте на улице, и я вам приготовлю кое-что вкусное».
Так они и сделали. Весь день я пекла сотни нежных венских блинчиков, а хозяйка с дочерью подавали их солдатам вермахта, которые все заходили и заходили в тот маленький домик. Стоя у плиты, я неожиданно вспомнила одну древнюю песню. Я запела:
- Однажды Храм будет воссоздан,
- Евреи вернутся в Иерусалим.
- Так говорит Святое Писание.
- Да будет так. Аллилуйя!
Один из солдат прошептал мне на ухо: «Вы слишком явно радуетесь, мадам. А если вас услышит Гитлер?»
«Гитлер покончил с собой, сержант. Можете мне поверить. Гитлер с Геббельсом не стали вместе с нами дожидаться прихода русских. Иначе почему по радио выступил адмирал?»
«Это еще неизвестно, – сказал он. – Будьте осторожны».
Несмотря на явное поражение Германии, на то, что небо озаряли взрывы, на то, что мы слышали рев русских пушек, он все еще боялся сказать лишнее слово. Все мы привыкли молчать. Эта привычка врастает в человека и передается от одного другому. Немцы так боялись инфекций, особенно кори – а следовало бы бояться этой привычки к молчанию.
Перед уходом этот солдат подарил мне таблетки глюкозы. Мы называли их сахарными пилюльками. Где бы мы были без этого подарка!
На каждом доме теперь висел белый флаг – тряпка, простыня или полотенце.
Добрые женщины, приютившие меня, не были готовы приветствовать Красную армию. Они ушли. А я не была готова принимать гостей одна, так что я решила вернуться в Бранденбург. Взяв с собой как можно больше еды и уложив Ангелу в коляску, я двинулась на восток. Мимо меня в обратном направлении шли поверженные немецкие солдаты.
Прямо передо мной разверзся глубокий овраг. Над ним был перекинут мост, но кто-то проломил его середину. Скрипучие половинки соединялись теперь дверью в туалет – дверью с сердечком, какие еще ставят в деревнях. На этой узкой перемычке с трудом уместилась бы моя коляска. Сквозь вырезанное сердечко виднелись булыжники, руины и неминуемая смерть. Я так и видела, как коляска соскальзывает с моста, а моя девочка летит вниз.
«Все кончено», – подумала я.
Закрыв глаза, я перебежала через мост. Открыв их на другой стороне, я увидела, что Ангела спокойно сидит и смотрит на меня. Ее лихорадка прошла.
На дороге к Бранденбургу мне то и дело попадались трупы немцев. Лица некоторых были прикрыты газетой. Я старалась на них не наступать, но кое-где обойти тела было невозможно. После бомбежки повсюду лежали кучи обломков. Я поднимала коляску и перелезала через них.
Возвышаясь над городом, по улицам на громадных конях скакали русские.
По пути я встретила свою соседку, фрау Циглер. Она была на последних месяцах беременности и вдобавок, как я, толкала перед собой коляску с сыном. Мы решили держаться вместе и попытаться вернуться домой.
Мы прошли мимо банка. Русские разломали хранилище, достали рейхсмарки и выбросили их на улицу. В горячем воздухе от пожаров бумажки трепетали, как осенние листья. Когда немцы побежали ловить деньги, русские только расхохотались.
Наш дом на Иммельманштрассе тоже горел. Русские солдаты пробрались внутрь, вытащили матрасы, пледы и подушки на улицу и теперь отдыхали там с сигаретами, наблюдая за пожаром. Большая часть фасада уже разрушилась, и был виден подвал, где я хранила чемодан, который оставила у Пепи моя мама. Я даже видела этот чемодан сквозь клубы дыма.
«Мне нужно забрать чемодан!» – закричала я и, как безумная, кинулась прямо в огонь. Меня остановил невыносимый жар. Фрау Циглер умоляла меня успокоиться – какие великие ценности стоили того, чтобы рисковать жизнью? Но я снова бросилась в огонь. Он победил, опалив мне волосы и брови. «Помогите, кто-нибудь, мне нужно забрать чемодан! Помогите!»
Один из наблюдавших за этим русских набросил на себя плед, сбегал в подвал и вытащил мой чемодан. Я не могла перестать его благодарить. Кажется, я даже целовала ему руки. Я сразу откинула крышку, и этот русский вместе с товарищами с любопытством заглянул внутрь. Вероятно, он ожидал увидеть что-нибудь невероятно ценное – драгоценности, серебро или картины. Увидев, что я так убивалась из-за потрепанного, неаккуратно переплетенного синего томика Гете, русские решили, что я свихнулась.
Наш дом был разрушен. Нужно было найти место для ночевки. На улице мы встретили доктора, пожилого человека, который лечил наших детей. Он сказал нам пойти в протестантскую школу для девочек. Учителя школы проводили нас в крошечную комнатку, что-то вроде гардеробной или гримерки, сразу за сценой актового зала. Там были две пары носилок, метла и раковина. И мы и дети просто падали от усталости. Мы легли на носилки и моментально уснули, даже не подумав запереть дверь.
В середине ночи я проснулась. Отовсюду доносились какие-то подвывания – звук был похож не на сирену, а на тихий, сдавленный крик. Он исходил словно бы прямо из земли и из неба. Мимо комнатки, где мы укрылись, то и дело проходили пьяные русские солдаты. Они не заходили, потому что мы не заперли дверь. Толкнув ее и не увидев ничего, кроме черноты, они, видимо, решили, что это просто чулан. Всю ночь мы с фрау Циглер лежали, держась за руки, боясь даже дышать, и молили Бога, чтобы дети не шумели.
Утром мы отправились на улицу и бродили по городу, пока не нашли заброшенную квартиру. Ни окна, ни двери не запирались, но такие мелочи для нас ничего не значили. Из еды у нас осталось только несколько холодных блинчиков, однако на улице был пожарный кран, из которого всегда можно было набрать воды. Я кормила дочку разведенными в воде таблетками глюкозы.
Постоянные изнасилования продолжались несколько дней, а потом резко прекратились. Почти у всех нашлись родственники, к которым можно было обратиться. Фрау Циглер уехала к матери. У меня никого не было, и я осталась в той квартире рядом с пожарным краном.
Я искала в городе знакомых. В одном из неповрежденных зданий жила моя подруга. Она сидела на стуле у окна и глядела на разрушенный город – на дымящиеся руины, на слоняющихся с сигаретами русских. Ее глаза были обведены фиолетовыми синяками. Под носом запеклась кровь. Платье было разорвано.
«Я предложила ему забрать часы моего мужа, – сказала она, – но у него на руке и так было с десяток часов». Она не плакала. Думаю, она выплакала все, что могла. «Слава Богу, что ребенок был у матери».
«Здесь недалеко наш педиатр, – сказала я. – Может, позвать его…»
«Нет, не надо. У меня есть еда и вода». Она огляделась вокруг, зная, что старая жизнь кончена, и уже по ней скучая, скучая по мертвому фюреру и мертвому мужу, скучая по правительству, которое обещало ей мировое господство. «У меня еще никогда не было такой хорошей квартиры», – сказала она.
Через некоторое время вернулись пожилые владельцы найденной мною квартиры. Они были рады, что я ничего не украла, и позволили мне остаться. Не знаю, чем питалась тогда моя дочь, что мы ели, где доставали продукты – просто не представляю. Поиски пищи были настоящим приключением.
Мы часами стояли в очередях, дожидаясь, когда кто-нибудь выдаст нам немного лапши, сухого гороха или черного хлеба. На завтрак мы готовили жидкую мучную похлебку с солью. Для Ангелы я добавляла туда сахар. Я так похудела и ослабла, что не всегда могла поднять дочь.
Очень скоро в городе не осталось ни одной кошки или собаки.
Хаос продолжался несколько месяцев. Не было никакого порядка, не было ни электричества, ни воды, ни транспорта. Все крали, что могли, и все голодали.
Ни в одном здании, ни в одном коридоре не осталось ни одной лампочки. Их просто растащили. Если тебя приглашали на обед, нужно было брать собственные приборы. Почту доставляли лошадьми. В 1945-м Пепи прислал мне рождественскую открытку. Я получила ее в июле 1946-го.
Сигареты стали валютой. Американцы шутили, что любую немку можно купить за сигареты. В определенное время немцы приносили в определенное место фарфор, кружево и антикварные часы, и, поскольку русским с немцами общаться было запрещено, все эти вещи продавались британцам и американцам в обмен на самое необходимое.
После прихода русских в знак капитуляции все надели белые нарукавные повязки. Я этого не сделала. Я чувствовала свою принадлежность к победителям. Иностранные рабочие придумали надевать повязки с цветами флага родной страны, чтобы русские знали, кто они, и дали им еды на дорогу домой. Как-то я даже встретила австрийца с красно-бело-красной повязкой – с цветами австрийского флага. Я поступила так же, и русские дали мне немного продуктов.
Они открыли тюрьмы и выпустили всех заключенных, будь то убийцы, воры или политические преступники. Один из амнистированных, когда я стояла в очереди, заметил на мне австрийские цвета и радостно сказал, что он тоже из Австрии и что его посадили «за подрывную деятельность против немецкой армии».
Он спросил, где я жила. Я сказала. Он исчез. Я забыла о нем. Больше чем через неделю к нашему дому подъехал грузовик. Как нам тогда показалось, там было огромное количество картошки и овощей – там были даже фрукты.
«Это тот австриец, – объяснила я своим счастливым соседям. – А я даже не знаю, как его зовут».
«Это был ангел господень», – сказали старички.
Продовольственные карточки появились только через полгода. На ребенка стали выдавать по 250 мл снятого молока. До этого мы жили на деньги, которые мне удалось забрать из банка. Я всегда носила их с собой или укладывала в коляску под ребенка. Деньги закончились. Мне нужно было искать работу. Однако для этого мне требовалось настоящее удостоверение личности. Достать его было нелегко: я все еще боялась признаться в том, что я еврейка.
Во время войны о евреях не говорили ни слова. Их даже не вспоминали. Как будто никто и не знал, что до недавнего времени в стране жили евреи. Однако теперь немцы постоянно говорили о том, что евреи могут вернуться и отомстить. Каждый раз, когда в городе появлялись чужаки, мои соседи внутренне напрягались. «Это евреи?» – спрашивали они, боясь, видимо, что к ним пожалуют до зубов вооруженные, полные ненависти люди, решившие следовать принципу «око за око». Смешно! Тогда никто и представить себе не мог, какая всеобъемлющая катастрофа постигла еврейский народ, как изголодались, исстрадались, измучились немногие выжившие.
Учитывая все это, я боялась открыто признаваться в своем еврействе. Я боялась, что приютившие меня люди – вполне возможно, носившие одежду какого-нибудь мертвого еврея и даже проживавшие в когда-то принадлежавшем ему доме – подумают, что я могу что-нибудь у них украсть, и выставят нас с Ангелой на улицу.
Только в июле, через два месяца после победы русских, осмелилась я разрезать сделанный Пепи переплет и вытащить свои старые документы.
Я пошла к юристу, доктору Шютце. Он отправил в суд запрос на смену моего имени с Греты Феттер Деннер обратно на Эдит Феттер Хан.
Потом я пошла на радиостанцию и попросила, чтобы ее имя включили в список пропавших без вести, который тогда зачитывали каждый день. «Вы знаете, где сейчас находится Клотильда Хан, швея из Вены, которую депортировали в Польшу в июне 1942-го? Вы видели ее или что-то о ней слышали? В таком случае, пожалуйста, свяжитесь с ее дочерью…»
Вернувшиеся из лагерей коммунисты подтвердили слова Томаса Манна. Один из них рассказал мне, что должен был сортировать одежду евреев, которых перед отправкой в газовые камеры обязательно раздевали. Он проверял, не было ли в подкладке драгоценностей или денег. Я вспомнила коричневое мамино пальто, блузы из тонкого шелка, и представила, как этот человек вспарывает на них швы.
Нет, подумала я. Нет. Это невозможно.
Понимаете, я до сих пор не могла смириться с тем, что мою маму постигла такая ужасная судьба. Это было невыносимо. Строго говоря, мое неверие было не таким уж и глупым: каждый день восставали из пепла и бросались в объятия близких люди, которых давно считали мертвыми. Поэтому я просила, чтобы мамино имя объявляли по радио. Я надеялась, что она вернется.
Придя в отдел центральной регистрации, я, к своему ужасу, застала там того самого служащего, что проводил брачную церемонию.
«А, фрау Феттер! Как же, я вас помню».
«Я вас тоже не забыла».
«У меня тут все еще сказано, что документы на мать вашей матери так и не поступили. Возможно, их могут предоставить наши русские друзья?»
«Едва ли. Мои документы – подделка».
«Что?»
«Вот, это мои настоящие документы. А это – постановление суда. Вы обязаны зарегистрировать меня под моим настоящим именем».
Он в оцепенении уставился на удостоверение моей еврейской личности.
«Так вы мне врали!» – воскликнул он.
«Именно так».
«Вы подделали расовые бумаги!»
«Верно».
«Вообще-то это серьезное правонарушение!»
Я наклонилась к нему. Близко-близко. Чтобы он чувствовал мое дыхание.
«Едва ли где-нибудь в Бранденбурге найдется адвокат, который сумеет меня за это посадить», – сказала я.
Впервые за несколько лет я была самой собой. Вы спросите, каково это было? Что ж, я вам отвечу. Я не ощущала ничего особенного. Видите ли, та Эдит вернулась ко мне не сразу. Она все еще была в бегах, все еще подлодкой лежала на самом дне. Она, как и остальные евреи, не могла восстановиться за секунду. Для этого потребовалось время. Немало времени.
Вечность.
С новым удостоверением личности я отправилась к мэру города, коммунисту, много лет прожившему в концлагере.
«Из какого лагеря вас освободили?» – спросил он.
«Я обошлась без лагерей», – ответила я.
Мэр ознакомился со спасенными Пепи бумагами из университета. Увидев, что я вполне могла работать младшим юристом – эта должность называлась Referendrar, – он направил меня в суд Бранденбурга. Там я сразу получила работу – а вместе с ней, совершенно неожиданно, и новую жизнь.
На поверхность
Вся нацистская верхушка давно сбежала вместе с награбленным. В Бранденбурге осталось много мелких нацистов. Все они отрицали близость к партии. Однако здание суда, где хранились личные дела, бомбы не повредили, так что русские достоверно знали, кто поддерживал нацистов, а кто нет. В суде хранилась корреспонденция. Часто мы видели на письмах знакомые имена. Большинство заканчивали письма фразой «Хайль Гитлер!». Главные энтузиасты приписывали еще «Gott Strafe England!» – «Да прикончит Англию Бог!». Мало кому удавалось соврать и не быть пойманным. В отличие от американцев и англичан, русские отказывались нанимать нацистов. В связи с этим все, кому удалось доказать свою непричастность к режиму и наличие юридического образования, неожиданно оказались в большой цене. Таких было совсем немного. В стране отчаянно не хватало рабочей силы.
1 сентября 1945 года я отправилась на работу на второй этаж здания земельного суда. Мой начальник – господин Ульрих – выдал мне материалы по нескольким закрытым делам, чтобы я разобралась в изменениях законодательства. Когда-то этого выдающегося юриста уволили за отказ вступить в партию. Теперь он любил спрашивать: «Скажите, сэр, а вы были членом партии?» После этого он откидывался на спинку кресла и любовался тем, как собеседник потеет, ерзает на стуле и отчаянно лжет.
Сначала я работала чем-то вроде делопроизводителя – по-немецки эта должность называется Rechtspfleger. Эти сотрудники выполняют некоторые функции, раньше принадлежавшие судьям. Через некоторое время я стала уже Vorsitzende im Schf engericht, председательницей коллегии, состоящей из трех человек: судьи и двоих судебных заседателей. (Собрать двенадцать присяжных, не имевших отношения к партии, было невозможно.) В Судебном управлении власть перешла к русским. Они хотели, чтобы я работала с политическими делами, однако я отказалась и стала судьей по семейным делам.
Мечта стать судьей появилась у меня из-за дела Халсмана. Отношения с Пепи только подлили масла в огонь. Я давно отказалась от этой мысли, и все же теперь забытая мечта воплотилась в жизнь. Я стала судьей.
У меня был свой кабинет и мантия. Перед тем, как я входила в зал суда, пристав объявлял: «Das Gericht!», и все стоя дожидались, когда я займу свое место.
Это было лучшее время моей жизни. Только тогда я использовала в работе всю силу своего ума – а это неописуемое удовольствие – и только тогда я действительно могла хоть немного облегчить людские страдания.
Едва получив работу в суде, я заболела. Из-за недостаточного питания по коже пошла сыпь. Ноги постоянно подворачивались и болели от неподходящей обуви. Я очень устала и в итоге легла в больницу. Ангела осталась у хозяйки квартиры.
Выздоровев, я подала в жилищный отдел заявление о предоставлении жилплощади. Это заняло два месяца, зато потом мне выделили прекрасную квартиру в самом лучшем районе, на Канальштрассе. Раньше там жил один из сбежавших нацистов. Там даже был балкон.
Мебель я получила на хороших условиях от нового владельца нацистской мебельной фабрики, украденной партийцами у евреев. Помню один богато украшенный стол с медными деталями и ножками, выделанными в форме львиных лап. Это был стол для СС, а выглядел он так, словно его вынесли из дворца.
Вдобавок к этому оказалось, что в моем доме живет начальник электроэнергетического обеспечения города, коммунист, вернувшийся из какого-то лагеря. Благодаря ему нас подключили к русской сети. В отличие от большинства бранденбургцев, у нас дома было светло.
Вы спросите – чем мы питались, как доставали продукты. Скажу так: в основном, как в английской песенке, нас выручали друзья и знакомые.
Я вступила в организацию «Жертвы фашизма», в которой было множество таких же, как я. Там были не только коммунисты, но и евреи, ставшие «подлодками» – подделавшие документы, скрывшиеся в глубинке или сбежавшие с маршей смерти или из лагерей. Для меня было очень важно понять, что я была не одинока. Стоило нам взглянуть друг другу в лицо – и мы без единого слова понимали, что пережил человек напротив. Там, среди жертв фашизма, я наконец обрела то, чего искала и не находила в поездках в Вену – настоящее понимание и возможность отдохнуть от лжи, страха и скитаний.
Новые друзья подарили мне бутылку вина. Я отдала ее русскому солдату в обмен на бутылку растительного масла. И я, и он остались весьма довольны этой сделкой.
В очереди за хлебом я познакомилась с женщиной моего возраста по имени Агнес. Когда я пыталась выздороветь на скудном больничном питании, она каждый день приносила для меня что-нибудь из продуктов. Ее брат служил в СС. Ее муж – кажется, его звали Генрихом – был коммунистом. Его десять лет продержали в концлагере Орианенбург. Ближе к концу войны ему удалось сбежать и связаться со своими соратниками по идеологии. Его новые друзья раздавали листовки, призывая иностранных рабочих саботировать производства. Теперь Генрих стал важным чиновником Бранденбургского муниципалитета. Он занимал такой высокий пост в партии, что ему даже выдали машину.
Помню еще одного рыбака, Клессена. Во время войны он разрешил приютившим Генриха коммунистам использовать его лодку в качестве плавучего штаба. Там они и печатали свои антинацистские листовки. Младший сын Клессена погиб под Сталинградом. Как-то раз Клессен сдал свою лодку напрокат одному немцу. Тот так небрежно и бесчувственно говорил о потерях на фронте, что рыбак пришел в ярость и пристрелил его. Конечно, после этого Клессен бежал. Он спрятался в лесах. Война кончилась, и он вернулся.
Русские ему доверяли. Клессен и его жена стали моими друзьями. Они давали мне рыбу, овощи и картошку – так щедро, что я даже отправляла лишнее в Берлин, тете Пауле и сестре Вернера Гертруде. Как-то раз Клессен принес мне прямо в кабинет мешок с тайно выловленными угрями. Я убрала рыбу в ящик письменного стола. А потом, прямо в середине какого-то собеседования, стол затрясся: пусть и мертвые, угри все еще прыгали и извивались.
С первого же дня работы в суде я стала обращаться в русскую администрацию и звонить в комендатуру с просьбами вернуть Вернера из Сибири.
«Мой муж – немецкий офицер, – объясняла я. – Но его взяли в плен в самом конце войны, он практически не служил на фронте. Он инвалид по зрению. Нельзя, чтобы он остался в лагере. Он хороший человек, он помог мне скрываться. Пожалуйста… выпустите его».
В ответ на просьбы русские никогда не говорили открыто «да» или «нет». Они молчали, так что вы до самого конца не знали, какое решение они приняли. Поэтому я продолжала просить. Они молчали, а я продолжала просить.
Постепенно восстановилась почта и телефонная связь, и до меня дошли новости о родных и близких. Моя сестренка Ханси прибыла в Вену в составе британской армии и постучалась в дверь к Юльчи. Великое счастье их встречи живительным водопадом пролилось на мой разрушенный немецкий городок. Я узнала, что Элли, моя двоюродная сестра, находится в Лондоне, и у нее все хорошо, что Мило и Мими в Палестине, что художник Макс Штернбах, мой двоюродный брат, пережил войну, притворившись французским пленным, что Вольфганга и Ильзе Ромеров спасли квакеры, что Вера и Алекс Робичеки, тоже двоюродные, сумели скрыться в Италии, что дядя Рихард и тетя Рози жили в Сакраменто.
Понимала ли я, что почти все остальные погибли? Мои венские друзья, девушки из лагеря, десятки родственников – все… Могла ли я это представить?
В работе я сосредоточилась на детях. В те дни повсюду толпами ходили нищие немецкие дети. Они выпрашивали на вокзалах милостыню и ночевали прямо на тротуарах, на кучах тряпья. Конечно, они обращались к преступности. Начинали продавать еду на черном рынке. Продавали сестер или самих себя. Крали все, до чего могли дотянуться. Этих детей и приводили ко мне в суд по семейным делам. Помня Остербург, ставший лучшей из моих тюрем, я отправляла их не к закоренелым преступникам, а на работу под открытым небом: расчищать завалы или мостить улицы.
Русские повсюду искали детей, родившихся от связи немцев и иностранных рабов, забирали их у родных или приемных матерей и увозили в Советский Союз. Такова была месть за бессердечный захват тысяч русских детей, которых ждал рабский труд или «арийская» жизнь.
Однако национальная политика может обернуться личной трагедией. Так оно и случилось с Карлой, моей бывшей соседкой сверху. Она пришла ко мне в кабинет.
«Правда, что ты еврейка, Грета?» – спросила она.
«Да. Только меня зовут не Грета. Я Эдит».
«Тогда, наверное, я могу рассказать тебе, что у меня случилось, ты поймешь. Знаешь, у нас с мужем не было детей, но мы никак не могли получить ребенка для усыновления, потому что не вступили в партию. Из-за этого отделы усыновления не хотели давать нам ребенка, хотя их было очень много».
«О, так вот почему…»
«Мы нашли ребенка, дочь французского пленника и девушки с фермы в Восточной Пруссии. Мы отдали их семье все, что могли. Ты знаешь, как я обожаю свою малышку Эльзи, она для меня – весь мир. Но теперь русские забирают всех таких детей… Грета… то есть Эдит… Поэтому мы так быстро сбежали еще до рассвета… (она потупила взгляд). И чтобы моему брату было где переночевать…»
«Я понимаю».
«Я нарушила столько законов, столько поддельных бумаг подписала, чтобы защитить ее, чтобы все подумали, что она моя, что это я ее родила. Но этих детей сейчас забирают. Я так боюсь… нет, не попасть в тюрьму – я бы с радостью туда попала – я боюсь потерять свою девочку. Грета… то есть Эдит… Я на все готова, только чтобы она осталась со мной. Ты мне поможешь?»
«Да», – сказала я.
И помогла. Наконец настала моя очередь спасти человеческую жизнь.
Снова и снова разворачивались очень похожие сражения за право опеки. Немецкий офицер находится в лагере. Он разведен, детьми занимается вторая жена. Родная мать детей утверждает, что их отец-нацист не сможет «привить им демократические ценности», и требует единоличного права опеки.
Я думала о своем Вернере в русских снегах и представляла, что это Элизабет прикрывается русской оккупацией, пытаясь забрать у него Барбль. В таких делах я не уступала. Никогда.
Один очень старый судья, вернувшийся из отставки, рассказал об одном деле, которое он рассматривал еще во время войны. Один мужчина, наполовину еврей, был женат на арийке. Когда нацисты заставили его мести улицы, он принялся последними словами ругать Геббельса, рейхсминистра пропаганды. Полицейские были уже готовы везти его в концлагерь, но судья только оштрафовал этого мужчину за клевету и посоветовал ему подумать о семье и в будущем держать рот на замке.
В 1946-м ко мне в кабинет пришла дочь этого «клеветника» и попросила помочь ей эмигрировать в Палестину. В Европе оставалось тогда почти 100 000 евреев, и все они отчаянно хотели сбежать с континента, где превратились в пепел шесть миллионов их братьев и сестер. Англичане даже их не пускали в Палестину, что и говорить о немке христианского вероисповедания.
Эта девушка ходила всюду, куда я советовала обратиться – в Американский еврейский объединённый распределительный комитет, в Общество помощи еврейским мигрантам, в Британское консульство – и в конце концов действительно уехала в Израиль и вышла здесь замуж. Ее родители переехали к ней и тоже хорошо здесь устроились.
В конце войны покончили с собой не только Геббельс и Гитлер. Таких людей было множество. Например, так же поступила моя венская преподавательница вместе с мужем, который был нацистским судьей, и учительница латыни – она была из южного Тироля. Поэтому, когда ко мне привели женщину после попытки самоубийства, я решила, что она нацистка и боится Гулага.
Она постоянно твердила, что защищать ее в суде должна именно я.
И как только я ее увидела, я поняла, почему.
Мы познакомились в родильном отделении Stдdtische Krankenhaus. Это была та самая изнасилованная и избитая мужем женщина, которая боялась тогда идти домой. Отчаявшись, она утопила своих детей в реке и решила утопиться сама. Ее вытащил русский солдат. Теперь ее ждал суд по делу об умышленном убийстве.
Предыдущий адвокат отказался от этого дела, и им занялась я. Это был единственный раз, когда я представляла кого-либо в суде.
«Это безумие, – говорила я. – Безумие, спровоцированное невозможной жестокостью. И кто не сошел бы с ума от таких страданий? Кто не подумал бы, что детям лучше умереть, чем жить в муках? Если бы моя мать знала, какая мне предстоит жизнь, едва родив, она, несомненно, тут же убила бы меня».
Эту женщину оправдали.
Мне хотелось с кем-то поделиться своей новой, безопасной жизнью, и, кроме того, пока я была на работе, Ангеле нужно было с кем-то играть. Поэтому я договорилась об опеке над девочкой по имени Гретль, которая вместе с братом жила в местном приюте. Она звала меня тетей и стала Ангеле настоящей старшей сестрой. Каждый вечер я кормила девочек ужином, читала им на ночь и укладывала их спать, подоткнув со всех сторон одеяла.
«Тетя, а когда вернется моя мама?»
«Я не знаю, Гретль».
«А когда вернется папа?» – спросила Ангела.
«Они оба уже очень скоро к нам вернутся».
«А папа какой?»
Я уже сто раз рассказывала о нем, но девочки хотели слушать о папе каждый день. «Ну, наш папа большой. Сильный. И очень красивый. Он умеет прекрасно рисовать. И может съесть больше, чем мы втроем, вместе взятые!»
Они захихикали, и я поцеловала их на ночь. Эти счастливые сценки живы в моей памяти – я так и вижу, как их ресницы опускаются, и девочки мирно, тихо засыпают.
Впервые за десять лет я почувствовала себя самой собой. У нас с ребенком был дом. У меня были друзья, которые меня понимали, с которыми я могла говорить абсолютно открыто. У меня была чудесная, интересная, сложная работа, и благодаря ей я могла немного изменить мир к лучшему. Настоящая Эдит Хан постепенно возвращалась. Я снова смеялась, снова спорила и снова мечтала о будущем.
В мечтах ко мне возвращалась мама. Конечно, говорила я себе, она будет выглядеть старше, конечно, долгие годы в польском гетто измучили ее. Но отдых, хорошая еда и наша с Ангелой любовь и забота быстро сделают ее такой же остроумной и энергичной, как раньше, и она всегда будет со мной. Мы больше никогда не расстанемся.
В мечтах ко мне возвращался Вернер. Ему понравится наш новый дом. Он будет работать художником, и мы снова станем семьей, а может быть, и заведем второго ребенка. Я закрывала глаза и представляла малышей, сидящих за обеденным столом, и белые салфетки, заткнутые им за воротнички.
Хильде Бенджамин, ставшая министром, каждый месяц собирала в Берлине всех женщин-судей. В одну из этих поездок я посетила Американский еврейский объединённый распределительный комитет, через который американские евреи пытались помочь остаткам нашего народа в Европе. Я начала ежемесячно получать от комитета посылки с сигаретами, которые я могла обменять у сапожника на обувь для Ангелы, гигиеническими салфетками и носками.
Как-то раз в Берлине я увидела, как какой-то английский солдат лезет на столб. Он протягивал телефонную линию между русской и английской зонами.
«Моя сестра служит в английской армии, – сказала я. – Моя двоюродная сестра из Вены дала мне ее номер фельдпочты. Но я ей написать не могу, я не военная. Вы не могли бы передать ей письмо?»
Он слез на тротуар. Это был вежливый английский паренек – веснушчатый, с торчащими вперед зубами.
«Конечно, мадам, с удовольствием».
Присев на полуразрушенную лестницу, я написала письмо и отдала ему.
«Если найдете ее – скажите, что я живу в Бранденбурге, что я судья. Что у меня все хорошо, что я люблю ее… Это моя младшая сестренка… Скажите, что я каждый день о ней вспоминаю…»
Прошло всего несколько недель, и мой англичанин принес письмо от Ханси прямо в зал суда. С тех пор он регулярно передавал для нас письма и посылки. Ханси прислала мне резинку для белья, швейные иглы и рыбий жир для моей дочки. Она рассказала, что была с английской армией в Египте и занималась допросами немецких солдат.
«Для англичанки вы прекрасно говорите по-немецки, – заметил один из них. – Где вы этому научились?»
«Вопросы задаю я», – отрезала Ханси.
Счастье победы.
Осенью 1946 года один из моих коллег рассказал мне о транзитном лагере во французской зоне, где собирались выжившие евреи. Хотя мамино имя все еще каждый день объявляли по радио, а новостей о ней так и не было, я подумала, что, может быть, в том лагере кто-нибудь ее вспомнит. Кроме того, приближался праздник Рош а-Шана, и мне хотелось побыть среди евреев. Я попросила у начальства пару выходных, и коммунисты согласились.
Любая поездка тогда была сущим адом. Поезда ходили как Бог на душу положит. Повсюду стояли ядовито-зеленые знаки, рассказывающие, какие жуткие болезни ожидают всех, кто решится воспользоваться общественным транспортом.
На перроне какие-то змеиноподобные люди предлагали по ценам черного рынка чулки, кофе, шоколад и сигареты. Ходя по улицам, приходилось перелезать или обходить целые горы камней. Из дыр, которые прежде были окнами, высовывались трубы для отопления, от которых шел страшный запах газа. Почти всю дорогу до лагеря я не усаживала Ангелу в коляску, а несла ее на руках, толкая коляску перед собой.
Мне кажется, тот лагерь устроили в школе. Просторные комнаты были уставлены кроватями. Все это было похоже на какое-то укрытие, полное жертв наводнения или урагана. На одной половине размещались старики и дети. Впрочем, старики могли быть совсем еще не старыми: понимаете, все эти люди словно восстали из мертвых. Все они были совершенно бесцветные, изможденные и беззубые, все они слепо таращились на нас и тряслись. Я держала Ангелу на руках. Они тянулись к ней, только чтобы коснуться здорового ребенка. Моей матери там не было.
Оставив Ангелу у одной из санитарок, я пошла на другую половину лагеря, к людям помоложе. Сзади ко мне подошли седые мужчины с холодными глазами. Они принялись гладить мне руки.
«Ложись ко мне, красотка, я таких, как ты, сто лет не видел».
«Не трогайте меня! Я ищу свою мать!»
«Ты еврейка? Откуда ты?»
«Да, я еврейка. Из Вены. Я ищу Клотильду Хан!»
Они окружили меня. Я испугалась. Вокруг не было никого, кто мог бы мне помочь.
«Не трогайте меня! – кричала я. – Я замужем. Мой муж – военнопленный. Он в Сибири. Я здесь с ребенком. Я приехала на Рош а-Шана, я хотела побыть с евреями. Разве вы евреи? Это невозможно! Я вас не узнаю!»
Один из них схватил меня за волосы и оттянул мою голову назад. Это был высокий, костлявый человек с бритой головой и черными глазами. Белки глаз у него были красноватые.
«Так ты, сука, замужем за немецким солдатом, да? Поэтому ты так хорошо выглядишь, такая здоровая, чистая и розовенькая. – Он обернулся к товарищам. – Что вы на это скажете, друзья? Она спит с гойим. И считает себя выше того, чтобы спать с нами».
Он на меня плюнул. Зубов у него было только два, и они были похожи на клыки.
Казалось, чтобы выбраться, мне придется продираться через тысячу хватающих меня рук.
Как эти хищные, жестокие люди могли быть евреями? Это просто невозможно! Где почтенные, сдержанные польские раввины, которых я помнила по Багдаштейну? Где гениальные, утонченные молодые люди, с которыми я училась в университете? Что эти чудовища сделали с моим народом?
Тогда я впервые ощутила жуткое, иррациональное чувство вины, что мучит всех выживших. Я впервые подумала, что, возможно, моя жизнь оказалась гораздо легче, чем у других, что мучения, так изменившие жителей транзитного лагеря, никогда не дадут им принять меня как свою.
Я не могла унять дрожь, я не могла прекратить плакать.
Я ушла на другую половину, чтобы побыть со стариками и помочь санитаркам с осиротевшими в этом кошмаре детьми. Я обнимала их и разрешала поиграть с Ангелой, учила простеньким играм, чтобы развеселить. С ними я немного успокоилась.
Но на обратном пути силы мне изменили. Теперь дотащить Ангелу до станции казалось мне невыполнимой задачей. Я оставила ее у одной из санитарок и пообещала, что приеду за ней на машине.
На станции один из продавцов с черного рынка сказал мне, что есть поезд, который идет через Бранденбург, но это русский поезд. «Может, таким, как вы, лучше на нем не ездить», – добавил он.
Но у меня не было выбора.
Поезд пришел. В нем было пусто. «Это мой поезд», – сказал ответственный офицер. У него были прямые светлые волосы и что-то славянское в лице. «Если хотите со мной ехать, заходите в купе».
Так я и сделала. Сидеть я не могла – слишком нервничала. Я встала у окна. Русский подошел ко мне, встал рядом и обнял меня за талию.
«Я не немец, – сказал он, – я еврей».
Он убрал руку.
«В поезде есть еврейский офицер. Он отвечает за все поезда. Пойдемте. Я вас представлю».
Еврейский офицер был темноволосый и темноглазый, как мой отец. Он заговорил со мной на идише.
«Я не знаю идиша», – сказала я.
«Значит, вы не еврейка».
«Я из Вены. Мы не учили идиш».
«Венских евреев больше нет. Всех убили. Вы врете».
«Шма, Исраэль, – сказала я, – Адонай Элохейну. Адонай Эхад».
Этих слов я не произносила с похорон отца. Прошло десять лет, исчезла целая вселенная. Я закусила губу, меня душили слезы. Я оперлась на его стол, чтобы не упасть.
Наконец он сказал: «Этот поезд каждую неделю идет в эту проклятую Богом страну совершенно пустым. Мы забираем пленных русских и увозим их домой. Вот расписание. Вы можете садиться на этот поезд в любое удобное вам время. Я гарантирую вашу безопасность».
Он держал меня за руку, пока я не успокоилась. Если честно, я иногда думаю, что успокоиться мне с той поездки в транзитный лагерь так и не удалось.
Да, вы видите мою маску спокойствия. Но внутри я всегда плачу и буду плакать вечно.
На следующий день муж Агнес на машине отвез меня в лагерь, и я забрала Ангелу. Санитарки были удивлены. Наверное, они не ожидали, что я вернусь. Но я родила ребенка в самый разгар войны не для того, чтобы его бросить.