Смута Теплов Юрий
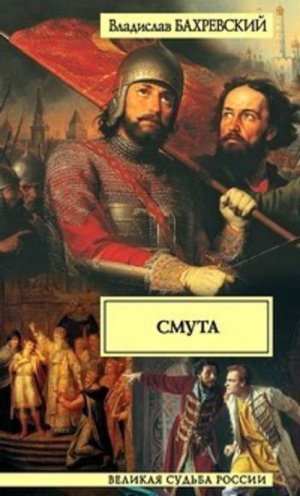
И выловили.
Во весь тот ужас поп Тихик в церкви молился. Махонькую попадью свою с детками, крошечками, в алтаре укрыл. Дотемна молился. Изнемог, сел на приступочку алтаря – слышит, тихо в селе. Вышел из церковки – тихо, темно.
Нет Наливайки. Налился, как комар, русской кровью и улетел.
Была жизнь в Киржаче, а теперь сделался ад.
Перестали люди в церковь ходить.
Нет мочи думать о рае, когда в избе Сатана нагадил. Пустынно было на улице, не звенело железо в кузнице, не топилась печь в доме Павлы и Пуда.
Тишина объяла землю. Только и слышно было: снег шелестит, падая с неба.
Суздаль отобрал у Шуйского пришедший из Пскова Федор Кириллович Плещеев. Поспел в город раньше Лисовского. Горожане, созванные сполошным колоколом, хотели затворить ворота и сидеть, сколько сил хватит. Громогласный дьякон выкрикивал речь, которую говорил пастве старенький архиепископ Галактион:
– Сохранив верность царю Шуйскому, мы спасем себя от плена и позора! Сохраним себя в чистоте перед Родиной, перед Богом!
Слова были крепкие, но ввалился на площадь с ватагою сапожников голова их сапожного племени, пьяная рожа Минька Шилов, орал матюги бессмысленные. Одно было понятно, и то была правда.
– Вам, попам, какую бы задницу ни лизать, лишь бы задница была! – орал Минька. – Годунов всю Россию-матушку голодом уморил, а вы ему – аллилуйя! Нет вам веры! И поставили сапожники на помост своего приходского попа Сеньку, и целовали крест Дмитрию Иоанновичу, и весь город оставил архиепископа и перешел на сторону крикливых.
Ворота славного древнего Суздаля отворились перед тушинским воеводой, и Федор Плещеев под колокола был встречен крестным ходом, хлебом-солью.
Безумная радость перемены затмила разум суздальцев. Без боя, без крови, в единочасье верный царю и России, исконная столица русская – город Владимир переметнулся на сторону шатрового царя. К Владимиру подошел с небольшим отрядом перелет, чашник царя Шуйского, а ныне воевода Вора Мирон Андреевич Вельяминов-Зернов.
Войска во Владимире было много, запасов много, народ прямодушен, но так случилось, что в городе стоял с сильным отрядом окольничий Иван Иванович Годунов.
Каким ветром и откуда нанесло на Русскую землю самозванство, Иван Иванович знал, может быть, лучше самих самозванцев – царь Борис, отправляя его под Кромы, говорил с ним об этой тайной материи как на духу.
Шуйский, противоборствуя измене доверием, послал Годунова воеводствовать в Нижнем, но не в добрый для себя час. Иван Иванович, вырвавшись из Москвы, вознамерился отмстить Шуйскому за все зло, какое тот принес роду Годуновых. До Нижнего он так и не дошел, торопясь с изменой, здесь, во Владимире, первым целовал крест, присягая на верность Тушинцу. Владимирцы помешкали, но покорились. И прибыло у Вора, и убыло у Шуйского. Сел во Владимире воеводой Мирон Вельяминов.
Отправляясь в Тушино, Иван Иванович Годунов улучил минуту, чтоб остаться с новым воеводой с глазу на глаз.
– Я знаю, Мирон Андреевич, ты человек недвоедушный! Коли от Шуйского ушел, значит, Шуйский тебе не друг.
Лицо у Вельяминова было строгое, глаза строгие, честные, и Годунов спросил напрямик:
– Я предал Шуйского, ибо он мне враг. Но скажи, не царапает ли кошка лапой за самое сердце – ушли от глупого царя, а умный-то Вор!
– Шуйский царь без царства, – ответил Вельяминов. – Мне не Шуйский дорог, а дорого мне царство, которому я сын. Я не могу видеть, как Шуйский от своего хитрого ума развеял в прах огромную страну. Каждый город сам по себе, каждое село само по себе. И люди тоже сами по себе… Пусть Вор, да царь.
Годунов улыбнулся.
– Да поможет нам Бог, Мирон Андреевич. Ты, однако, приглядывай за панами. У них на чужое роток открыт широко и страшнее, чем у волка. Главное – не позволяй жечь деревеньки.
В тот же день Вельяминов говорил Постнику Ягодкину, который шел с отрядом пана Наливайки собрать с Владимирщины подати для тушинской казны:
– Смотри за поляками в оба глаза. Не позволяй насильства и грабежа. Будь защитником своей русской крови, не прибавляй сирот и нищих.
Был Постник Ягодкин могуч, широколиц. Глаза голубые. Волосы белые, шелковые. Внучок Илье Муромцу. У дьявола, коли он из ангелов, тоже крылья, должно быть, растут.
Миновав пригородные села и деревеньки, Постник предложил Наливайке идти на реку Судогду по монастыри. И вышли они на реку и увидели два каменных красавца: белый и красный.
– Красный – богатый мужской монастырь, – объяснил Постник казаку, – белый бедный, но женский. Выбирай. Наливайко сорвал торчащие из-под снега былинки.
– Короткая – женский, длинная – мужской. Тяни.
Постник вытянул короткую. Засмеялись атаманы, разъехались. Одна дружина по бережку, не торопясь, – монастырь – дичь безногая, – другая дружина рысью, к броду, на другую сторону реки.
Коршуном, черной молнией ударил на монастырь Постник Ягодкин. К обеденной трапезе пожаловал, появившись вдруг, без шума, без спроса.
– Вас все рыбкой потчуют, сестрицы? Плотвичками да ершиками? – Постник рукой влез в горшок с ухою и выкинул на стол жалкую рыбешку. – Ребята, несите на стол все, что водится в погребе матушки игуменьи. Ее, госпожу, тоже тащите сюда. Зачем отдельно кушает? Такая же Христова невеста.
Игуменья, на ее беду, оказалась княжеского рода, и лет ей было очень немного – за двадцать.
– Сама осетром потчуешься, а сестрицам – на тебе, Боже, что мне негоже? – спросил игуменью Ягодкин. – И винцо пьешь сладкое. А ну-ка, сестры, отведайте господской радости.
Дружинники сначала сами хлебали вино, потом разносили чаши монахиням, упрямым вливая в рот насильно.
– Хочу отведать от тела игуменьи, небось сладкое от ее сладкой еды. И от тела простой инокини: не горчит ли от черной корочки?
Старые монашенки зарыдали, завопили, игуменья же осенила себя крестным знамением и Постника перекрестила, когда тот подходил к ней, засучивая рукава.
– Ставьте, которая помоложе! – приказал Постник подручным, а когда самую юную, востроглазую инокиню вывели и поставили рядом с игуменьей, подмигнул братве: – Глядите, как баб надо раздевать.
Единым движением оставил игуменью в чем мать родила. Хвать инокиню – и та такая же лебедь белая.
– А у этой-то, – обрадовались тушинцы, – и тело белее, и титьки толще.
– Ставь их всех, ребята! – махнул рукою Постник.
– Да вы хоть из церкви выйдите! – крикнула старая, никому не нужная черница. – На вас Бог смотрит, Богородица!
Где уж там советы слушать! Пьяная орава задирала монахиням рясы, насиловала скотским образом, а кто, скинув со стола посуду, на столе. Потом опять все пили, и снова насиловали, и опять пили, и горланили дикие песни. Тыча саблями в тела юных послушниц, заставляли плясать голышом, сами раздевались догола.
– Отвезем-ка подарочек Наливайке! – вдруг сообразил Ягодкин и погнал самых юных монахинь, прихватив игуменью, на переправу.
Казаки подарочку обрадовались, потащили послушниц с инокинями по кельям. А Ягодкин как сбесился.
– Сейчас я покажу, какая она, Русь, праведница! Сейчас покажу.
Монахов напоили до безобразия, разорили земляную яму, достали из затвора схимника, тоже напоили. Силой, все силой. Собрали опять монашек и устроили в храме срамное служение. Монахи, поставленные на оба клироса, горланили похабные песни, монашенки плясали перед алтарем. К ним в хоровод толкнули нагого затворника. А юницу, которую растелешили вместе с игуменьей, вырядили в священнические ризы и приказали стоять в Царских вратах и кадить.
– Слушай, тебе не страшно? – изумился Наливайко. – Я униат, но мне не по себе.
Постник только зубы скалил да рычал, как собака.
– Знаю я их святость! Моя сестра девочкой целый год в монастыре жила. Рукоделью ее учили. И самая святая иголкой ей под ногти колола за каждую промашку.
Всю ночь шел мерзостный праздник под взглядами икон. Спали в церкви, повалясь где попало и кто на ком.
Днем казаки и ратники встряхнулись по-псиному и ушли.
Монахи и монашенки, оставленные в позоре своем и в разорении, смиренно принимались за дела и молитвы, иные же покинули обители, чтоб не видеть свидетелей своего унижения.
Но игуменья осталась. Через девять месяцев почти все ее монашенки родили, а сама она родила двойню. Детей игуменья приказала сохранить, но то особая история.
Усердие Матвея Плещеева в боях под стенами святой обители Троицы и Сергия было замечено самим Сапегой.
– Москва жива северной дорогой. Поди, воевода, возьми Переславль-Залесский, а коли будет удача, то и Ростов.
Получить большую службу – всему роду прибыль. Не беда, что служба эта – перехватить ножом горло матери-России. Было одно царство, станет другое, а русские люди – куда они денутся?! Бабы – как поле, народят людишек. Народ – он и есть на-род, каков на-род, таков и народ. Ведя к Переславлю свой пестрый воинственный табор, Матвей думал, как лучше подступиться. То ли с Плещеева озера – здесь ни стен, ни башен, вода мелкая, дно твердое, то ли сокрушить дерзостью, напасть врасплох на Горецкий монастырь.
Но напрасно Матвей напрягал свой полководческий гений. Не войско – разведку встретил Переславль-Залесский праздничными звонами и хлебом-солью. Встречать войско люди вышли в лучших платьях, с крестами, с иконами, со священством и монахами. Повели в город как гостей. На площади столы с калачами, рядом бочки с вином. Первыми угощались сами горожане, чтоб гости не подумали чего худого.
Матвей с атаманами был зван в палаты лучших людей, там ему и поведали о затаенной мечте переславцев – пойти на Ростов и ограбить. Уж больно он богат, уж больно купцы ростовские заносчивы, не дают житья переславской торговле.
Плещеев только ушами двигал, до того ему было удивительно. Удача сама валила в руки, и столь щедро, что и рук не хватало все объять.
Рыбарь выбрал сеть и загляделся на Неро и небо. Рождавшийся день являл такую красоту, будто желал, чтобы новый год, начавшийся полтора месяца тому назад, помнили по сей октябрьской драгоценности, дню памяти святых отцов седьмого Вселенского собора.
Попалась всего одна рыбина, толстый, золотой, с жарким оперением карась. Но рыбаря не смутил небогатый улов. Не ради рыбы был он здесь, а ради утра посреди воды, земли и неба. Чудо чудное, отсюда, с Неро, – монастырей было два: один – куполами в небо, другой – в озеро. Две увенчанные крестами бездны, обе сияющие, синие. И попробуй отличи явь от морока. Вода ни единой морщинкой не попортила ни храмов, ни куполов с крестами.
Рыбарь был в черной рясе, имел на груди медный крест, а на плечах легкую соболью шубу.
Сеть трепыхнулась, то изнывал от плена красавец карась.
Рыбарь фыркнул в бороду. Этого карася пристроили в сеть еще до того, как лодка отчалила от берега.
Сердобольный келейник Илья не мог допустить, чтобы митрополит да ничего не поймал. А чтобы их преосвященство не догадалось о подвохе, сеть складывали в березовый кошель, закидывать-то придется в полутьме, до солнца.
Карась, возмущенный прикосновением рук к своему золоту, бил хвостом, вставал на голову, даже пищал, но его все-таки ухватили, освободили от пут, и вот уж просиял он из вод Неро радостным сиянием.
Монах ополоснул руки, сел на скамью, снова засмотрелся на купола церквей.
– Господи, помилуй меня, бедного Федора! – Этот навернувшийся на язык Федор смутил его. – Фи-ла-ре-та!
Он почти пропел монашеское свое имя, но сердце осталось глухо к музыке имени, на которое обрекли силой.
Федор – Божий дар, Филарет – всего лишь любитель добродетели.
Умник Годунов, движимый корыстью рода, убирал с пути сына всех, у кого по жилам лилась царская кровь. Единый золотник этой крови в юноше, в старце ли был страшен Борису. Хитрил по-змеиному, жестокосердствовал, и что же? Бог задул свечу Годуновых и ненароком другую, рядом стоящую, свечу Московского царства. Темно на Русской земле. А где тьма, там гады кишат, ядовитые, безобразные…
Думая о погасшей свече царства, чувствовал себя ловцом подметных карасей, напрягал слух, чтоб услышать плач души, но душа молчала. Он даже сунул персты в уши, может, воском залиты?
Не узнавал себя Федор Никитич. Царство, как расслабленный человек, тысячу раз проткнутое ножом, истекает и кровью и гноем, а ему, с его-то золотниками истинной царской крови, не больно.
– Не больно, – сказал вслух, – ибо умерщвлен для суеты мирской, для всего бренного. – Он сделал над собой усилие, чтобы ощутить в себе, через кровь свою, царственность. Материнская кровь царя Федора Иоанновича была кровью Романовых.
– Михаил, сынок! – прошептал Филарет и оглянулся за спину.
Упаси господи, чтобы сия мысль попала кому-то на уста: убьют.
Филарет перекрестился и услышал, как громово вздыхает в нем сердце. Нет, не умерло оно для жизни. Тишина его притворная. Гладь Неро тоже за единый миг может всколыхнуться, заплескать, заходить волнами.
Он смотрел на купола Успенского собора и заставлял себя думать о ростовской старине, торопливо погружая запретные мысли о сыне Михаиле на самое дно души.
«Как карась ушел в тину, так и вы, надежды, умолкните!» – приказал себе Филарет и заслонил тайну именем святого Леонтия, основателя Ростовской епископии, а потом именем Василька, храброго князя, что встал на Батыя на брегах реки Сить.
Прознобило вдруг. Подумалось: Леонтия убили свои язычники, Василька, раненого и плененного, замучили татары. Оба были как скала. Один не отступил от Христа, другой от Родины.
Засмотрелся на оба города, на встающий из Неро и опрокинутый в Неро. То был знак свыше, предупреждение и пророчество. Да только о чем?
Серебряно, так сойка вскрикивает, ударил малый колокол на звоннице «Григорьевского затвора». Это звали его. Колокол помолчал мгновение и вскинулся новым окликом, еще раз, еще. Дело спешное.
Филарет взялся за весла, налег. Ему было жалко морщить и дробить безупречное зеркало Неро, но вскрики серебряного колокола уже тонули в медном торопливом треньканье сполошных колоколов.
От берега отвалила лодка со многими гребцами – спешили за митрополитом. И было отчего поспешать. Прискакали из Берендеева с ужасной вестью: переславльцы сложились силами с тушинцами и уже выступили к Ростову. А у Ростова вся крепость – Успенский собор. Вокруг города дряхлый тын, да и тот с прорехами, через них коров гоняют в поле.
Возле княжьих теремов воевода Третьяк Сеитов, крещеный татарин, собирал ратников. Сбегались на посадскую площадь жители слобод – из Выводной, Всполья, Ржищи, Песоцкой, из Ладанной, Ямской, Рыбной, Сокольничей. Из Варницкой, самой большой, где соль варили, люди пришли с оружием.
Пока Филарета доставили на берег, пока он переоблачался, народ, объятый страхом, уже двинулся по домам своим, чтоб с детьми, стариками да с котомками бежать в леса.
Филарет нагнал людей на коне. Остановил крестом и словом:
– Разве не из «Григорьевского затвора» вышли святые Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Епифаний Премудрый? Вспомним, братия, князя Константина Всеволодовича, что победил своих противников на реке Лапице и стал великим князем, а Ростов столицей Русской земли. Вспомним князя Василька. Все святые ростовские ныне над нами на небесах и молят о нас. То епископы Леонтий, Исайя, Игнатий, Иаков, Феодор, архимандрит Авраамий, то царевич Ордынский – благоверный Петр, то блаженный Исидор Твердислов, Христа ради юродивый, блаженный Иоанн Власатый Милостивый.
И у вас, женщины, есть своя заступница, супруга святого князя Василька Мария, дочь святого князя Михаила Черниговского… Не побежим от врага, но встретим его и останемся хозяевами домов своих, земли своей, чистого нашего Неро.
Филарет молился с монахами в соборном храме Успения.
Он не любил служить литургию, терялся, терял голос, путал возгласы. В нем еще не совсем отжил боярин, воевода, претендент на шапку Мономаха. Первые годы своего насильственного монашества он бунтовал, не ходил на службы, а после доносов ему на время запретили быть в церкви, на людях. И только возведенный в сан митрополита, он наконец смирился с участью монаха, но учиться как ученик, будучи всей своей епархии учителем, не мог, не мог переступить через гордость, служить по догадке да смотря на других – выходило с промахами, с нелепостями. Но теперь настал такой день, что нельзя было перепоручить службу. И, служа, открывал в себе пастыря, и сердце его переполнялось любовью от красоты слова и действа, от созерцания милых русских лиц, от тревоги и муки женщин, чьи мужья и сыны ушли с Третьяком Сеитовым, от света детских глаз, от беспомощности сгорбленных старостью дедушек и бабушек.
Филарет приступил к причастию, когда в храм принесли раненых. Казачья орда потеснила ростовских ратников, и сражение шло в самом Ростове.
– Владыко, спаси! – с истошными криками женщины с детьми наполняли собор.
– Резня на улицах!
– Владыко! Переславцы отнимают младенцев, берут за ноги да об угол!
Рука у Филарета дрожала, когда он подавал очередному ложечку крови Господней, но не оставил своего кроткого священнодействия.
Стало темнее в храме. Затворили двери, наложили засовы.
– Помолимся о спасении нашем! – Филарет обратился лицом к открытым Царским вратам, стал на колени перед алтарем.
И говорили все как один, и пели одну только молитву, чтоб услышал Господь:
– «Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша имене Твоего ради».
И плакали горько, ибо пришло время плача.
Молитва оборвалась на полуслове. Здесь, за толстыми стенами, все разом услышали: в городе тишина. И ужаснулись все этой тишине.
Филарет сошел к людям. И принялся ходить между стоящими на коленях, возлагая руки на головы. И был он всем отцом, крепостью, любовью.
Но краток был тот тихий омут времени.
Двери содрогнулись от удара. Удар следовал за ударом, и наконец двери рухнули в храм. И по этим дверям ввалилась толпа казаков. Филарет поднял крест.
– Остановитесь! Здесь беспомощные старцы и дети. Здесь раненые!
– Здесь бабы! – заорал казак радостно.
Казак был огромен, в руках черная от крови сабля, грудь и живот в крови, в чужой, в запекшейся, а штаны на казаке – золотые, из парчи, из архиерейского саккоса.
– Владыко! Владыко! – Женщины потянули Филарета в толпу, загораживая и отдаляя от казаков. – Спасайся!
– На баб пялится, а это не видит! – выступил перед казаком ротмистр пан Сушинский, указывая на серебряную раку святого Леонтия. – Здесь пудов сорок чистого серебра.
– Ломай, ребята! – обрадовался казак. – На всех хватит!
Кинувшись на серебро, разбойники забыли о Филарете. Женщины оттеснили владыку в притвор. Здесь догадливые сняли с него облачение. Какая-то женщина отдала ему свое платье, и он через алтарь вышел на площадь и заскочил в домишко к просвирне. Красавица баба, увидев владыку в юбке, ужаснулась и рассмеялась.
– Эко тебя разбирает! – крикнул на нее Филарет. – Ступай лошадь найди, вывези меня за город.
Просвирня и сама была не рада дурьей своей смешливости, ибо какой смех, уже дыбом стояла гарь, огонь гудел, как в трубу, то горели сразу две слободы, Ладанная и Ржищи.
Пока просвирня бегала к соседу, Филарет прятался за печью, все трогал бороду, покушаясь мыслью – сбрить.
Лошаденка была хуже некуда, ни разу за жизнь не чищенная, телега, господи помилуй, тряхнет на ухабе – рассыплется.
Закутался Филарет в шаль, завалился в сено, поехали. Может, и ушли бы, но очень уж злы были казаки. Три часа бились ростовчане, обороняя каждый дом, каждую лавку. Гибли сами, но и врагов своих побивали до смерти.
Взяли лошадь под уздцы у Авраамиева Богоявленского монастыря. Переворошили сено – чего увозят, а под сеном – ничего. Содрали с болящей шаль, а под шалью борода с усами.
Все казачье войско сбежалось погоготать над пойманным митрополитом. Для пущего безобразия на голову владыке водрузили митру, а с просвирни содрали платье и водили лошадь кругом площади.
Матвей Плещеев прекратил бесовство, просвирню приодели, а Филарета оставили в юбке. Так и повезли в Тушино. Сопровождали владыку казаки-украинцы, все на потеху в модных штанах из священнических риз, из саккосов, омофоров, фелоней, стихарей.
– Вот оно, пришествие Сатаны! – ужасались люди в придорожных селах, глядя на невероятную картину эту: владыка в женском платье, а с ним баба.
Вор хохотал до слез, когда ему доложили, в каком виде везут к нему ростовского митрополита. Пан Меховецкий, бывший при государе, осмелился подать таз с водой.
– К чему это?! – изумился Вор.
– Освежитесь, ваше величество.
Вор хмыкнул, но умылся.
– Не вразумляй, знаю, что умный! – бросил он недовольно своему советнику. – Я не ради богохульства смеюсь. Смешно мне! Дозволь государю посмеяться хоть раз в неделю.
Приказал мчаться навстречу Филарету, остановить в первом же селении, дать ему достойную его сана одежду, пересадить в карету. Казаков, поймавших митрополита, велено было наградить тайно и, не допустив их в Тушино, отправить в Ростов с грамотой Матвею Плещееву, что он-де, Матвей, назначен по милости Дмитрия Иоанновича за верную службу ростовским воеводой.
Дворец все еще строился, и Вор встречал митрополита Филарета перед своим шатром. К этой встрече государь готовился под руководством пана Меховецкого.
– Завоевать расположение Филарета значит стянуть одеяло с Шуйского по самые пятки – так сказал Меховецкий, чтобы ученик его понял даже печенкой, сколь трепетной должна быть любовь его величества к его преосвященству. Поднимая уровень встречи, дабы показать, что она и Небу угодна, отложили сию радость на два дня, до 18 октября, когда православная Церковь поминает апостола и евангелиста Луку и среди целого сонма мучеников и святых преподобного Иосифа Волоцкого.
Филарета, вышедшего из кареты, поддерживали под руки архимандрит из Калуги да игумен из Суздаля – этих взяли в плен ранее митрополита.
Вор стоял впереди свиты, он порывисто приблизился к Филарету, смиренно склонился, испрашивая благословения, и Филарет благословил его.
– Дозволь поднести тебе, святейший, святую икону, – испросил позволения Вор и поворотился к царице.
Марина Юрьевна выплыла из сановной толпы, держа в руках икону в серебряной, очень красивой ризе. Царица Небесная и Богомладенец на этой иконе были в позлащенных венцах в виде митр. Их серебряные одежды в красивых складках, в руках Иисус держал царское яблоко. От венцов исходил позлащенный жар нимбов, по широкому краю иконы – серебряная вязь из листьев и гроздей винограда.
– Это точный список с Цезарской Боровской иконы, что обретена была в Усвятах еще до прихода на Русь Батыя, – сказал Вор.
Филарет принял икону из рук Марины Юрьевны и не удержался, посмотрел в лицо государыни – какова?
Марина Юрьевна была в тот день очень хороша, ибо играла роль милостивой и кроткой. Она даже глаза опускала, изумляя стрелами ресниц.
Поцеловав икону, Филарет передал ее архимандриту. Переждав эту короткую процедуру, Вор снова стал говорить, напрягая голос, чтоб слышно было боярам и дворцовым его чинам:
– Святейший! Дева Мария, принимая иконы, написанные апостолом от семидесяти, евангелистом Лукой, изрекла: «Благодать Рождшегося от Меня и Моя милость с сими иконами да будет». Да будет благодать в твое пастырство над стадами, в которых ныне волков больше, чем овец. Да пребудет на святых делах твоих благословение преподобного Иосифа Волоцкого, о котором известно, что он был искусен во всяком деле человеческом: и лес валил, и бревна носил, мог испечь хлеб, построить дом и построил жизнь иноков, которым дал твердый и мудрый Устав. Это он, светлоликий Иосиф, озарил русское православие мыслью, что Церковь наша есть наследница византийского вселенского благочестия. Преподобный так и говорил: «Русская земля ныне благочестием всех одолеет». Слова эти тебе, святейший, и мне, государю, да будут в правило.
Филарет слушал, чуть подняв и наклонив голову, словно разглядывал облако в небе.
– Государь, отчего ты называешь меня святейшим, когда я есть всего лишь «ваше преосвященство»? – спросил тихо, чтоб не посрамить государя перед царедворцами. – Оттого я реку, что ты есть святейший, – во весь голос грянул Вор, – что имя твое, кровного родственника царя Федора Иоанновича, любезного брата нашего величества, светит нам, государю и государыне, и во все концы нашего царства. Ты есть великий господин, преосвященный Филарет, митрополит ростовский и ярославский, нареченный патриарх града Москвы и всея Руси.
Угощал Вор нареченного патриарха лососями и стерляжьей ухой и поднес ему и заодно Адаму Вишневецкому по большому куску серебра.
Филарет взял серебро, и оно до костей прожгло руки ему: то были осколки раки святого Леонтия.
Вор усадил вновь испеченного патриарха между собой и Мариной. Царица уступила гостю, но уже своему человеку в Тушине, золоченый стул и сама сидела на костяном, комнатном.
Бояре из русских и дворцовые чины из поляков получили места друг против друга, причем русские во главе с князем Дмитрием Тимофеевичем Трубецким по правую руку от государя. За Трубецким сидел боярин, хотя и казак, Иван Мартынович Заруцкий, далее князь Черкасский, родственник Трубецкого Юрий, Шереметевы, Засекины, Сицкий, Бутурлин и прочие, прибежавшие с опозданием.
Филарет поглядывал на правый стол, ища и узнавая родственников своих. Их оказалось здесь немало, и тихая безнадежность, как червь, буравила ему виски ноющей болью. Марина Юрьевна сразу после обеда закатила супругу огромный скандал. Она весь его продумала в скучище российского застолья, где жрут да пьют да хвалят сильных мира сего. Один Филарет не дурак, не мешок с губами для жратвы. Когда бояре, подвыпив, умолили его сказать слово, он сказал просто, сказал, поворотясь спиной к русским боярам, ибо говорил государю:
– Я пришел сюда к силе, чтобы добрая сила образумилась и дала всему Московскому царству покой и жизнь, ибо ныне властвуют смерчи и смерть. Проклятый Наливайко, гуляя по Владимирской земле, опоганил святые монастыри. Он один пролил столько невинной крови, что полноводная река Клязьма переменила цвет. Она ныне красная. Знай, государь, не перед пушками склонится Москва, не от грохота оробеет, но склонится она перед тишиной и разумом.
Не могла не признать Марина Юрьевна, что супруг ее тоже не дурак. Выслушав Филарета, вскипел, вскочил, вскричал:
– Найти Наливайку! Схватить, предать смерти! Каждый волос, упавший с невинной головы, это есть мой волос. Мне больно. И пусть слышат, у кого есть уши, – я не дам в обиду мой русский народ!
Боже, как ликовали москали и как хмурились поляки! Словно все эти слова – на ветер.
После обеда государь, помятуя о судьбе первого Самозванца, о его непростительных ошибках, спал.
Марина Юрьевна приказала Казановской, чтоб слуги поставили возле постели несколько огромных свечей, взятых из храмов, и разметалась в притворном сне, оголя сокровенные места. Хорошо выпивший супруг и впрямь загляделся на свою польку, воспламенился, но в постели его ждали каменная неподвижность и ледовитая немота.
– Да ты что?! – рассердился Вор.
Марина Юрьевна приподнялась, взяла свою нижнюю рубашку и показала на свет.
– Ваше величество, посмотрите, в сколь ветхой одежонке спит около вас ваша царственная супруга. Я на всех приемах только в одном платье. У меня нет другого. Все мои драгоценности – браслет с изумрудами, подарок мудрого иудея. Где ваши глаза, ваше величество? Где ваша любовь? Где, наконец, забота о престиже?
Вор закинул руки за голову, глядел в потолок.
– Мы с тобой, милая, – шатровые цари. Нет у меня ничего! Ничего нет, кроме царского титула.
– Не вы ли раздавали сегодня серебро?
– Не жадничай, царица! Чтобы получить все, сегодня нужно отдавать последнее.
– Я не желаю выглядеть нищенкой!
Он посмотрел на ее сияющее белизной тело.
– Ты сама – алмаз! Ты сама – высшая драгоценность.
Лаская, снова воспламенился, но опять обнаружил под собой неподвижную колоду.
– Ах ты, драная кошка! Тебе за ласки платить надобно? Брысь! – И он пхнул ногой в белые телеса, сначала легонько, от обиды, а потом сильно, в злобном исступленном гневе – так и выбросил из постели. – Мною пренебрегать?! Эй, кто там?! Кто услужит вашему государю?
Голый выбежал за полог, притащил дежурную фрейлину и тотчас изнасиловал, на глазах жены и прибежавшей на шум Казановской.
Тяжкий день миновал, и наутро Вор был тих, кроток, но вины за собой не признал.
– Сама неумна, – сказал он отвернувшейся Марине Юрьевне. – У меня и вправду всей казны – две тысячи золотом. Но я и это отдам! Твоему отцу. Я послал за ним. Если же ты жаждешь драгоценностей, прими, – положил перед супругой свой перстень в виде рубиновой звезды на алмазном поле.
Суд над Наливайкой творил во Владимире воевода Мирон Вельяминов-Зернов. За атамана вступился Сапега, но получил от государя гневный выговор. Шатровый повелитель писал: «Наливайко… побил до смерти своими руками дворян и детей боярских и всяких людей, мужиков и женок 93 человека… Мы того вора Наливайку за его воровство велели казнить. А ты б таких воров впредь сыскивал, а сыскав, велел также казнить, чтоб такие воры нашей отчизны не опустошали и христианской истинной православной крови не проливали».
Сапега смолчал. Тушинский царь, с прибытием в стан митрополита Филарета, на глазах превращался в истинного царя. Один за другим Вору присягнули двадцать два больших города: Астрахань, Ярославль, Вологда, Владимир, Кострома, Галич, Углич, Псков, Тверь, Суздаль, Калуга, Александров, Шуя – родовое гнездо Шуйских, Переславль-Залесский, Белозерск… В Белозерске был освобожден и возник из небытия князь Шаховской, сподвижник Лжедмитрия I. За Шуйского пока еще стояли Нижний Новгород, Смоленск, Саратов, Казань, Коломна, Переславль-Рязанский. И, стало быть, Русская земля все еще оставалась русской.
Нужен был человек. То ли пастырь с крестом, то ли пастух с кнутом, то ли блаженный, готовый стену кирпичную пальцами ломать, пока пальцы отпадут или же кирпичи вывалятся. Боярин ли, крестьянин, монах, а может, женщина? Нужен был человек. Спаситель уже стоял в тени дерев, ждал, когда хоть один русский очнется от наваждения.
Сон русской Смуты не знает в безобразии предела, как нет предела чистоты и покоя в помыслах и в жизни пробужденных.
– Слышь, Лавр! – прибежал к другу дьякону псаломщик Аника. Придумал заявиться после обеда, когда добрые люди, покушав сколь мочи есть, почивают.
– Рррры-ы-ы! – трубил спящий Лавр не хуже архангела Гавриила. – Трру-у-у-у!
– Проснись, Лавр! – дергал за плечо великана комарик Аника.
Лавр открыл глаза.
– Кто ты есть?
– Аника! – изумился Аника.
– Кто ты есть, чтобы нарушить мой сон? Золотой, послеобеденный, ибо сон ночью всего лишь из серебра.
– Да ну тебя, Лавр! – осерчал Аника. – Слышь, чего говорят – в Тушине Филарет!
– Филарет? – переспросил Лавр и спустил ноги с лавки. – Филарет… Ростовский, что ли?
– Ростовский, Лавр! Сам Федор Никитич.
– И что же ты от меня желаешь? – Дьякон, зевая, прикрыл левый глаз и выкатил на Анику правый, золотистый, как луковица.
– Да я ничего… – Псаломщик поскреб пол ногой. – А может, того?
– Чего?
– Махнем! К Филарету!
– В измену?
– Коли Федор Никитич у Дмитрия Иоанновича, то где она тогда, измена? Может, здесь она, за крепкими стенами?
– Не болтай, – сказал Лавр и снова лег, потянулся. – Сон мне был. Положил я быку десницу на левый рог и стою. Бык боками расперся, ноги раскорячил. Шириной с Василия Блаженного, но послушен. – Смерил Анику презрительным взглядом. – А тут ты пищишь…
– Быков видеть хорошо. Бык – сила.
Лавр снова сел, окинул взглядом комнату.
– А чего мы тут, никому не нужные, всеми забытые?.. А пойдем, Аника, туда, где людям радуются. Нехорошо – вернемся. Дело это нынче простое.
Вышли друзья из города, пристав к небольшому отряду боярского сына Гришки Валуева. Тот шел набирать казаков для укрепления московского осадного войска. Дни стояли покойные, войны никакой. Словно и поляки позабыли, зачем они здесь, и московским воеводам до польского войска вроде бы тоже никакого дела не было.
В Тайнинском Лавр и Аника спрятались в сенном сарае. Валуев ушел своей дорогой, а они – двинулись в Тушино.
Их догнал обоз в полсотни телег. Возы были гружены тяжело, возницы пьяны.
– Эй, батюшки! – обрадовался передний Лавру и Анике. – Вы в Тушино, к Дмитрию Иоанновичу?
– К нему, к истинному государю.
– Из попов?
– Из духовенства.
– Беру к себе. Оччченнь вы мне впору!
– Как так впору?






