Смута Теплов Юрий
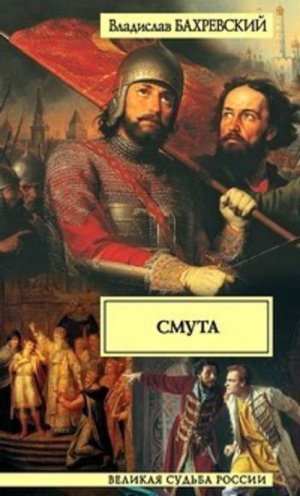
Пьяный засмеялся, соскочил с подводы.
– Вы знаете, кто я?
– Нет, господин, не ведаем, – ответил Лавр.
– Я подскарбий нашего хорунжего.
– А что это – подскарбий?
– Это? – Пьяный призадумался, покрутил пятерней в воздухе. – Чин! Видите подводы? Все это добро нашей хоругви. Если вы с нами, то и вы в доле.
– Мы с вами! – быстро сообразил Аника.
Пройдя ворота земляного вала, обоз двинулся по дороге между шатрами к избам.
– Наши тоже за избами поехали. Это дело второго подскарбия.
– За избами? – изумился Аника.
– За избами. Приходим в село, какая изба приглянется – наша. Разваливаем, грузим, везем… У нас зимой тепло будет. А землянки – под погреба. Погреба у нас набиты по самые двери, аж земля вспухает. Вина – да хоть ныряй в него. Хлеба – на три года. Сала, грибов, птицы – все бочками. Сорок бочек одних гусей. Вот только баба у нас одна. Не на хоругвь, на избу. Одна, но нас семерых ей мало! Хоть язык отрежьте – не вру.
Подскарбия звали Корнюхой, был он донской казак. В хорунжих ходил Сенька Милохов. Этот был из Калуги, из детей боярских, а теперь тоже в казаках. Хоругвь была частью отряда поляка Андрея Млоцкого, рыцаря воли и ничего, кроме воли, не желавшего ни себе, ни всей тупорожей России.
– Он нас тупорожими зовет! – веселился Корнюха. – А нам что? Она хоть тупая, рожа-то, да наша. У него у самого морда как у борзой. Мы его так и кличем промеж себя: Борзопес.
Из присмирелой Москвы попали Лавр с Аникой на великое гульбище.
– Вон наш терем, – показал Корнюха на высокий сосновый, крепко стоящий дом. – За сто пятьдесят верст привезли. Во Владимир ходили, а там над рекой село, в селе этом хоромы, а в хоромах хозяйка. Чтоб не плакала по дому, не убивалась, мы ее с собой взяли.
Перед самым домом из землянки вылез казак, растелешенный, довольный. Увидал духовных людей, обрадовался.
– Эй, ребята! А ну, благослови! – И вывалил перед дьяконом с псаломщиком свое мужское представительство.
– Сатана! – сорвался в петушиный крик Лавр.
– Да нет, ребята! Я – крещеный. Бабоньку сегодня на кафтан выменял. Ох и лапушка! Целый день с нею, оторваться не могу, а сила вся вышла. Глаза голодны, но эта штука, хоть отруби, не слушается.
Лавр и Аника стояли как оплеванные.
– Ребята, да вы обиделись?! Хотите лапушку? Мне ведь не жалко, коли сам рассопливился. Стойте! – Он ринулся в землянку и тотчас явился с ковшом водки. – Пей, ребята!
Подошел подскарбий Корнюха, заводивший во двор свои возы.
– Ты, сосед, моих новых людей не обижай.
– А я – обижаю? Я их пою, гулять со мной зову.
– Выпейте, – сказал Корнюха. – Нам, Зотик, однако, обедать пора. У нас строго. Ты же знаешь.
– Знаю, Корнюха. – Почтительность была в голосе казака.
Водку выпили, ноги перед крыльцом вытерли. Крыльцо, как лицо, – белое, выскребенное. В сенях обувку долой. Вошли в горницу. Светло, как у солнца во чреве. Вдоль стены четыре окна.
Стол со скатертью. На столе ложки лежат все серебряные. За столом под божницей – Павла. Кокошник на ней сплошь жемчугом шит, платье голубое с изморозью, в камушках, серьги синие, но огонь держат горячий. Глаза у Павлы тоже как тот синий огонь. Вошли в избу семеро живущих здесь с двумя гостями, поклонились Павле. Она поклон отдала, гостям улыбнулась. Пошла к печи, принялась выставлять кушанья и питье.
Снарядив стол, села на свое заглавное место, тогда и взялись все за ложки.
– Друг Павла, – спросил почтительно Корнюха, – не изволишь взять к нам двух новоприбывших, Лавра и Анику, людей духовных?
– Пущай живут, – молвила Павла. Все перевели дух, ибо слово этой женщины в ее доме было первым.
Аника отведывал кушанья с усердием, ибо такой еды отродясь не только не ел, но и на вкус не знал. После еды встали, помолились и опять… сели. Одна Павла пошла за занавески, где стояла постель. Туда же отправился Корнюха. Скоро там начались вздохи и движение. Аника завертел удивленно головой, а Лавр, подняв правую бровь, все прислушивался. Корнюха вышел довольно скоро, и за занавески пошел другой казак.
– Эх ты! – изумился Аника.
Ему тотчас объяснили:
– Павла наша жена, и нам она люба.
– Пошли-ка отсюда! – выскочил из-за стола Лавр, сграбастав Анику. Тот извернулся, выскочил из дружеских лап.
– Чегой-то я пойду? Нас тоже приняли. Ведь приняли? – спросил казаков Аника, красный, взъерепененный.
– Приняли, – сказали казаки, посмеиваясь.
Лавр сплюнул, но ему тотчас кинули тряпку.
– Вытри… Коли не хочешь, не можешь – иди на печь, поспи.
Когда настал черед Аники, дрожал он, будто лист осиновый. В спаленку юркнул, а на постели – без ничего! – уж такая пышность, такая белизна, что весь он стал одной жилой.
Павла за старание по голове его погладила.
– Ишь ты! Ростом мал, а больше и крепче, чем у тебя, у семерых нет.
Лавр на печи отсиделся от блудодейства.
После обеденного сна – спали кто на лавке, кто на полу – все отправились по делам. Поить, кормить лошадей, чистить большую стенобитную пушку. Пушка стояла во дворе. Хоругвь Сеньки Милохова была к этой громадине приставлена для охраны и, коль будет дело, для пальбы.
Вечером возле дома Аника увидел могутного, невероятной, знать, силы человека, стоящего на коленях.
– Опять приволокся! – изумился Корнюха.
– А кто сей дядя? – спросил Аника.
– Муж Павлы.
У Аники душа в пятки спряталась, но казак смело подошел к великану.
– Пожаловал?
Кузнец Пуд пугливо, с расторопной благодарностью закивал.
– Неужто выкуп принес?
– Принес, – склонил Пуд голову.
– Сполна?
– Сполна. Все сто рублей.
– Да где ж ты их взял?
– Купца ограбил.
– Может, и зарезал, купца-то?
– Прибил, – сказал Пуд. – Я раньше руку не мог на человека поднять. А теперь я… убивец.
Корнюха почесал в затылке.
– Ты вот что… Ты завтра утром приходи. Мы нынче решим промеж себя, как быть… Ты глаза-то пока не мозоль…
Пуд покорно поднялся с колен, побрел по лагерю прочь, в те таборы, где стояла новая, присланная из Ярославля тысяча. Ярославцы, поцеловав крест Дмитрию Иоанновичу, прислали ему все обещанное: тысячу ратников и тридцать тысяч рублей серебром.
В доме Павлы с ужином запозднились. Павла затеяла пироги с грибами. Народ пришел проголодавшийся, но никто хозяйку не попрекнул, не поторопил… Принесли из подвала бочонок меда, ведро водки и, чтобы не ждать попусту, велели Лавру да Анике спеть службу.
– Вот уж воистину – дом полная чаша! – воскликнул Корнюха. – Теперь у нас и церковь своя.
Лавр начал петь запинаясь, но Аника старался так, что чуть было из кожи не вылез. Пироги поспели наконец, Павла зажгла лучины, и все сели за стол.
Сначала выпили, потом слюнку сглотнули над огромными пирогами, источающими дух русского леса и русской печи. Когда все разомлели в хмельном пиршестве, Корнюха хмыкнул в кулак, и все примолкли, ожидая серьезного известия.
– Вот что, братцы, – сказал Корнюха, – за Павлой муж пришел.
– А выкуп?!
– С выкупом.
Все обернулись к Павле, но она ни бровью не повела, ни веком не сморгнула. Подскарбий схитрил:
– Ляжем спать, братцы! Утро вечера мудренее.
Павла пошла в спаленку на высокую свою постель, приняла всех, кроме упрямца Лавра. Хитрый Аника был снова последним, так он и заснул под белым теплым боком. Павла его не выставила и утром его одного и порадовала.
Остальные спали.
Как всегда, принялась она хлопотать у печи, за водой пошла, а Пуд уж стоит под окнами. Увидел жену, голову опустил, прошептал:
– Я новый дом срубил. Пошли отсюда.
Ничего не ответила Павла, вздохнуть вздохнула и принялась воду из колодца набирать.
Вернулась домой, а там уж гам, спор, никакого порядка. Казак по прозвищу Зипун-до-Пупа так сказал:
– Отпустим бабу. Нас нынче восемь, а завтра, может, десять будет. Уморим хорошего человека. Она хоть баба, да не лошадь.
– Коли бы она не хотела нас всех, ничего бы и не было, – возразил ему казак Переплюй, – но я не прочь отпустить. Другой такой не сыщем, зато добудем каждому по своей. Наскучат – поменяем.
Остальные, однако, на дыбы, орут, не хотят отпустить Павлу.
– Слово-то мы давали кузнецу казацкое, – закончил споры Корнюха. – Кузнец, чтоб жену вернуть, из человека душу выбил… Нет, казаки, нехорошо слова не держать.
Павла стояла с коромыслом на плече, у порога. Тут она, послушав Корнюху, ведра на пол поставила. Прошла в спаленку, узелок из-под кровати вытащила, казакам поклонилась и за порог.
– Эй, Пуд! – крикнула с крыльца. – Поди отдай за меня выкуп.
Пуд бегом на крыльцо, в избу, три кисета с монетами на стол и к своей Павле.
Сидели казаки, кто хмыкая, кто матерясь.
Аника принялся деньги считать. В жизни столько денег не видывал. Считал-считал, да и говорит:
– Тут не ровно сто рублей. Тут на алтын больше. Отвезу-ка я Пуду лишек. Дайте мне только телегу – верхом-то я ездить не умею – и еще саблю.
– Зачем тебе сабля, коли в седле не усидишь? – спросил Зипун-до-Пупа.
– А затем, чтоб все в Тушине знали: Аника – воин, а не какой-то там обозный.
– Так ты же из духовных.
– Нет, дайте мне саблю!
Дали ему саблю, запряг он лошадь и давай погонять.
Через полчаса вернулся, да не один. Казаки все еще из дома не выходили.
Вводит Аника-коротышка в горницу Павлу за белую руку.
– Принимайте хозяйку, – говорит.
Казаки только глаза таращат.
– Как же ты с Пудом управился? – спросил Зипундо-Пупа.
– За алтын выменял.
– Неужто он тебе, этакий, этакому такую-то уступил? – Да вот уступил, – сказал Аника да как заорет на дружка своего, на Лавра: – Вставай, старый хрен! За дело принимайся!
– За какое?
– Обвенчай нас всех с Павлой, чтоб жили мы с ней по правде.
– У тебя дома жена! И у них небось жены.
– То где-то, а наш дом теперь тут! Венчай.
– С ума ты спятил, Аника! – изумился Лавр. – Я, чай, не священник.
Казакам, однако, затея Аникина пришлась по душе.
– Венчай! – кричит Переплюй. – А то, что ты не батюшка, – не беда. Филарет у нас патриарх назывной, а ты будешь – назывной поп.
Лавр – креститься, ужасаться, а Аника на него с саблей. – Я бы сам всех окрутил, да хочу спать с Павлой как муж.
Тут и другие казаки взялись за Лавра. Сдался. Совершил мерзость. Пел молитвы, говорил священные слова, плача перед веселящейся ордой. А Павла ни полслова. Ничему не противилась. И сказал Лавр, напиваясь допьяну на свадебном пиру:
– Ты – женщина, подобна Родине моей. Тебя насилуют, тобой торгуют, а ты всех собою ублажаешь и молчишь как рыба.
И Павла, строгая, в фате, добытой из-под земли Переплюем, так сказала:
– Мужья! Этот, что сидит и плачет на свадьбе, веселию помеха. Заплатите ему за венчание, и пусть идет с Богом. А чтобы ноги несли его отсюда легко и скоро…
Тут она засмеялась, скинула с себя платье и осталась за столом – этакая.
– О Господи! – воскликнул Лавр. – И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными. В руках твоих чаша, наполненная мерзостями и нечистотою блудодейства. Имя же твое – Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным!
Поднялась тут Павла во всю свою красоту и пошла на бедного дьякона, и тот побежал, но по знаку Павлы был остановлен.
– Заплатите ему.
Лавру сунули за пазуху деньги.
– Теперь пусть он, обличитель, поцелует меня в срам мой, а не то Аника голову ему отрубит.
Исполнил Лавр постыдную прихоть. Когда дверь за дьяконом затворилась, увидел Аника в руках своих саблю и ужаснулся: ведь рубанул бы, как Павла велела.
Поставил саблю за лавку, вышел на крыльцо.
Стояли сумерки. Обеляя серое небо, черную землю, густо падал снег. Аника напряг глаза, но так и не увидел Лавра. Снег летел прямо, косо, шел столбами, стеной.
Небо наконец рухнуло, чтоб закрыть белым ни в чем не повинную страдалицу землю, выбелить безобразных людей, чья совесть была как уголь.
Где-то в этом белом просторе потерялся Лавр. Он шел с глаз долой, желая не останавливаться, не оглядываться, покуда не кончится под ногами русская земля.
В Грановитой палате царь Шуйский сидел со своей Думой, которая не поредела, но обновилась почти наполовину.
Слушали патриарха Гермогена.
– Мне отовсюду говорят, чтобы я осудил и проклял митрополита Филарета за его самозванство. Вот и здесь, в Думе, подали мне сегодня грамоту высокопреосвященного Филарета, которая подписана: «Митрополит ростовский и ярославский, нареченный патриарх Московский и всея Руси».
Борода патриарха уже потеряла цвет и почти вся была серебряная, но черные глаза его не утратили ни света, ни блеска. Он поставил свой пастырский посох перед собой, и рука его, ладная, сильная, покоилась на посохе с державной уверенностью.
– Нет! – сказал Гермоген. – Я не стану проклинать Филарета, ибо он – в плену. Не перелетел, как иные, с гнезда на гнездо, а пленен. «Не судите и не будете судимы, – заповедал нам Иисус Христос. – Не осуждайте и не будете осуждены; прощайте и прощены будете». Что же мы забываем божественный урок, как только нам представляется истинная возможность исполнить заповедь?
Гермоген поклонился Шуйскому.
– Прости, государь. Я, недостойный, не раз согрешил перед тобою, желая, чтобы ты взялся за кнут, когда ты уповал на слово, чтобы ты призвал палача, когда ты взывал к совести. Я и теперь хотел бы, чтоб ты, царь, взял метлу и подмел Тушино. Однако ты ведаешь нечто иное, чем мы, государственные слепцы. Ты терпишь, и вся Москва и вся Россия принуждены ждать и терпеть. Но, может, довольно с нас смиренности? Молю тебя! Вызволи из плена владыку Филарета! Вызволи всех заблудших, спаси от соблазна сомневающихся.
Все смотрели на Шуйского. Царь был бледен, но лицом и глазами смел как никогда.
– Можно ли вылечить расслабленного кнутом? Измена – это болезнь. Ее можно загнать вовнутрь страхом, но страх – не лекарство. Как человек бывает болен, но вновь обретает здоровье, так и царство. Сегодня оно немощно, а завтра будет на ногах, радуясь труду и празднуя праздники.
– Государь, надо спасать Троице-Сергиев монастырь! – сказал князь Михаил Воротынский.
– Надо, – согласился Василий Иванович и поглядел на патриарха. – Молитесь, святые отцы, молитесь! Из Москвы нам послать к Троице большого войска нельзя, а послать малое – только потерять его. Подождем прихода князя Скопина-Шуйского. Может, ты, князь Михаил Иванович, укажешь нам иных, неведомых нам, но верных людей, иные края, где ждут не дождутся подать нам помощь, лишь бы мы попросили этой помощи?
– Государь, – смутился Воротынский, – сидя в Москве, ни своих, ни заморских доброжелателей не найдешь, но я боюсь, что твоя царская грамота в северские города, которую нам зачитали сегодня, не соберет всех вместе, но еще более разъединит. Ты, великий царь, не грозой грозишь отступникам, но тихо увещеваешь. В грамоте твоей, государь, написано: «Коли можно вам будет пройти к Москве, то идите не мешкая. А если для большого сбора захотите посаждаться в Ярославле, то об этом к нам отпишите». Скажи ты нам, государь: «Можете идти на Вора войной, а коли боитесь битыми быть, повремените». Так мы хоть и сильны будем, а тотчас усумнимся в себе.
– То вчера можно было грозить, – ответил Василий Иванович, – вчера, когда города стояли заодно. Теперь как узнать, что у людей на уме, какой русский с русскими, а какой русский с поляками? Всякому известно, что вор – это Вор, только совесть нынче на торгу. Прибыльнее совести товара нынче нет. Скажи-ка мне, Нагой, так ли твой государь размышляет или старец Василий Иванович уж совсем не прав?
Нагой вздрогнул.
– В твоей государевой грамоте, пресветлый государь, все сказано уж так правильно, что вернее нельзя. «Коли вместе не соберетесь, сами за себя не заступитесь, то увидите над собой от воров конечное разорение, домам запустение, женам и детям поругание». Какой еще грозы надобно?
– Вот и слава богу, – сказал Василий Иванович, ясными глазами глядя то на Воротынского, то на Сашку Нагого. – Слава богу, что хоть мы-то сами себя не предали. Все плачут о погибели царства, один я, видно, сух глазами. Мы матушку свою не спасем, а Бог спасет. Русь-то святая, спасет ее Господь, спасет, но мы-то все будем каковы, коли не ей службу служили, не Господу, а одной только лжи? Он поднялся с высокого своего места, поглядел опять на Воротынского, на Нагого и, еще более бледный, но строго решительный, покинул Думу.
Его крошечка дочь умерла на заре.
Он ни с кем не пожелал поделиться горем. Чтобы слух не просочился за стены терема, ни единому слуге не позволили даже к порогу приблизиться.
Хоронили царевну глубокой ночью, тайно. Будучи свидетелем надругательства над останками Бориса Годунова, Шуйский не хотел, чтобы драгоценные для него гробы кого-то повеселили после его собственной кончины.
Когда измученные второй уже бессонной ночью, осиротевшие царь и царица легли в постель, Марья Петровна взяла руку господина своего и положила на свой живот.
– Василий Иванович, свет мой, а ведь я опять тяжела.
И они тихо плакали, и слезы их были горячие.
В ту ночь из Москвы к Вору бежали думный человек Александр Нагой и близкий царю князь Михаил Иванович Воротынский.
В Тушине встречали еще одного гостя. Служить истинному государю явился касимовский хан Ураз-Махмет.
Хан был человек румяный, красивый. Он подарил Вору саблю, оправленную золотом и усыпанную бирюзой, и золотой аркан в две сажени, с драгоценными камнями по всей длине.
Вор принял хана во дворце, отдарил ножом из чистого золота.
Но больше подарка польстил касимовскому хану почет. Дмитрий Иоаннович посадил его рядом с собой. За столом московского государя место касимовского царька было хоть и с царевичами, да последнее среди них. На пиру была царица Марина Юрьевна. Но и она сидела по левую руку от государя, а Ураз-Махмет по правую.
За столом хан поднес царице свои подарки. Черного как ночь да белого как день скакунов, три шубы: соболью, кунью, рысью – и татарский женский наряд, платье и шапочку с пятью сапфирами.
Царица отдарила двумя кусками серебра все из той же Леонтьевой раки да великолепной курительницей, тоже серебряной, из сокровищ, отобранных у казненного Наливайки.
– И у меня есть для вас, друг мой и брат мой, – обнял Вор хана за плечи, – еще один подарок, который обязательно тронет ваше царственное сердце.
В залу пира тотчас вошли и поклонились государям два великолепных мужа. Это были ногайские князья Урак-мурза и Зорбек-мурза. Они служили царю Федору Иоанновичу и Борису Годунову, переметнулись к Дмитрию Иоанновичу и покинули его под Крапивной, ушли в Крым… После того как пушка, заряженная прахом Дмитрия Иоанновича, пальнула в польскую сторону, воротились в Москву, служили Шуйскому.
– Как только мы узнали, что твое ханское величество идет припасть к руке истинного московского царя, – сказал старший из братьев, Урак-мурза, – мы тотчас покинули Шуйского, чтобы быть с тобою заодно.
Марина Юрьевна внимательно оглядела новых гостей. У этих мурз были русские, хорошо известные высшему московскому сословию имена Петр и Александр. Их любил царь Федор Иоаннович, их ласкал Борис Годунов. Они лучше всех скакали на охоте, метче других стреляли, на пирах были веселы.
Пока татары радовались встрече, обменивались с государем похвалами, Марина Юрьевна исчезла на мгновение из-за стола и явилась в татарском, только что подаренном ей наряде, пленив сим дружеским жестом и хана, и московских ногайских мурз.
Нежные царствующие супруги до того были ласковы и внимательны к гостям и друг к другу, что их любовь да согласие смягчали не одно суровое сердце.
Они были великие притворщики. Именно в это самое время их ненависть друг к другу полыхала таким зеленым пламенем, что слуги царя и фрейлины царицы убирали с глаз долой все, чем можно было нанести увечье. В этой ненависти они, однако, не позволяли себе спать в разных комнатах. Марине Юрьевне приходилось терпеть, когда ее супруг принимал в их общей постели ее собственных фрейлин. То была одна из многих мерзостей Тушина.
Похмелье после праздника совпало с мокрым хлябким снегопадом, который обернулся дождем, дождь перешел в ледяную крупу, ударил мороз, взвыли ветры, и только через трое суток стихия угомонилась, посыпался мягкий ласковый снег, а утром выглянуло солнце. Во все эти дни Вор не покидал своего дворца и всех просителей гнал прочь. Просили того, что мог дать один Бог, – тепла и удобства. Тепла – в России, зимой, удобств на войне?! Шатровый монарх был возмущен, он пил со своим советником Меховецким, который склонял государя выдвинуть в полководцы князя Дмитрия Трубецкого, чтобы, во-первых, привлечь на свою сторону всех колеблющихся русских, которым стыдно подчиниться полякам, а во-вторых, освободить самого себя от зависимости перед диктатом гетмана Рожинского. Этот хоть и является целовать руку государя, но все дела вершит самовластно, называя Дмитрия Иоанновича за глаза Самозванцем, Лжедмитрием, царьком и даже по-русски Вором.
Вор, помывшись вечером в бане, которую достроили ему в эту жуткую непогодь, почувствовал себя вполне счастливым и вышел вместе с солнцем порадоваться белому снегу, обновлению мира.
Откуда-то явился воробей. Воробей купался в пороше, как в алмазах. Снежный пух взмывал, сверкая в воздухе. Воробей тоже вспархивал и снова нырял в снег, с писком, с чириканьем. И вдруг кинулся к солнцу и пропал из глаз. Вор повернулся к Меховецкому.
– Ужасно хочется смеяться. Только нечему.
– Вашему величеству надобно завести шута. Русские это оценят.
– У меня есть шутиха.
– Шутиха?
– А разве Марина не годится на эту роль? Правда, я никак не могу рассмеяться, наблюдая все ее царские выходки.
– Нет, государь, вам нужен шут. Обязательно русский и обязательно веселый.
– Сейчас, кажется, и без шута будет весело, – сказал Вор, глядя на мчащихся к дворцу всадников. – Не люблю, когда ко мне подступают толпой. Пойдемте в покои. В доме им будет тесно, а кричать совестно.
Рокош затеял пан Млоцкий. Он явился в Тушино всего с двумя хоругвями, с гусарской и казацкой, но теперь верховодил над всей мелкой и нищей шляхтой.
– Государь! – сказал пан Млоцкий, выступая впереди толпы. – Вы задолжали нашему воинству четырнадцать миллионов злотых! Есть ли у вашего величества деньги, чтобы немедленно погасить долг?
Вор развел руками.
– В казне нет и пяти тысяч.
– Но собираетесь ли вы, ваше величество, рассчитаться, честно и сполна, с людьми, которые кладут за вас свои головы?
– Я рассчитаюсь до злотого! В Москве! Пойдите и возьмите – Москву для меня, деньги для себя.
– Ваше величество, у вас нет денег, но отчего же тогда вы столь расточительны? Вы осыпаете золотом пана Юрия Мнишка и особенно пана Адама Вишневецкого.
– Это сказано слишком сильно. Я люблю этих людей, но я, увы, не могу дать им по любви моей. К тому же Вишневецкий покинул нас.
Пан Млоцкий повернулся к своим товарищам, вошедшим в кабинет государя.
– Это не бунт, ваше величество. Нас десять. Мы избраны всем войском, чтобы произвести ревизию казны, ибо добывают ее все, а тратит один.
Тотчас для дачи показаний был вызван Юрий Мнишек. Его спросили, не получил ли он тридцати тысяч, собранных паном Побединским во Пскове. Деньги эти были привезены в Тушино и канули.
– Господа! – изумился Мнишек. – Я живу среди солдат, испытывая те же трудности, что и вы. Мне обещано государем триста тысяч, но получил я из казны только две тысячи.
О том, что царский тесть недоволен жизнью в Тушине, было следователям известно, они поверили Мнишку.
В конце концов выборные решили взыскать деньги на жалованье войску с русских городов. Во все присягнувшие воеводства были отправлены комиссары – один поляк, один русский – с требованием обложить города и селения налогом и собрать средства в самые короткие сроки.
– Это несчастье, – сказал Меховецкий Вору. – Пан Млоцкий поссорит ваше величество с вашим народом.
– Но что же мне делать?!
– Вашему величеству следует разослать в города и села своих людей, приказав не исполнять требования конфедератов.
За одну ночь все письма были написаны и отправлены с верными людьми. Меховецкий подал еще два хороших совета. Первый – раздать тайно деньги донским казакам Заруцкого, чтоб было на кого опереться в час нужды, второй – обзавестись надежной личной охраной, поручив ее не полякам, не русским, а татарам.
Первый совет Вор принял и тоже поспешил исполнить, а со вторым помедлил.
Марина Юрьевна явилась в дом отца, перевезенный из села Тайнинского, в самое неподходящее время. Ясновельможный пан считал деньги. Эти уединенные часы были для старого Мнишка отдохновением и, пожалуй, игрой. Он не был скуп, иначе откуда бы взяться его непомерным долгам, но старость не только кожу морщинит, но и душу.
Марина Юрьевна увидела невольный жест отца, когда он закрыл руками стол и тотчас, опомнившись, свел ладонь к ладони и стал потирать их, словно бы озябшие.
– Ваша милость! Батюшка! – Марина Юрьевна опустилась на колени. – Не оставляйте меня!
– Кто вам сказал эту глупость?
– Я – царица, отец! Я знаю, что вам позволено покинуть лагерь семнадцатого января. Мне, отец, докладывают такое, о чем бы я не желала знать. Например, о готовящейся бане.
– О бане?! – притворно переспросил Мнишек и не стал ломать комедию. – Баня – это сомнительное предприятие Меховецкого.
Марина опустилась на ковер, погладила руками блестящий ворс.
– Как у нас в Самборе. Как в детстве.
– Да, – сказал Мнишек. – Да, мне здесь невыносимо. Я хочу в Самбор! Я ведь все-таки супруг, который вот уже два с половиной года не видел глаза матери твоей.
– Отец, отложите ваш отъезд хотя бы на месяц. Эта скотина относится ко мне, как… – злые слезы брызнули из глаз Марины Юрьевны, – как к какой-нибудь ставшей ненужной кобыле.
– Ты говоришь языком солдата!
– Но вокруг меня одни солдаты. Вас я не вижу неделями. Вы избегаете меня.






